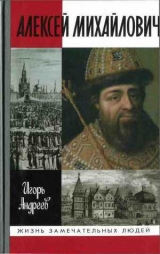
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 51 страниц)
В самый праздник Рождества Христова, после заутрени, царь принимал в Столовой или в Золотой палате патриарха с властями. Для этого в переднем углу ставили государево место, а подле – место для патриарха. Патриарх появлялся в сопровождении соборных ключарей, которые несли крест и святую воду. Следом за владыкой славить Христа и поздравлять царя с праздником шло высшее духовенство. Алексей Михайлович встречал его в сенях. После обычных молитв певчие пели царю многолетие, а патриарх поздравлял с Рождеством Христовым. Посидев в палате, патриарх оставлял Алексея Михайловича и отправлялся с поздравлениями к царице и царскому семейству.
В это время Алексей Михайлович готовился к выходу в Успенский собор. Выход обставлялся необычайно пышно, как и следовало в Господский праздник. Царя облачали в Большой наряд. Сопровождавшие его придворные шествовали в золотных платьях. Одежда в таких случаях приобретала особый, «государственный» смысл. Она не только свидетельствовала о сословной и чиновной принадлежности человека, но и символизировала богатство государя и одновременно подчеркивала патриархальный характер его власти – не случайно золотое и цветное платье выдавалось из казны и в казну возвращалось. Кажется, именно эта частность в устройстве шествия ярче всего характеризует функциональную направленность церковных и придворных церемоний, призванных стать мерилом православно-имперского великолепия и величия московских государей. Этой цели подчинялись все или почти все церемониальные символы и образы-действия.
В свое время замечательный историк и философ Л. Карсавин отмечал, что материальное для историка становится важным тогда, когда оно «выражает, индивидуализирует и нравственное состояние общества, и его религиозные и эстетические взгляды, и его социальный строй». При таком подходе, например, изысканные наряды в Бургундии при Карле Смелом, помпезная процессия испанского самодержца в спальню супруги-королевы или дамская мода в эпоху Директории по принципу: минимум материи – максимум эффекта есть квинтэссенция самой эпохи [428]428
Карсавин Л. П.Философия истории. Берлин, 1923. С. 100–101.
[Закрыть]. Псевдовизантийская пышность московского двора Алексея Михайловича – из этого ряда. По крайней мере, в ней – самовыражение власти.
Число царских выходов впечатляет. В книге царских выходов за 1646 год числится 72 выхода, а еще четыре были связаны с приемами гонцов, посланников и греков; в 1647-м эти цифры, соответственно, – 98 и 11 (включая встречи с литовскими и шведскими послами); в 1649-м – 93 и 7; в 1652 году – 98 и 2.
К сожалению, полную статистику трудно выстроить: в книге царских выходов существуют пробелы как по годам, так и по отдельным месяцам. Но средняя цифра – около 85 церемоний в год – все равно получается внушительной, даже с учетом того, что в последние годы жизни из-за осложнений со здоровьем царь стал пропускать некоторые церковные праздники и крестные ходы.
Пройдет не так много времени, и столь истовая религиозность уже не будет рассматриваться как нечто обязательное для монарха. С легкой руки Петра для государя найдется немало иных дел, искупающих его недолгое пребывание в церкви. Но это в будущем. Для современников же Алексея Михайловича его непременное и обязательное участие во всех церковных церемониях было необходимым подтверждением благочестивого характера Московского царства. В шествующей к Богу власти прежде всего виделась прочность.
Человек и государь
Если церковные церемонии подчеркивали благочестивый характер православного Московского государства и его правителей, то придворные церемонии прежде всего были призваны продемонстрировать могущество и величие царей. Придворным церемониям мы чаще всего обязаны появлению описаний внешности Алексея Михайловича. Ведь именно на них послы и члены их свиты – будущие авторы сочинений – получали возможность лицезреть московского государя вблизи. Естественно, потом случались новые встречи, описание дополнялось новыми деталями, но эти первые, эмоционально самые сильные впечатления оставались преобладающими. Тем более что весь посольский обряд был нацелен на то, чтобы поразить гостей образом государя. Алексей Михайлович оставался в центре всей церемонии. Образ его слагался из окружения, интерьера, наряда, внешности, жеста, строго регламентированного поведения. На каждой аудиенции Алексею Михайловичу приходилось играть трудную роль под общим названием Державность и Величие. Справлялся он с ней совсем неплохо, благо внешний вид немало тому способствовал. «Алексей статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках, волосы у него белокурые и красивая борода; он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность… Теперь он на 36-м году жизни» – так описывал второго Романова Августин Мейерберг.
А вот описание голландца Витсена: «По фигуре царь очень полный, так что он даже занял весь трон и сидел будто втиснутый в него… Царь тоже не шевелился, как бы перед ним не кланялись; он даже не поводил своими ясными очами и тем более не отвечал на приветствия. У него красивая внешность и очень белое лицо, носит большую круглую бороду; волосы его черные или скорее каштановые, руки очень грубые, пухловатые и толстые». На пухлые руки, между прочим, обратил внимание и Роде. Он вспоминает: целовали «мягкую и пухлую руку царя».
Уроженец Курляндии Яков Рентенфельс: «Росту Алексей… среднего, с несколько полным телом и лицом, бел и румян, цвет волос у него средний между черным и рыжим, глаза голубые, походка важная, и выражение лица таково, что в нем видна строгость и милость…»
В отличие от дипломатов, Самуэль Коллинс имел возможность близко общаться со вторым Романовым, причем нередко это было общение врача с пациентом. Поэтому его воспоминания вызывают особый интерес. Царь, писал Коллинс, «красивый мужчина, около 6 футов ростом, хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы светловатые, а лоб немного низкий. Его вид суров, и он строг в наказаниях, хотя очень заботится о любви своих подданных».
Коллинс не ограничился одним описанием. В его сочинении встречаются детали, дополняющие набросанный им портрет: «Наружность императора красива; он двумя месяцами старее короля Карла II и здоров сложеньем; волосы его светло-русые, он не бреет бороды, высок ростом и толст; его осанка величественна; он жесток во гневе, но обыкновенно добр, благодетелен, целомудрен, очень привязан к сестрам и детям, одарен обширной памятью, точен в исполнении церковных обрядов, большой покровитель веры» [429]429
Коллинс С.Указ. соч. С. 200, 221. См. также: Мейерберг А.Указ. соч. С. 120; Витсен Н.Указ. соч. С. 96; Роде А.Указ. соч. С. 15; Рентенфельс Я.Указ. соч. С. 389.
[Закрыть].
Итак, первое, что бросалось в глаза современникам второго Романова, – его полнота и дородность. Эти описания вполне совпадают с сохранившимися портретами и парсунами Алексея Михайловича. Причем многие из этих изображений выполнены в «живописной» манере. Этим мы обязаны переходному характеру эпохи, которая превратила «писание с живства» – позирование художнику – в занятие, вполне достойное государя. К сожалению, большинство портретов и парсун, написанных русскими и западноевропейскими художниками, до нас не дошли. А те, что сохранились, появились, судя по всему, уже после смерти второго Романова. Однако нет сомнения, что художники при их создании использовали недошедшие прижизненные царские «персоны». Тем более что это были художники, начавшие работать в Оружейной палате еще при Алексее Михайловиче.
Замечательно и то, что портретны даже иконописные изображения государя. В 1668 году знаменитый «государев иконник» Симон Ушаков написал для церкви Троицы в Никитниках икону Владимирской Божией Матери, или «Насаждение древа Московского государства». В основании древа государственности «государев иконник» поместил Успенский собор, на ветвях – овальные медальоны с ликами князей, царей и святых. В центре поливают древо Иван Калита и митрополит Петр. По краям иконы – Алексей Михайлович с царицей и семьей, в царских одеждах, с нимбами вокруг голов. Царь узнаваем не только по титлу и одеждам – по внешнему облику.
Понятно, что портреты и парсуны, при различии в технике исполнения, подчинялись определенному канону. Это были парадные светские изображения, а не психологические портреты. Алексей Михайлович на них не обуреваем никакими страстями и мыслями. Под стать недвижимой душе – недвижимая, застывшая поза. Оттого столь ощутима полнота, даже тучность Тишайшего. Рассматривая изображения, трудно поверить, что этот человек был неутомимым охотником, часами не покидавшим седло. Может быть, именно поэтому историки находили и находят в одутловатом облике царя признаки нездоровья. Но едва ли современники подобным образом воспринимали царскую «персону». Эстетические вкусы были таковы, что одутловатость скорее трактовалась как дородность – черта, стоявшая ближе к красоте, нежели к болезненности.
Во всех изображениях второго Романова присутствует некая суровость. Брови чуть сведены. Взгляд исподлобья. Трудно сказать, отражали ли в данном случае художники выбор, сделанный самим царем. Но, несомненно, извечная борьба природного благодушия с потребностью быть строгим и даже суровым накладывала свой отпечаток на царя. Тот же Коллинс говорит о взыскательности и требовательности государя. И все же большинство авторов отмечают кротость и милостливость царя, его редкие добродетели. Если даже он порой гневен и недобр, то потому, что его окружают доносчики и бояре, «которые направляют ко злу его добрые намерения», что препятствует ему стать «наряду с добрейшими государями».
Из светских церемоний более всего Алексей Михайлович любил приемы послов, встречу или проводы войска. Пройдет не так много времени, и при Петре триумфальные шествия станут главными церемониями царствования. Образ императора как военного вождя, богоподобного завоевателя выступит на первый план [430]430
Уортман Ричард С.Сценарии власти. С. 70–71.
[Закрыть]. Алексей Михайлович и в светских церемониях по-прежнему будет выступать как образ святости. Однако саму эту «святость» дополнит внушительная «имперская риторика», которая, несомненно, была по душе Тишайшему. Встречи и проводы войск, призванных символизировать могущество православного монарха, здесь занимали центральное место.
Посольская встреча, особенно встреча великих послов, облеченных особыми полномочиями, – зрелище завораживающее как для хозяев, так и для гостей. Любознательный Алексей Михайлович не упускал случая поглазеть на послов в самых различных случаях. Причем за долгие годы было выработано множество приемов, призванных удовлетворить любопытство государя.
Самое простое – взгляд на посольский поезд еще до въезда в столицу. Трудность, однако, заключалась в том, что государь должен был оставаться невидимым для послов и сопровождавших их людей. Именно это приводило к довольно комичным ситуациям. Имперский дипломат А. Лизек рассказывал, как у подмосковной деревни Мамоново в их поезд затесалось несколько придворных, изображавших из себя охотников. Сделано это было, по-видимому, для того, чтобы замедлить движение послов. Вскоре дворяне, как пишет Лизек, «отстали от нас и втерлись в кустарник, где, как после мы узнали, находился его величество и смотрел на нас в подзорную трубу» [431]431
Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. СПб., 1837. С. 343 (ЖМНП. 1837. № 11. С. 343).
[Закрыть].
Но, конечно, такое поверхностное знакомство не могло удовлетворить Алексея Михайловича. Да и не было в нем того, что хотелось увидеть: послы и посольская свита ехали в путевых платьях, с дарами, упакованными в дорожные сундуки. Куда занятнее была официальная аудиенция, на которую послы являлись во дворец во всем великолепии. Тишайший взял за правило наблюдать за въездом великих послов из специального помещения в Воскресенских воротах Китай-города. Пройти туда можно было прямо из кремлевских покоев, по стене через Арсенальную башню. В Разрядах появилась даже новая «разновидность» выхода – «выходы смотреть послов». Все эти выходы совпадали с приездами в Москву великих посольств.
Страсть царя к зрелищам нередко выходила послам боком. Посольский поезд в зависимости от того, где находился государь, двигался урывками. Витсен, ехавший в свите голландского посла Бореля, рассказывал: расстояние, которое можно было пройти за 3 часа, они проехали за 6. При этом дипломаты, не привычные к московской зиме, жестоко продрогли. Причина опоздания – Алексей Михайлович не прибыл вовремя в Кремль, и «его еще не было во дворце, а он всегда наблюдал из башенки за прибытием послов» [432]432
См.: Лаврентьев А. В.Воскресенские ворота Китай-города. В кн.: Лаврентьев А. В.Люди и вещи. М., 1997. С. 154–155; Витсен Н.Указ. соч. С. 86.
[Закрыть].
Алексей Михайлович со своей тягой к «стройству» и «урядству» старался строго придерживаться каждой буквы придворного церемониала. Однако жизнь брала свое, и диапазон изменений простирался от небольших вольностей до крупных нововведений. Тот же Витсен, который писал о величавой неподвижности Алексея Михайловича во время посольской встречи, обронил: когда один из придворных в ответном слове от имени царя не сумел выговорить сложный титул Штатов, все заулыбались. Не устоял и Алексей Михайлович: «Сам царь закрыл рот рукой, чтобы не видели, что он смеется». Маленькая вольность – проявление человеческого чувства, но как много она дает для уяснения атмосферы царского двора!
Тишайший постоянно вмешивался в церемониал и нередко вносил в него свои коррективы. Как правило, они носили мелочный характер. Но для Тишайшего не существовало мелочей! Так, например, чтобы не уронить «царскую честь», Алексей Михайлович готов был чуть ли не собственноручно распределять протазаны – особые копья с длинным и плоским наконечником, служившие оружием для телохранителей царя. В 1658 году по его указу все имевшиеся в наличии протазаны были отобраны у стрельцов и отданы стрельцам двух «ближних полков» – Матвеева и Полтева. При этом у 60 лучших Протазанов по распоряжению царя рукояти были обтянуты сукнами с шелковыми кистями. Даже число ударов колокола во время царских выходов не оставалось без внимания Тишайшего, который не упускал случая распорядиться: когда, как и сколько раз бить.
Алексей Михайлович находился в постоянном движении. Бесчисленные перемещения, переезды, походы – чаще не особенно далекие, в подмосковные дворцовые села и охотничьи угодья – в Коломенское, Хорошево, Остров, Чертаново, Воробьево, Преображенское, Покровское, Измайлово; реже – более отдаленные, куда добираться надо было несколько дней – вот что заполняет многие недели его жизни. Ближние поездки обыкновенно были связаны с дворцовыми селами, дальние – это преимущественно богомольные походы в монастыри.
Вот описание традиционного сентябрьского похода царя в Троицу 1659 года, которое мало чем отличается от всех предшествующих и последующих. Пошел царь в Троицу через Петровские ворота вечером 21 сентября и в 3 часу ночи пришел в село Тайницкое. На следующий день царский богомольный поезд добрался до села Братошино, причем по дороге Алексей Михайлович не утерпел и потешился «красною соколиною охотою». 23 сентября двинулись из Братошино в село Воздвиженское и, наконец, 24 сентября, «за полчаса до ночи» прибыли в Троицу [433]433
Дневальные записки… С. 33. См. также: С. 105, 154, 193, 227 и др.
[Закрыть].
В Троице царь гостил несколько дней – стоял службы, трапезничал, раздавал милостыню монахам и нищим. Алексей Михайлович был искренен в своей любви к обители преподобного Сергия. Но мы вряд ли ошибемся, если скажем, что сердце его все же сильнее билось при виде другого монастыря – Саввино-Сторожевского.
Очень живое и очень непосредственное религиозное чувство Алексея Михайловича, его подлинное одухотворение верой с наибольшей полнотой выразилось в отношении к этому монастырю. Своему пристрастию он сумел придать своеобразную камерность и задушевность, которые, в соединении с повседневными хлопотами и заботами об обители, очень важны для понимания религиозности второго Романова.
Саввино-Сторожевский монастырь и до Тишайшего не мог пожаловаться на невнимание московских правителей. Но именно при нем обитель расцвела и заняла одно из первенствующих мест среди православных монастырей. Это первенство, правда, не было закреплено иерархически. В списках монастырей Саввина обитель по-прежнему шла во второй полусотне. Но куда важнее оказывалась близость к государю. Царь настолько проникся интересами «Дома святого Саввы», что превратился в строгого игумена и щедрого ктитора одновременно.
В пристрастии Романова к монастырю есть известная доля случая. Царя, конечно, пленяли дивные звенигородские места. Здесь царь искал уединения и отдохновения в том, что особенно было мило его сердцу. Он молился и охотился, обретая и в том, и в другом столь ценимое им душевное равновесие. Но мало ли в Подмосковье подобных мест и обителей?
Дело, по-видимому, еще и в том, что в выборе царя присутствовал известный расчет. Новая династия с ее подчеркнутым благоговением перед «старыми» святыми очень нуждалась и в «новом» святом, культ которого в сознании народа был бы прочно связан с именем Романовых. Преподобный Савва, ученик Сергия Радонежского, спасший по преданию от смерти самого Алексея Михайловича, вполне подходил на такую роль. Его почитание в народе было широко распространено. Алексей Михайлович придал этому почитанию общероссийский статус. Были открыты и освидетельствованы его чудотворные мощи, изданы Житие и служебник. Обращает внимание быстрота и размах, с какими была проделана эта работа.
По инициативе и на средства Алексея Михайловича в монастыре развертывается большое строительство. Оно было столь значительным, что вызывало нездоровое удивление и темные толки. Монастырский служка Никифор Автомеев обвинил тогда еще молодого царя в том, что «в Звенигороде де государь монастырь строит, а иные разоряет». Любопытно, что обвинение прозвучало не в годы раскола, когда старообрядцы готовы были приписать царю Алексею и не такие вины, а в 1651 году. По-видимому, склонный «к иступлению» служка пересказывал ворчание позавидовавших счастью чужой обители монахов. Впрочем, в его словах слышны и глухие отзвуки монашеского недовольства Уложением 1649 года и деятельностью Монастырского приказа.
Для своих нужд и нужд семьи царь начал возводить в монастыре дворец. Само здание сохранилось и поныне, однако внешний облик его сильно отличается от того, что видел в свое время Тишайший. Уже при Софье произошли значительные изменения: то ли продолжая замысел отца, то ли руководствуясь собственным вкусом, регентша приказала надстроить второй этаж. Некоторые исследователи считают, что царевна при этом преследовала и политические цели: строительство призвано было лишний раз напомнить, кто из наследников Тишайшего является истинным продолжателем дела Алексея Михайловича [434]434
См.: Пустовалов В.Дворец царя Алексея Михайловича в Саввино-Сторожевском монастыре. В кн.: Царские и императорские дворцы. М., 1997. С. 220.
[Закрыть].
С Саввиным монастырем связана история с казначеем Никитой, много дающая для понимания натуры Тишайшего. Сама эта история в водовороте государственных дел кажется совершенно ничтожной. Старец выгнал из монастыря стрельцов, поставленных на постой по распоряжению царя и с согласия престарелого архимандрита. При этом Никита так разошелся, что пришиб посохом десятника и раскидал оружие и имущество стрельцов. Как оказалось, это была не единственная вина старца. Вскрылись и другие проделки, которые тот позволял себе, – пьянство, брань, притеснение монастырских крестьян. Алексей Михайлович был возмущен необычайно. Кажется, ни в каком другом случае Тишайший не выказывал такой горячности, как на этот раз. Оказалось, что благодушного монарха можно было довести до вулканического кипения.
Узнав про проступок, царь послал в обитель для розыска стольника А. Мусина-Пушкина с обширным посланием, адресованным «врагу Божию, и богоненавистцу, и христопродавцу, и разорителю чюдотворцова дому, и единомысленнику сатанину врагу проклятому ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките».
Столь пространное вступление не остудило гнева автора, и он продолжал исчислять аналогии с поступком Никиты:
«Уподобился ты сребролюбцу Июде: яко же он продал Христа на тридесять сребрениц, и ты променил, проклятой враг, чюдотворцов дом да и мои грешные слова на свое умное и збоиливое пьянство и на умные на глубокие пронырливые вражые мысли; сам сатана в тебя, врага Божия, вселился; кто тебя, сиротину, спрашивал над домом чюдотворцовым да и надо мною, грешным, властвовать? Кто тебе сию власть мимо архиморита дал, что тебе без его ведома стрельцов и мужиков моих, Михайловских, бить? Воспомяни евангельское слово: всяк высокосердечный нечист пред Богом. О враже проклятый! за что денница с небесе свергнута? не за гордость ли? Бог не пощадил. Да ты жа, сатанин угодник, пишешь друзьям своим и вычитаешь бесчестье свое вражье, что стрельцы у твоей кельи стоят: и дорого добре, что у тебя, скота, стрелцы стоят! Лутче тебя и честнее тебя и у митрополитов стоят стрельцы, по нашему указу, которой владыко тем жя путем ходит, что и ты, окаянной».
Обвинения Алексея Михайловича приоткрывают подоплеку инцидента. По-видимому, Никита, предугадывая грозу, поспешил оправдаться и разослать друзьям грамотки про стрельцов, заполонивших обитель. Попытка не осталась незамеченной Тишайшим. «И дороги ль мне твои грозы? – ярился Алексей Михайлович. – Ведаешь ли ты, что, опричь Бога и Матери Его, владыче нашей Пресвятой Богородицы, и света очию моею чюдотворца Савы, и не имею, опричь той радости, никакой и надежды; то моя радость, тег мое и веселье и сила и на брани против врагов моих, и не твои мне грозы, и своего брата, государя, и те грозы яко пучину вменяю, потому: Господь – просвещение мое и спаситель мой – кого убоюся? Да за помощию Пресвятой Богородицы и за молитвою чюдотворца Савы ничье грозы не страшны.
Ведай себе то, окаянной: тот боитца гроз, которой надежю держит на отца своего сатану, и держит ее тайно, чтоб никто ее не познал, а перед людьми добр и верен показует себя. Да и то себе ведай, сатанин ангел, что одному тебе и отцу твоему, диаволу, годна и дорога твоя здешняя честь, а содетелю нашему, Творцу небу и земли и свету, моему чюдотворцу, конешно, грубны твои высокопроклятые и гордостные и вымышленные твои тайные дела; ей, не ложно евангельское речение: не может раб двемя господинома работати, а мне, грешному, здешняя честь аки прах, и дороги ль мы пред Богом с тобою и дороги ль наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся, доколе отвращаемся, доколе не всею душою и не всем сердцем заповеди Его творим, ведаешь ты, окаянной, сам творяи заповеди Божия с небрежением, проклят и горе нам с тобою и нашему збоиливому и лукавому сердцу и злой нашей и лукавой мысли, и люто нам будет в день ярости Господа Саваофа, не пособят нам тогда наши збоиливые и лукавые дела и мысли.
Ведай себе и то, лукавый враг, как ты возмутил ныне чюдотворцевым домом да и моею грешною душою: ей, до слез стало, чюдотворец видит, что во мгле хожу от твоего збоиливого сатанина ума, возмутит тебя и самово Бог и чюдотворец. Ведай себе то, что буду сам у чюдотворца милости просить и оборони на тебя со слезами, не от радости буду на тебя жаловатца, чем было тебе милости просить у Бога и у Пречистой Богородицы и у чюдотворца и со мною прощатца в грамотках своих, и ты вычитаешь бесчестие свое, и я тебе за твое роптание спесивое учиню то, чего ты век над собою такова позору не видал. Ты променил сие место чюдотворцево на свое премудрое и лукавое и на пьяное сердце и на проклятые мысли, а меня, грешного, тебе не диво не послушать здесь, потому что и святое место продаешь на свой злой нрав, а на оном веце рассудит Бог нас с тобою, а опричь мне того, нечем с тобою боронитца; да и то тебе возвещаю, аще не чистым сердцем покаешися к чюдотворцу и со мною смирися в злых своих роптаниих, ведай, что без проказы не будешь, яко Наман утаился от Елисея пророка, так и тебе тожа будет аще едину мысль утаиши у чюдотворца да по сем буди Богом нашим, Иисусом Христом, и Пречистой Его Материю и чюдотворцем Савою и мною, грешным, буди прогнан и изриновен и отлучен со всяким бесчестием и бесстудием от сего места святого и чюдотворца дому…» [435]435
Цит. по: Соловьев С. М.Сочинения. М., 1991. Кн. 6. С. 589–590; Записки. С. 684–689.
[Закрыть]
Послание любопытно не только своей горячностью, а удивительной смесью человеческого и царского в Алексее Михайловиче. Автор прямо пишет, что «христопродавец» Никита покусился на власть царскую и архимандритскую – задумал «над домом чудотворца да и надо мною, грешным, властвовать». Тут же следуют угрозы, призванные напомнить, кто такой Никита, а кто – царь. Однако Алексей Михайлович спохватывается и зовет казначея на суд Божий, то есть уравнивается с ним, как всякий смертный. Здесь уже все получается наоборот: угрозы Никиты в неблагочестии царя становятся реальными угрозами, да только Тишайший уверяет, что он за помощью Богородицы и за молитвою Саввы их не боится!
Происшедшее страшно огорчило царя. Быть может, потому, что на самом деле Никита лишь озвучил уже знакомые нам обвинения, что «власть царская вступается во власть духовную». От стрельцов, заполонивших святую обитель, до Уложения, ограничившего юрисдикцию владык. Для Тишайшего, искренне верившего, что все, что он делает, он делает во благо церкви, такое обвинение – от «лукавого» и прегордого сердца. И еще – сердца неблагодарного после всего того, что он сделал для монастыря.
Полагаясь на Божий суд, царь, однако, осудил зарвавшегося казначея своим собственным судом. Мусину велено было вычитать царское послание перед собором и наложить на Никиту «чепь на шею, а на ноги железа».
Алексей Михайлович был человеком любознательным и увлеченным. Однако ни одно из его увлечений не может сравниться по силе и постоянству с увлечением охотой. Здесь он не знал удержу. В соколиной охоте царь находил радость, вдохновение и сердечную отраду. Он вглядывался в стремительный полет соколов и кречетов с той же жадностью, с какой царь Петр несколько десятилетий спустя примется рассматривать корабельные чертежи. В этом отец и сын похожи друг на друга. И, одновременно, разительно отличны, как отличны их царствования. Петр изначально придал своим увлечениям и досугу государственный характер, совместил «удовольствие» с «пользой». Из его «потешных» выросла гвардия, из ботика – флот, из собрания «уродцев» – первый музей.
От увлечения Алексея Михайловича осталось иное – упоминания иностранцев, царские письма и известный «Урядник сокольничего пути». Это тоже немало, но, конечно, не идет ни в какое сравнение с содеянным Петром. Алексей Михайлович, увлекаясь, развлекался, Петр – созидал. Это сказано вовсе не в упрек нашему герою. Просто различны масштабы личностей и различны эпохи, в которые они жили.
Сам Алексей Михайлович называл себя «охотником достоверным», вкладывая в это определение несколько больший смысл, чем просто «настоящий охотник». Это значит охотник истый, завзятый, не просто знающий до тонкостей охотничье дело, но сумевший поднять охоту до уровня эстетического наслаждения.
Алексею Михайловичу было с кого брать пример. Большим любителем охоты был его отец. Правда, Михаил Федорович более жаловал охоту звериную, в первую очередь травлю медведя и лося. В первые годы своего правления, когда царская псарня являла собой жалкое зрелище, Михаил Федорович даже дерзнул отобрать охотничьих собак у московской знати. Для зимней и летней охоты царя в заповедных лесах ловили зверя и везли ближе к столице, в устроенные для того «лесные рощи». И горе было тому, кто пытался промышлять в заповедных угодьях или сечь лес.
Тишайший довольно быстро «изменил» отцовским пристрастиям. Охота на зверя отошла на второй план, уступив место иной страсти – «красной птичьей охоте». В окружении молодого Алексея Михайловича был еще один любитель птичьей охоты, пример которого, быть может, оказался заразительнее отцовского. Адам Олеарий сообщает, что охотничьих птиц держал Борис Иванович Морозов. Нет сомнения, что он поощрял своего воспитанника, причем не без корысти для себя: сгоравший охотничьим энтузиазмом молодой государь больше думал об охоте, чем об управлении, что, естественно, еще более развязывало руки всесильному Морозову. Правитель, замечает Олеарий, «очень часто увозил его (Алексея Михайловича. – И.А.) на охоту и на другие увеселения».
В юности Алексей Михайлович охотился на медведей, лосей, волков, «осочил» лисиц. Все это требовало неутомимости, ловкости и силы, что, казалось бы, не слишком вяжется с обликом царя. Между тем молодой Романов в самом деле неплохо владел охотничьей снастью, был неутомим и отправлялся в поле или лес при первой возможности. Даже сыграв свадьбу 16 января 1648 года, он уже 21 января, оставив двигавшийся на богомолье в Троицу поезд с молодой царицей, отправился на охоту.
Охотничьи пристрастия государя были хорошо известны подданным, которые не упускали случая воспользоваться царской страстью, чтобы привлечь к себе внимание и заслужить награду. Впрочем, попадались и такие, кто делал это с известной долей бескорыстия, что называется, из любви к искусству. Смоленский шляхтич Станкевич перевел изданный в 1635 году в Риге «Регул (то есть устав. – И.А.), принадлежащий до псовой охоты». Перевод был послан Алексею Михайловичу с подкупающим признанием человека, разочарованного в людях. «Ваше величество! – писал шляхтич. – Живу на свете 63 года, а веселости ни в каких забавах не нахожу, кроме псов». Шляхтич сетует на «бездельные порядки», то есть непорядки, которые он усмотрел в псовой охоте на Руси, и ратует за ее исправление для устроения истинной забавы для дворянства.
В отличие от обычной охоты, в которой удачливость и мастерство охотника определяются количеством и размерами добытых трофеев, в птичьей более всего почитались красота полета и выучка птицы. Нет сомнения, что «красная потеха», начиная с обучения птиц и кончая самым главным действом – охотою, более всего отвечала эстетической натуре Тишайшего. Он приходил в восторг, когда наблюдал за полетом сокола или челиги, и столь же искренне огорчался, когда птица не оправдывала надежд, подводила. Переполнявшие его чувства иногда были столь сильны, что требовали немедленно излить их на бумагу. Адресатом царя чаще всего оказывался Афанасий Матюшкин, не менее ярый поклонник «красной потехи». Алексей Михайлович мог быть уверен в том, что главный ловчий не только поймет все его – даже невысказанные – мысли, но и испытает настоящее наслаждение от одного описания охоты. Понять же было немудрено – в безмерной любви своей к охоте Алексей Михайлович был необычайно выразителен.
Примеров тому множество. Однажды, отправившись «отведывать» (опробовать) птиц за Сущово к Напрудному, царь наехал на «прыск» – залитое весенним паводком мелкое место. Прыск был небольшой, шесть саженей на два, и острый глаз царя тотчас приметил все преимущества. «Да тем хорош, – пишет он Матюшкину, – что некуда утечь, нет иных водиц близко». Тотчас пустили любимого царского сокола Мадина, но он «не слез» – не спустился за добычей. Следом подбросили дикомыта (птицу, обученную «не с гнезда», прирученную уже взрослой) ловчего Семена Ширяева. Дикомыт не подвел, и царь в восторге не поскупился на превосходные степени: «Так безмерно каково хорошо полетел, так погнал да осадил в одном конце два гнезда шилохвостей»; затем одно «утя… как мякнет по шее, так она десетью перекинулась» [436]436
Собрание писем царя Алексея Михайловича. М., 1856. С. 70; Сборник Муханова. СПб., 1866. С. 223.
[Закрыть].








