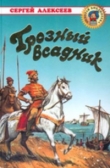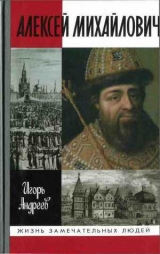
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 51 страниц)
Обращение царя кажется неуместным и бестактным. Бестактным в свете того, что произойдет по завершении суда и что, собственно, уже предрешено – «я должен… испытать на себе твой гнев»; неуместным – имея в виду место и время, когда царь завел речь о примирении. Но между тем все было сделано совершенно в духе Тишайшего. Царь в смятении, в душевном нестроении. Для него слишком мучительна ситуация, когда государь и православный человек оказываются как бы порознь. Ведь говоря о примирении, он имел в виду вовсе не прощение Никона: бывший патриарх должен понести наказание по мере своих проступков, и он, как государь, требует и желает этого. Но он же и жаждет христианского примирения и взаимного прощения. Это позднее, когда сознание долга перед Отечеством станет для правителя оправданием любого проступка и даже потеснит библейские заповеди, такое раздвоение уже не станет мучить Романовых. Совесть, усыпленная чувством честно исполненного долга, редко будет напоминать о себе. Но для Тишайшего, человека глубоко и искренне верующего, такое раздвоение томительно. Не случайно до самой своей смерти он станет испрашивать у старца Никона «прощения и разрешения». Никон уступит, лишь узнав о смерти государя. Да и уступка это будет несколько странная, скорее полууступка, полупрошение сквозь слезы и незажившую обиду: «Воля Господня да будет… Подражая учителю своему Христу, повелевшему оставлять грехи ближним, я говорю: Бог да простит покойного» [333]333
Бриллиантов И.Патриарх Никон в заточении на Белеозере. СПб., 1899. С. 102.
[Закрыть].
…Чтение правил и канонов завершилось обращением патриархов к епископам с вопросом о наказании Никона. Спрашивали по отдельности греческих и русских иерархов. Греки объявили, что Никона следует канонически низвергнуть и лишить права совершать службы. Русские епископы, естественно, ответили в том же ключе: «Пусть он будет низвергнут самым полным образом, ибо он виновен во многих винах».
Затем патриархи объявили о низвержении Никона и перечислили его вины: бывший патриарх отрекся от престола без всякой законной причины; Константинопольскому патриарху писал, что русские приложились «к западному костелу» и отступились от православной веры, чем русскую церковь «обругал», всех православных христиан и самого царя обесчестил; соборные правила, по которым судили Никона, он также отверг и называл «враками», чем бесчестил уже вселенских патриархов.
Сильным и едва ли не единственным оружием защиты Никона на суде была ирония. Владел он ею если не виртуозно, то, по крайней мере, мастерски, вызывая своими едкими, саркастическими замечаниями раздражение своих противников. Досталось от него всем: и тем, кто раскрывал рот, и кто помалкивал. Великие ненавистники строптивого владыки, московские бояре, на суде больше молчали. Не только потому, что суд был церковным. Бояре успели столько намутить еще до суда, что теперь не было никакой надобности что-то говорить. Никон, однако, это красноречивое молчание приметил и прошелся по адресу своих гонителей. «Благочестивый государь, – обратился он к царю, – девять лет они готовились к этому дню, а теперь и рта не могут открыть. Прикажи уж им лучше бросать в меня камни, это они скорее могут делать».
Однако объявить Никону о низложении было полдела. Как сформулировать соборное постановление так, чтобы не просто придать ему законный характер, а добиться признания его другими восточными патриархами? Царю пришлось даже накануне объявления приговора в продолжение нескольких часов совещаться с патриархами, чтобы предусмотреть все детали. Будущее показало, что опасения оказались чрезмерными. Константинопольский и Иерусалимский владыки признали решения собора. Но произошло это не в результате изощренной казуистики. Просто, оказавшись перед фактом, восточные патриархи посчитали за благо не ссориться с православным государем, чей гнев мог оказаться для них чувствительным во всех отношениях.
12 декабря в Крестовой палате участниками церковного собора было подписано постановление о низложении Никона. Вины были все те же: бывший патриарх «влагался в дела неприличныя патриаршему достоинству и власти», отчего учинились многие «смути». Далее речь шла о публичном его отречении от патриаршества и самовольном оставлении престола и паствы, о сопротивлении избранию нового архипастыря, клевете на царя и патриархов, об утверждении, будто русская церковь впала в ересь. К приговору были присовокуплены обвинения, «заработанные» Никоном уже на суде – сомнения в правилах, взятых из греческого Номоканона, и оскорбление патриархов.
На церемонии чтения приговора и низложении Никона царя не было. Зато присутствовали присланные им бояре, Одоевский и Салтыков, и все церковные власти. Торжествовали многие, но далеко не все. Архиепископ Симон Вологодский, сказавшись больным, попытался уклониться от сомнительной чести. Но даже с таким робким нарушением «единодушия» царь не захотел согласиться. Архиепископа принесли на носилках в церковь Благовещания, где проходила церемония, и положили в углу – плакать.
Приговор прочли сначала на греческом, затем на русском языках. Александрийский патриарх собственноручно снял с Никона клобук и панагию: «А иже кто от ныне дерзнет именовати его патриархом, да будет повинен во епитимиях святых отец» [334]334
СГГД. Т. IV. С. 182–186; Гиббенет Н.Указ. соч. С. 1093–1097.
[Закрыть].
Никон встретил приговор с редким достоинством. По описанию Шушерина, он не молчал и бросал своим судьям грозные обвинения. Жезл пастырский, напоминал бывший патриарх, получил он не по домогательству, но по желанию и слезному молению бесчисленного народа. Никон не признавал ни суда над собой, ни самих патриархов-судей – по его определению пришельцев и наемников. Если они творят справедливое дело, то почему тайно? – вопрошал он. Где государь и народ? Пойдемте в собор, где он принимал сан, снимите его прилюдно, на глазах тех, при ком он возводился в патриаршее достояние! Ему меланхолично отвечали: там или здесь – все едино, «а что государя здесь нет, в том воля его царского величества» [335]335
Архимандрит Апомос.Начертание жития и деяний Никона, патриарха Московского и всея России. М., 1859. С. 83–84. № 8329.
[Закрыть].
В заключение патриархи прочитали низложенному владыке поучение: отныне Никону предлагалось жить тихо и немятежно, патриархом не называться и не писаться – но вечно каяться в своих прегрешениях. Надо было знать Никона, чтобы сказать ему такое: он взорвался, нашел слова, полные сарказма: знаю и сам, как жить, а они бы лучше с клобука жемчуг и панагию между собой разделили…
Никону не нужно было искать причин своего падения. А ведь он знал безошибочное отечественное средство существования во власти, рецепт патриаршества до смертного часа. «Отчего это приключилось с тобой?» – задавался он позднее скорбным вопросом к самому себе и сам же находил правильный ответ: надо было только не говорить правды и не терять дружбы – «если бы ты вечерял с ними за роскошными трапезами, то этого не случилось с тобой» [336]336
Бриллиантов И.Указ. соч. С. 12.
[Закрыть].
Кто скажет, что Никон был не прав?
Какие чувства обуревали Алексея Михайловича во время и после суда над Никоном?
Судя по поступкам, Тишайший, признавая свою правоту в главном, не мог забыть о собственном лукавстве. Чего только стоило утверждение, что он не держал гнева на патриарха в канун их разрыва и не являлся на патриаршие литургии за недосугом! Здесь всё всем, в том числе и царю, было ясно, хотя современники, приняв условия игры, послушно поддакивали. Легко было царю заставить говорить нужное других, но как обмануть себя?
В иные минуты Алексей Михайлович как будто готов был защитить бывшего «собинного друга». Когда выведенный из себя Мстиславский епископ Мефодий замахнулся на Никона, царь пришел в негодование. Это не ускользнуло от внимания присутствующих. Наступило замешательство, которым тотчас воспользовался Никон: «Девять лет приготовляли то, в чем хотели обвинить меня, и никто не может вымолвить ни слова, никто не отверзает уст», – торжествующе произнес он.
Нельзя не обратить внимание еще на одно обстоятельство, подчеркнутое таким исследователем и поклонником опального патриарха, как М. В. Зызыкин. На суде не было произнесено ни одного слова о том, что Никон вознамерился утеснить власть царскую. Патриарх обвинялся в самовольном оставлении престола, в превышении полномочий, оскорблении царя, патриархов и всех православных христиан, в отрицании «греческих правил». Но о вине, которая затем станет фигурировать во всех учебниках и книгах как главная, – молчок! М. И. Зызыкин объясняет это тем, что власти просто не решились на такое, поскольку понимали, что Никон вмешивался в государственные дела настолько, насколько сам царь позволял и привлекал его [337]337
Зызыкин М. В.Указ. соч. С. 132.
[Закрыть]. Но вероятнее иное объяснение. Царь, по-видимому, счел нецелесообразным выносить подобное обвинение на церковный суд. С лихвой хватало того, что было выдвинуто против патриарха. Да и тема была слишком острая, чтобы раздувать ее.
Сыграла свою роль и «чувствительность» Алексея Михайловича. Царь очень пекся о своем образе самодержавного государя. Чего, к примеру, стоила фраза о том, что Никон «влагался» в дела, «неприличные» его достоинству и власти? Ведь получалось, что и царь проявил «слабость», раз допустил такое.
Словом, во всем этом деле царь оказывался не без греха, и, похоже, он сам догадывался об этом. Брошенные в сердцах Никоном обличительные слова: «моя кровь и грех всех на твоей голове, царь», не давали покоя. Надо думать, что на душе у него было горько. Потому не одна только христианская этика, но и подсознательное чувство вины побуждали его испросить у Никона прощение и позаботиться о нем.
Никон еще не покинул монастырское подворье, чтобы отправиться к месту ссылки – в Ферапонтов монастырь, как Тишайший прислал к нему боярина Родиона Стрешнева за благословением. Последовал решительный отказ: боярин по сути был выставлен за дверь вместе с царскими дарами в дорогу. Царь, по-видимому, не случайно послал Стрешнева – личного недруга Никона. Он словно бы призывал старца Никона подняться над обидами, проявить христианское смирение. Но здесь коса нашла на камень.
Месяц спустя, в январе 1667 года, Никон сам вернулся к теме прощения, прислав из монастыря царю грамотку: «Ты боишься греха, просишь у меня благословения, примирения, но я даром тебя не благославлю, не помирюсь; возврати из заточения, тогда прощу…» [338]338
Там же. С. 155.
[Закрыть]. И адресат, и автор хорошо понимали, что стоит за словами «возврати»: возвратить – значит признать неправым весь суд и все то, что было сделано для никоновского осуждения, принять на себя вину за «сиротство церкви». Для царя, конечно, такое было абсолютно невозможно. Но насколько трудно, насколько невыносимо оказалось для него жить с чувством вины, без примирения!
Священство и царство
Никон покинул Кремль, но тень его продолжала нависать над участниками церковного собора. Осталось «наследие» Никона, обойти которое не было никакой возможности. Как же следовало выстраивать после всего происшедшего отношения между «царством» и «священством»? Очень скоро выяснилось, что многие члены собора мечтают о поправлении нарушенный симфонии. Иными словами, они не далеко ушли от низвергнутого Никона! Неутомимые гонители патриарха, Крутицкий митрополит Павел и Рязанский архиепископ Иларион отказались подписывать соборное осуждение из-за неприемлемой для них формулы о соотношении церковной и светской властей. Удар был тем более чувствительный, что царь сам двигал Павла, жесткость и решительность которого сочеталась с образованностью и знанием польского и латинского языков.
Павел и Иларион всесоборно объявили, что «степень священства выше степени царского». Мотив был слишком знакомый, чтобы не понять, откуда дует ветер. Так было еще раз подтверждено, что никоновский «бунт» был не просто бунтом одиночки: неудовольствие испытывали многие представители высшей церковной иерархии, готовой биться за дело Никона… без Никона. Вполне возможно, что их планы не простирались так далеко, как теократические поползновения бывшего патриарха, но зато они были определеннее: архиереи резко выступали против вмешательства в епархиальные дела светской власти.
В этот драматический момент и выяснилось, что не напрасно Алексей Михайлович привечал греков. Последние были равнодушны к кровным интересам русских архиереев, не говоря уже о том, что выстраивали свои взаимоотношения с царской властью на иных началах. Потому оба восточных патриарха, под одобрительные голоса остальных греков, обвинили русских «князей церкви» в цезарепапизме и своим авторитетом помогли задавить новый бунт еще в зародыше.
Как обычно, особенно витийствовал Паисий Лигарид, поставивший своей изощренной казуистикой в неловкое положение даже самого Алексея Михайловича. В прежние времена, заявил он, архиереи были «златые по нравам, хотя служили на деревянных дисках и потирах»; ныне же епископы поведением не крепки, хотя и совершают таинства «в сосудах златых и преукрашенных». Конечно, были бы прежние святители, и тогда он, Паисий, предпочел бы их «всякому Кесарю и Августу, над землей начальствующим». Но таких нет. Оттого «царю надлежит казаться и быть выше других», соединяя в своем лице «власть государя и архиерея».
Для Паисия таковым идеальным православным государем был Алексей Михайлович. Верный своему правилу льстить без меры, «истолкователь правил» витийствовал по поводу Тишайшего: «Поистине наш державнейший царь, государь Алексей Михайлович, столь сведущ в делах церковных, что можно подумать будто целую жизнь был архиереем… Ты, Богом почтенный царю Алексие, воистину человек Божий… Вы боитесь будущего (выпад по адресу русских епископов. – И.А.), чтобы какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным… не поработил бы церковь российскую. Нет, нет! У доброго царя будет еще добрее сын его наследник. Он будет попечителем о вас. Наречется новым Константином, будет царь и вместе архиерей…»
Остается загадкой, насколько были приятны льстивые речи Лигарида слуху Тишайшего. Но то, что они во многом расходились с русской традицией, несомненно. Царь предпочитал найти более приемлемую формулу и избежать конфликта с епископатом. Конфликт, впрочем, не нужен был никому. Дело Никона и без того сильно пошатнуло авторитет церкви. Обе стороны – власть светская и власть духовная – нуждались в стабильности и искали компромисс.
Алексей Михайлович сам вынес на Собор вопрос о взаимоотношении светской и церковной властей. В январе 1667 года было объявлено, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх – в церковных. Сотрудничество же, то есть симфония «христолюбивых царей и благочестивых архиереев, составляет единую силу, когда дела управляются с миром, любовию». Так была определена или, точнее, подтверждена линия размежевания компетенции царя и патриарха. В загодя приготовленном ответе патриархов эта формула получила более полное толкование, вполне устраивавшее самодержавного монарха. «Царю убо быти совершенна Господа и единого быти законодавца всех дел гражданских. Патриарха же быти послушлива царю, яко поставленному на высочайшем достоинстве и отмстителю Божию…» [339]339
Карташев А. В.Указ. соч. С. 214, 216.
[Закрыть]
Согласно источнику, торжественно провозглашенная формула нашла у участников Собора всеобщее одобрение: «Все воскликнули: сие есть мнение богоносных отец! Так мыслим все!»
Этикетная формулировка скрыла от нас подлинное настроение русских иерархов. Должно быть, далеко не все из них были удовлетворены подобной «реставрацией» знаменитой симфонии. Тот же Иларион Рязанский и Павел Крутицкий продолжали жаловаться на засилье светской власти, из-за чего их пришлось соборно смирять – обвинить в том, что они «никонствуют и папствуют», и наложить епитимью. По этому поводу Паисий Лигарид заметил, что прочие русские иерархи, отвыкшие повиноваться, «пришли в страх от сего неожиданного наказания».
Тем не менее, опираясь на решение Собора, русский епископат упрочил свои позиции. Было объявлено об упразднении Монастырского приказа, а с ним и института светских архиерейских чиновников, сильно тяготивших своей опекой высшее духовенство. А ведь Монастырский приказ был не просто проявлением новой церковной политики светской власти, но символом изменившейся государственной идеологии! Таким образом, буря, поднятая Никоном, не прошла даром. «Наступление» светской власти на позиции церкви и священства было частично приостановлено. Но только частично! Чего стоит, например, такая характерная деталь: последний Поместный собор чаще проходил в царской Столовой палате, чем в Патриаршей!
С низложением Никона можно было наконец поставить точку в затянувшейся истории с «сиротством» русской церкви. Хлебнув лиха со строптивым «собинным другом», Алексей Михайлович на этот раз совершенно определенно мог ответить, какой патриарх ему был нужен. Прежде всего покладистый и «недерзновенный», у которого не могло бы появиться и мысли вступаться в мирские дела. При этом новый владыка должен был навести порядок в церкви, унять раскольников и собственных архиереев, успевших привыкнуть за годы «бесчинного безначалия» к известной свободе. Здесь, впрочем, Алексей Михайлович оказывался в ситуации трудноразрешимой. Обуздать пораспустившихся епископов, которые стали называть себя «великими государями» и «свободными архиереями», мог лишь сильный владыка. Но сила и напор редко уживаются с «недерзновенностью». Между тем «бунт» Илариона и Павла, которые вздумали, по определению Лигарида, «папствовать и никонианствовать», свидетельствовал, сколь упрямо держатся за свои права отечественные епископы.
Может быть, именно поэтому в числе кандидатов на патриарший престол на этот раз не оказалось ни одного епископа. Царь предпочел искать «недерзновенного», сговорчивого патриарха среди архимандритов и игуменов, не успевших проникнуться корпоративным духом «князей церкви». Выбор пал на архимандрита Троице-Сергиевского монастыря Иоасафа (1667–1672). Общение с ним позволяло надеяться, что он будет чутко прислушиваться к тому, о чем говорят в царских теремах, и уж тем более не станет выкидывать экстравагантные поступки по образу своего предшественника. Забегая вперед, скажем, что Иоасаф II вполне оправдал возлагаемые на него надежды. Времена бесконечных столкновений с архипастырем отошли в прошлое. Зато новые книги, обрядовые и литургические новшества стали утверждаться в повседневной церковной жизни. Ослушников при Иоасафе наказывали строго и, не в пример Никону, последовательно, без прежнего надрыва и бесконечных перепадов в настроении.
Избранный без промедления и без каких-либо затруднений на том же соборе, новый патриарх продолжил исправление и издание богослужебных книг. При нем Печатный двор выпустил Большой и Малый Катехизисы, Триодь цветную и Триодь постную. Благодаря этому перемены в церкви утрачивали характер новин. Тишайший, для которого церковная реформа стала кровным делом, мог, кажется, впервые за долгие годы перевести дух.
Между патриархом и царем установились ровные отношения. Они, конечно, были лишены той задушевности, которая существовала между Никоном и Алексеем Михайловичем в конце 40-х – первой половине 50-х годов. Причем не только потому, что Тишайший, раз ожегшись, теперь готов был дуть на ледяную воду. Просто повзрослевший царь смотрел на все другими глазами и не искал с прежним рвением, к кому бы «прислониться». Иоасаф же был человеком старого закала и жил в традициях русской церковности, сторонившейся мирской суеты.
Зато царь по-прежнему продолжал активно соучаствовать в делах церкви. Правда, это участие во многом утратило ту, отчасти вынужденную прямизну, которая вызывала такое бурное негодование у Никона. Однако это вовсе не означало возвращение к дониконовским временам. Происшедшее уже нельзя было предать забвению: все знали, что случается с теми, кто противится царской воле. Собранный по инициативе царя Собор запустил «механизм» укрощения высшего пастыря, причем не так, как это случалось прежде – насильственным низложением и небрежением над уставами, а подчеркнуто законно. А это означало, что в глазах большинства право и нравственность не расходились друг с другом.
Но личный опыт иерархов – лишь одна сторона дела. Раскол, помимо воли инициаторов реформ, ослабил церковь. После 1667 года она, как никогда прежде, нуждалась в поддержке государства. Слово слишком плохо смиряло церковных «супротивников». Да и сами расколоучителя владели им ничуть не хуже своих оппонентов, отчего полная сочувствия к гонимым толпа с готовностью внимала им. Поневоле приходилось прибегать к помощи власти. Алексей Михайлович оказывал ее вполне бескорыстно, видя в том свою обязанность. Но в том-то и дело, что это бескорыстие все равно оборачивалось растущей зависимостью церкви от самодержавного государства. И никакие постановления Соборов с этим ничего поделать не могли.