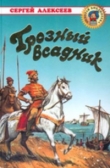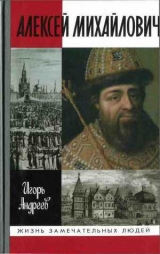
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 51 страниц)
Психологически Алексей Михайлович был готов принять эту ответственность. Но он понимал и свою неподготовленность, боялся своей слабости. Это его страшило и побуждало с особым старанием внимать поучительным словам патриарха, которые не менялись с самого первого венчания Ивана Грозного: «Имей страх Божий в сердце и храни веру христианскую греческого закона чисту и непоколебиму, соблюди царство свое чисто и непорочно… Бояр же своих и вельмож жалуй и бреги по их отечеству… К всему христолюбивому воинству буди приступен и милостив… Всех же православных крестьян блюди и жалуй и попечение имей о них ото всего сердца…»
Тема «сердца» зацепит Алексея Михайловича и затем неоднократно будет звучать во время его царствования в его собственных речах и особенно писаниях. Слова Евангелия: «Сердце царево в руке Божией. Бог же есть любовь» – для него всегда будут больше, чем просто наставление.
К концу 1645-го – началу 1646 года в верхах произошли заметные перемены. По замечанию австрийского посла Августина Мейерберга, живо интересовавшегося историей придворной борьбы при Алексее Михайловиче, Борис Иванович сразу же принялся теснить соперников: «Однако ж хитрый наставник Морозов, державший по своему произволу скипетр, чрезвычайно еще тяжелый для руки юноши, по обыкновенной предосторожности любимцев отправил всех бояр, особенно сильных во дворце расположением покойного царя, в почетную ссылку на выгодные воеводства» [72]72
Мейерберг А.Путешествие в Московию… С. 119.
[Закрыть].
Первым потерял значение Ф. И. Шереметев. Большая часть подведомственных ему приказов отошла к Морозову. В конце концов в руках Бориса Ивановича оказались приказы, обладание которыми свидетельствовало об особой близости к государю. Это были Аптекарский и Стрелецкий приказы. Первый давал право беспрепятственного доступа к царю, поскольку его глава отвечал за царское здоровье. На второй возлагались задачи охраны особы государя и обеспечение порядка в столице. Приказы Большой казны и Новой Четверти поставили Морозова во главе финансовой системы страны. В 1646 году Борис Иванович возглавил также важный в военном отношении Иноземский приказ. Впрочем, число приказов совсем не отражало объема реальной власти, оказавшейся у Морозова. Она была куда весомее и значительнее. Настолько весомее, что впору говорить об эпохе Морозова, а не Алексея Михайловича.
Смена «караула» только внешне происходила безболезненно и спокойно. Напряженность в верхах, и немалая, сохранялась. Недовольных хватало. В оппозицию к Морозову встали некоторые родственники царя, не без основания посчитавшие боярина виновником их прозябания на вторых ролях. Оттесненная старая аристократия, сторонники Ф. И. Шереметева, также были разочарованы и затаились в ожидании подходящего момента для реванша.
Обострение борьбы в верхах привело к тому, что новое правительство оказалось во многом зависимо от настроений поместной армии. Это обстоятельство не ускользнуло от провинциального люда. Уездные корпоративно-служилые объединения дворян и детей боярских, так называемые «города», поспешили воспользоваться борьбой в верхах для реализации собственных интересов. В октябре 1645 года, с роспуском дворян из «береговых» пограничных полков (поздней осенью уже не приходилось опасаться прихода крымских татар), Москву «осадили» дворянские челобитчики. От каждого служилого «города» в столицу было отпущено по два человека, отчего они и назывались «двойниками». Возможно, что по прошествии многих лет именно их Г. Котошихин принял за выборных, присланных на «избирательный» Земский собор.
Челобитная от 44 служилых «городов» была подана с «большим невежеством». В своем обращении служилый люд поднял темы, давно уже знакомые по прежнему царствованию. Дворяне и дети боярские жаловались на насилия «сильных людей», безнаказанно преступавших все законы, на свое бедственное материальное положение, из-за которого государевой службе «чинится большая поруха», на крестьянские побеги и режим урочных лет, ущемлявший их владельческие права. Рецепт оздоровления был универсален: немедленно отменить урочные лета, которые вели к разорению уездного дворянства.
На прежние подобные требования правительство Михаила Федоровича с завидным упорством отвечало лишь удлинением урочных лет. С конца 30-х по 1645 год их продолжительность выросла вдвое – с 5 до 10 лет. Но за внешней уступчивостью первого Романова скрывалась, по сути дела, лишь видимость: судебная практика к этому времени позволяла возобновлять отсчет урочных лет каждый раз заново с момента подачи новой челобитной. Иначе говоря – растягивать сыскную давность до бесконечности. Но не об этом грезили помещики. Раз за разом они поднимали вопрос о полном прикреплении земледельца, лишении его всякой надежды сменить одного помещика на другого.
Борис Иванович не посмел открыто игнорировать требования служилых «городов». К тому же к этому времени стал ясен тупиковый характер привычного «арифметического» разрешения проблемы. Простое удлинение урочных лет как средство успокоения разбушевавшегося провинциального дворянства уже не могло дать новым правителям стабильность. Глава правительства решился на отмену урочных лет. Однако Морозов не был бы Морозовым, если бы не нашел возможность провернуть все дело так, чтобы убытки «сильных людей» оказались минимальны. Для него это был вопрос вполне актуальный: ведь он сам беззастенчиво переманивал у окрестных мелких землевладельцев их крестьян. Октябрьский указ 1645 года объявил об отмене урочных лет, но лишь после составления новых крепостей – переписных книг. Практически это означало, что с появлением книг большинство помещиков-истцов утрачивали собственнические права на беглых. Понятно, что такой поворот устраивал только тех помещиков и вотчинников, которые до этого всеми правдами и неправдами таили их у себя. Присутствовал в подобном решении и «государственный интерес»: правительство надеялось разрубить гордиев узел урочных лет, не обременяя себя разбирательством бесчисленных судебных тяжб. Однако очень скоро Морозову пришлось убедиться, что он не разрубил, а, напротив, еще сильнее затянул крепостнический «узол».
…Пройдет немного времени, и в Москву зачастят «великие» и простые иноземные посольства, участники которых оставят многословные описания Алексея Михайловича. Но в год восшествия второго Романова на престол никто из иноземцев не успел составить портрет нового московского правителя. «Пробел» – правда, на свой, очень своеобразный манер – восполнили приказные Посольского приказа. В 1645–1646 годах в разные страны были направлены гонцы с известием о воцарении Алексея Михайловича. Не обойден был даже «индийский шах». С последним дипломатические пересылки были так редки, что в Посольском приказе испытали немалые трудности при составлении наказа. Как водится, в наказе пытались предусмотреть ответы на все возможные и невозможные вопросы «индийского шаха». Но вопросы о новом московском государе нетрудно было предугадать, потому гонцы были здесь во всеоружии. Про Алексея Михайловича им велено было говорить, что государю всего семнадцать лет, «только Бог его, великого государя нашего, его царское величество, одаровал и украсил образом, и дородством, и храбростью, и разумом, и счастьем, и ко всем людям милостью и благонравием, и всеми благими делами наипаче всех людей».
Все старания, однако, пропали втуне: московские гонцы дальше Персии не добрались, так что в далекой Индии остались в горестном неведении о восшествии на российский престол государя, столь богато одаренного разнообразными «талантами». Зато собственная страна открывала перед вторым Романовым широкие возможности подтвердить – или опровергнуть – утверждения о его необыкновенных дарованиях и добродетелях.
Часть вторая
Бунташные времена
Первые годы
Перемены при дворе существенно укрепили позиции Бориса Ивановича Морозова. Однако умный и практичный боярин сознавал всю шаткость завоеванных позиций и потому пребывал в неустанных трудах и хлопотах. Подобно правителю Борису Годунову, он заботится о том, чтобы во всех приказах сидели люди, обязанные ему. Он привечал тех, кто по каким-то причинам оказался оттесненным в тень при прежнем государе, как это было с князем А. Н. Трубецким. Такие обиженные – лучшая пожива, хотя и здесь следовало держать ухо востро: человеком такой крови руководило не одно чувство благодарности, а представления о высоте «отеческой чести».
Много повидавший и испытавший, Морозов дорожил старыми связями. Он ужился с дворецким, боярином князем А. М. Львовым, человеком упрямым и властным, которому было чрезвычайно трудно угодить. Тому ничего не стоило обойтись крутенько с людьми «сильными», не говоря уже о малозначительных просителях. Так, в тяжбе Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря с соседним Корнилевским монастырем Львов принял сторону первого. Когда же в приказ пришел с челобитной келарь Корнилевского монастыря Киприян Дедешин, боярин «ево вракам не поверил, ту ево челобитную изодрал, а ево велел из приказу выбить взашей» [73]73
Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. Вып. 6. С. 94–95.
[Закрыть].
Но что старец Киприян! От норова строптивого дворецкого немало претерпел сам Алексей Михайлович, который совершенно по-детски радовался, когда в 1652 году Львов по дряхлости отошел от дел. Зато Морозов ухитрился жить с боярином душа в душу. При этом во взаимоотношениях между ними произошла смена мест, и Львов, некогда игравший первую скрипку, принужден был довольствоваться второй ролью. Тем не менее эта перемена не отразилась на приятелях, и оба держались вместе.
На место старой политической элиты Борис Иванович насаждал людей новых, нередко из родов второстепенных, подобранных по одному принципу – лишь бы были свои. Не чурался боярин опираться и на приказных. В 1647 году был пожалован в думные дьяки и назначен ведать Посольским приказом и Новгородской четью Назарий Чистой, взятый когда-то в приказные из ярославских торговых людей. Ловкий делец пришелся как нельзя ко двору и зарекомендовал себя старательным и умелым исполнителем замыслов правителя.
Не спускал Морозов глаз со своих соперников, в первую очередь с родственников царя – Романовых и Стрешневых.
Родной брат царицы, Семен Лукьянович Стрешнев, пользовался полным доверием Михаила Федоровича. Правда, его карьеру при первом Романове нельзя назвать блистательной. Михаил Федорович чтил традицию и продвигал худородных родственников супруги так, чтобы не задеть аристократию. Семен Лукьянович неспешно подымался по чиновной лестнице. Но уже в деле с королевичем Вальдемаром он выполнял весьма доверительные поручения и даже, кажется, попытался самостоятельно посодействовать успешному разрешению брачной «затейки». Брат царицы якобы задумал устроить тайную встречу королевича с невестой при условии, что Вальдемар перейдет в православие. В итоге Семен Лукьянович со своими медвежьими услугами настолько надоел датчанам, что те стали избегать его.
Воцарение племянника позволило Семену Лукьяновичу сделать важный шаг в карьере. Произошло это, правда, не сразу – сначала Стрешнева отсылают воеводой на юг, под татарские сабли. Морозов, по-видимому, присматривался к нему: как далеко заходят его амбиции, насколько он готов к «сотрудничеству»? Наконец в 1646 году царский дядя был возвращен и получил высокую должность кравчего. Так продолжалось до 1647 года, когда Семен Лукьянович неожиданно угодил в опалу. Сама опала была поставлена в связь все с тем же злосчастным делом королевича Вальдемара: Стрешнева обвинили в том, что он намеревался прибегнуть к помощи некого «чародея» Симона Данилова и его жены, чтобы «приворожить» принца к царевне Ирине.
Сохранился приговор думы, в котором легко уловить аристократическое высокомерие людей «породных», с трудом мирившихся с выскочками типа Семена Лукьяновича. В приговоре объявлено, что был Стрешнев в великой милости, пожалован «кравчим с путем… чего был… недостоин», «почасту доступал к государю» и при этом общался с колдунами. «А ты, Семен, – грозно продолжали авторы документа, – и сам при государе и при боярех такое слово говаривал: кто с ведунами знается, и тот де достоин смерти, и то ты, Семен, говаривал воровски, лестно». Итог – по боярскому приговору сказана была ему ссылка в Сибирь, замененная царем воеводством в Вологде [74]74
Есипов Г. В.Люди старого века. СПб., 1880. С. 3–5.
[Закрыть].
Надо признать, что обстоятельства опалы далеко не во всем ясны. Обращает на себя внимание тот факт, что по времени она совпала с первой, неудачной женитьбой Алексея Михайловича на Всеволожской. Возможно, Стрешнев примкнул к тем, кто активно поддержал выбор Алексея Михайловича, чем и вызвал неудовольствие Морозова, ярого противника брака с Всеволожской. Непослушание «неблагодарного» кравчего тут же вышло ему боком, тем более что сделать это было вовсе не трудно: общение с «чародеями» всегда вызывало подозрение, а уж если оно касалось царского семейства, то любое, даже самое благое намерение – приворожить! – было предосудительно и наказуемо. Урок Стрешнев крепко усвоил, и когда четыре года спустя Алексей Михайлович вернул его в Москву, он уже никогда не пытался интриговать против Морозова. Впрочем, к этому времени ситуация изменилась – повзрослевший Алексей Михайлович предпринимал первые, еще достаточно робкие, попытки править без поводыря.
Куда опаснее был для Бориса Ивановича двоюродный дядя царя, Никита Иванович Романов, последний представитель нецарствующей ветви Романовых. По положению, связям в высшей среде, наконец, по своим личным данным он стоял несравнимо выше ограниченного и не особенно смышленого Семена Лукьяновича.
Никита Иванович выделялся в среде московской знати. Он был человеком самостоятельным и амбициозным, способным не оглядываться на общественное мнение. Секретарь Голштинского посольства Адам Олеарий, оставивший чрезвычайно интересное описание Московии XVII века, рассказывал о пристрастии Никиты Ивановича ко всему иноземному: боярин был большим поклонником «немецкой музыки», охотно общался с «немцами» и даже сам хаживал в иноземном платье. Больше того, он обрядил в нерусское платье дворню, чем вызвал бурное негодование самого патриарха, которое гордый боярин совершенно игнорировал [75]75
Олеарий А.Описание путешествия в Московию. М., 1996. С. 186.
[Закрыть].
Конечно, западничество Никиты Ивановича, дошедшее даже до пострижения бороды, было достаточно поверхностным. Его скорее привлекали внешняя сторона, всевозможные диковинки и бытовые новшества. Именно Никите Ивановичу потомки обязаны появлению знаменитого ботика Петра Великого: до того, как молодой царь Петр нашел его гниющим на хозяйственном дворе в селе Измайлове, ботик был приобретен Никитой Ивановичем. Но если для боярина он, скорее всего, был не более как способом экзотического – ходить «галсами» против ветра – времяпрепровождения, то Петр превратил прогулочный ботик в «дедушку» военно-морского русского флота.
При Михаиле Федоровиче Н. И. Романов не был особенно обременен службой. Один из самых богатых людей страны, он предпочитал жить в свое удовольствие. Однако с воцарением Алексея Михайловича ситуация изменилась. Никита Иванович посчитал себя оскорбленным тем, что положенное по его представлению место при молодом государе досталось не ему, двоюродному дяде, а «дядьке» Морозову.
С недовольством Романова Борису Ивановичу справиться было не по силам. И дело не только в том, что Романов мало походил на податливого Стрешнева. Просто с Никитой Ивановичем компромисс был невозможен. Он хотел все или ничего, что, естественно, никак не устраивало Бориса Ивановича. Оставалась одно – война, и она была объявлена, хотя и протекала до поры до времени вяло и малозаметно. Морозов не пытался привлечь Романова в правительство и, по-видимому, был совсем не против частых отлучек Никиты Ивановича со двора и из думы.
Соперничество с Морозовым превращало Романова в неофициального лидера оппозиции правителю. К Никите Ивановичу примкнул боярин князь Яков Куденетович Черкасский. Унаследовавший многодворные вотчины своего родственника И. Б. Черкасского, князь Яков, не в пример болезненному и несколько инертному Никите Ивановичу, был человеком беспокойным и деятельным. Если Романов не особенно любил политическую борьбу, то Черкасский, напротив, не упускал случая помериться силами. Вскоре вокруг фрондеров объединились все обиженные и обойденные милостями, ждавшие подходящего случая, чтобы поквитаться с ненавистным временщиком.
Сколь ни искусен был в придворных интригах Борис Иванович, он прекрасно понимал, что прочность возведенных им оборонительных бастионов против многочисленных недругов в конечном счете зависит от отношения к нему царя. Пока «дядьке» Алексея Михайловича не приходилось жаловаться на неблагодарность своего воспитанника. Царь почитал его как отца и в этом чувстве доходил до самоослепления, простительного для обычного человека, но осуждаемого для государя. Так что убийственная ирония москвичей, которые утверждали, будто царь Морозову в рот смотрит и «молчит, черт де у него ум отнял», в своем невольном гротеске все же содержала долю истины.
Позднее в царских грамотах Морозову ставились в заслугу неустанное попечение и забота о государе и государственных делах: будучи в «дядьках», он, «отставя дом свой и приятелей, был у нас безотступно», государево здоровье стерег, служил верно «и о наших и земских делех» радел [76]76
Царская грамота псковичам с ответом на их челобитную 1650 г. // Тихомиров М. Н.Классовая борьба в России XVII в. М., 1969. С. 254.
[Закрыть]. Как ни странно, этот панегирик содержит в себе долю правды. Но и эта правда, и правда мятежных москвичей, направивших свой гнев против ненавистного им Морозова, выхватывали и выставляли на обозрение лишь одну из сторон натуры Бориса Ивановича, скрывая самые глубинные побудительные мотивы его поступков. Последние же сводились к тому, что Морозов был человеком равно властолюбивым и умным: вцепившись мертвой хваткой во власть, он принял близко к сердцу задачи государственные и ретиво взялся за их разрешение. При этом у Бориса Ивановича хватило ума, чтобы соединить свои личные интересы с государственными. Это не значит, что он не мог отступиться от последних ради первых. Но отступаясь раз-другой, боярин осознавал, что так нельзя поступать до бесконечности.
Борис Иванович во многом напоминает своего знаменитого современника, кардинала Мазарини. На первый взгляд такое сравнение кажется малоудачным: изящный и образованный кардинал-итальянец, талантливый выученик Ришелье – и простоватый, тяжеловесный Борис Морозов. Но за внешним различием немало совпадений даже во времени и в жизненных изворотах: пребывание у власти при юных монархах (Алексей Михайлович и Людовик XIV), бунт и фронда, смертельная угроза и бегство, одоление противников и триумфальное возвращение в столицы (все в 1648–1649 годах!). В борьбе за власть оба без угрызений совести прибегали к приемам, далеким от христианских добродетелей; но в той же борьбе за власть оба проводили линию упрочения королевской и царской власти.
Существовало немало способов снискать симпатию монарха. Сто лет назад, на исходе боярского правления, противостоящие друг другу придворные группировки в борьбе за Ивана IV своим ласкательством пробуждали в нем самые низменные чувства. Сами того не ведая, бояре играли с огнем, будили лихо: в юном Иване – будущего Ивана Грозного. Но действовали они вполне логично: заприметив жестокие наклонности натуры великого князя, они и ублажали его жестокостями. Алексей Михайлович, по счастью, не находил удовольствия в пытках и мучениях. Если что безмерно радовало и привлекало его, так это охота и бесконечные богомольные походы по ближним и дальним святым местам. Сколь ни важными были в глазах православных людей эти царские занятия, к текущему управлению они не имели отношения. Главные дела решались у Морозова и его людей. Появление царя если и вызывало переполох, то иного свойства. Для обретения благосклонности царя Алексея следовало просто не ударить лицом в грязь, то есть встретить как положено. Как, к примеру, это сделал в мае 1646 года суздальский архиепископ Серапион. В письме из Москвы в Суздаль казначею Савватию он писал: по слухам, государь скоро отправится в поход в Троицу, в Александровскую слободу, а затем в Юрьев, Владимир и Суздаль. Потому на всякий случай срочно готовиться к встрече – в соборной церкви «вычистить и обмести образы и стены»!
Морозов не препятствовал, а, напротив, всячески поощрял богомольные и охотничьи увлечения своего воспитанника, освобождая его от обременительных государственных дел. Как тут было не нарадоваться такому заботливому опекуну! Одновременно исподволь Тишайшему внушалась мысль, что Морозов – единственная надежная опора его царствования, прилежный «строитель царских дел». Отправляясь на охоту, молодой государь ехал с легким сердцем – покуда в Кремле его «дядька», все устоится и ничего непредвиденного не произойдет!
Нехитрая игра могущественного боярина легко была разгадана современниками. Они увидели в ней стремление как можно дольше держать царя в стороне от дел [77]77
Олеарий А.Указ. соч. С. 260.
[Закрыть]. В их представлении Морозов не хотел, чтобы хоть какая-то жалоба, хоть какая-то докука достигали молодого монарха. Все покойно, все схвачено Морозовым так, что ни единый вопль недовольного, ни единый всхлип обиженного не достигает слуха государя. Не случайно стряпчие-служки Спасо-Прилуцкого Вологодского монастыря доносили властям о простеньком приеме, с помощью которого царя избавляли от назойливых челобитчиков: «Да ныне государь все в походех и на мало живет как и воцарился, а се будет поход в Можайск, а где поход ни скажут государев, и он, государь, не в ту сторону пойдет» [78]78
Описание свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище. С. 100.
[Закрыть].
Но в этом раскладе была еще одна сторона – сам Алексей Михайлович. В эти первые годы он для нас скорее символ, чем живой человек. Внутренняя жизнь его почти сокрыта для нас: чем он живет, о чем думает, какая внутренняя работа идет в его сердце? Обо всем этом из-за недостатка источников приходится только догадываться. Здесь более уместны слова «возможно», «по всей видимости», «представляется». Конечно, подобные фразы всегда невыигрышны и малоубедительны, но зато они честнее.
Алексей Михайлович, по-видимому, вовсе не тяготился той ролью, которую ему отвел Морозов. При характерной для него позднейшей рефлексии относительно всего, что касается царственного сана, нет ни одного намека, чтобы он переживал полновластие Бориса Ивановича и свою отстраненность от дел. Слишком просто было бы объяснять это тем, что «черт у него ум отнял». Дело, конечно, не в этом. На престол вступил подросток, который просто не мог править. Для XVII века такое положение не было новостью. На протяжении столетия оно повторялось не единожды. Подростками, неокрепшими юношами, даже мальчиками всходили на престол Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор, Иван и Петр Алексеевичи. Оттого различия и особенности первых лет царствования уместнее связывать не с царями-подростками, а с их «соправителями».
Здесь же все пестрее. Править могли придворные группировки без ярких лидеров, как при первом Романове, или фигуры относительно одаренные, претендующие на первенство и безоговорочное доверие государей. Таким был Морозов. Притом Борис Иванович повел дело так тонко, что Алексей Михайлович не видел в этом ущемления своего царского достоинства. Внешне «дядька» возглавлял правительство по воле монарха, был всего лишь верноподданным «государевым холопом», радеющим всем сердцем о государевом деле.
Конечно, такой поворот несколько переставляет акценты в традиционном обвинении Морозова, который будто бы у своего воспитанника «царство отнял». Уместнее задаться иным вопросом: в какой мере второго Романова готовили к правлению? Для успешного царствования Алексею Михайловичу нужны были образование, опытность, ум и характер. Об образованности Алексея Михайловича выше уже шла речь; «науку управлять» должна была заменить опытность. Ее можно было обрести с годами, быстрее или медленнее, но обязательно участвуя в делах. Борис Иванович не особенно заботился об этой стороне воспитания. Его вполне устраивал слабый, неопытный государь, зависимый от него и постоянно в нем нуждавшийся. Этой формулой он и руководствовался, взваливая на себя многочисленные государственные дела. Что же касается ума, характера и души Алексея Михайловича, то эти «параметры» если и интересовали Бориса Ивановича, то, кажется, лишь в плане угрозы его всевластию.
От этого времени до нас дошло одно-единственное послание частного характера, принадлежащее самому Алексею Михайловичу. В нем легко угадываются стиль и манера изложения, которые в будущем станут изобличать охочего до пера государя. Но главное, этот стиль приоткроет занавес над тем, что обыкновенно закрыто непроницаемо бесстрастной формулой актового документа, в котором царь «указал», а бояре «приговорили».
Эта царская грамотка – приглашение бояр на Озерица «потешиться» медвежьей охотой. Писана она от имени «половчан» – царских сотоварищей, в атмосфере беззаботного и шумного веселья. Видно, что здесь молодой царь чувствует себя много увереннее, чем среди седовласых бояр, подавляющих возрастом и знанием жизни. Половчане же – царские ровесники или люди, немногим его старше, все из первостатейных или хороших родов, еще не обремененные чинами. Рукоприкладства половчан раскрывают этот круг поименно. Вот Федор Михайлович Ртищев, человек духовно близкий к царю, его личный друг, если, конечно, у монархов могут быть друзья. Рядом Юрий Алексеевич Долгорукий, который в несколько лет совершит стремительное восхождение и станет заметной фигурой в царствование Алексея Михайловича. Памятуя о его назначении в новосозданный после Московского восстания 1648 года Монастырский приказ, исследователи относят Долгорукого к креатуре Морозова. Несомненно, он был близок Борису Ивановичу. Но из грамотки видна и его близость государю.
Другой близкий к царю человек, князь Ю. И. Ромодановский, предпочтет жизнь более покойную и не станет измождать себя службами. Но не станет, пользуясь близостью к государю, и выпрашивать для себя всевозможные послабления.
Среди половчан царя – Ромодановские, Долгорукие и Шереметевы, которых ждут отличия на государственных и военных поприщах. Общность времени и службы для некоторых обернется и общностью судеб, да так, что взгляд из будущего придаст этим совпадениям смысл глубинный. К таким можно отнести П. Траханиотова и Ю. Долгорукого. Они проживут разные жизни, но оба, один – молодой, другой – убеленный сединами, падут жертвами кровавых бунтов. Траханиотова топор настигнет очень скоро, в июне 1648 года. Ю. Долгорукий будет растерзан в собственном тереме в дни Стрелецкого бунта 1682 года.
Едва не присоединится к этому скорбному мартирологу народного гнева Ф. М. Ртищев, крови которого будут жаждать восставшие москвичи в июле 1662 года. Время, случайно смешав в охотничьей компании этих людей, через их судьбы еще раз напомнит, что век был и в самом деле «бунташным» и «смутным».
В своем шутливом послании царь обращается ко всем думным чинам, которые находятся в столице, в том числе и к тем, которые открыто враждовали между собой. Грамотка открывается именем Б. И. Морозова, первенствующего в думе; затем следуют имена Н. И. Романова, Я. К. Черкасского, дворецкого А. М. Львова, А. Н. Трубецкого, М. М. Темкина-Ростовского, Ф. С. Куракина, кравчего-дяди С. Л. Стрешнева, окольничих Ф. Б. Долматова-Карпова, А. Ф. Литвинова-Мосальского, Н. С. Собакина, стряпчего с ключом М. А. Ртищева, отца Ф. М. Ртищева. Алексей Михайлович делится с ними своими планами: в среду он едет на Озерецкое брать медведя, а «как Бог даст изымет», собирается с гостями ехать в Озерецкое кушать. Отсюда царь намерен ночью отправиться в деревню Козловскую, ночевать, и поутру, в четверг, вновь «промышлять» зверя.
Царь предполагает и другой вариант времяпрепровождения: всем ехать из Озерецкого ночью в дворцовое село Павловское, и «приехавши б в четверг мне кушить, и кушавши б мне с тупными медведями тешитца старыми, а послать по них заранее». А после этого всем в пятницу на ночь ехать в Москву. «Пожалуйте поступитеся, о чем я вас с своими полчаны прошу», – заключает царь, напоминая, что он-то «всем вам поступился, хто о чем бил челом». Далее следует подробная роспись боярских и окольничих челобитных, любопытная тем, что хорошо передает характер общения думных людей с царем. То были сплошь личные просьбы – кого-то пожаловать в чин, отправить на воеводство, дать отсрочку в службе и в судном деле и т. д. Судя по росписи, Алексей Михайлович никому не отказывал, хотя хорошо понимал излишнюю нахрапистость иных просителей. Боярин князь М. М. Темкин-Ростовский, к примеру, бил челом о поместье. Поместье он получил, но оно ему «не полюбилось», и, продолжает государь, «тебе слово свое милостивое сказал, велел тебе приискивать да бить челом».
Боярин князь Ф. С. Куракин все время норовил отстать от «государевого дела» и заняться собственными делами в деревне. Он «бивал челом почасту в деревню», и царь его «всегда жаловал отпускал». Примечательно, что в перечне сделанного «добра» действительно нет ничего, связанного с государственными делами.
Алексей Михайлович, кажется, не был уверен, что его приглашение будет принято. Отсюда и два варианта пребывания на Озерецком, и напоминание об удовлетворенных челобитных… Вообще, не принять приглашение государя – значит задеть его честь, пренебречь царской милостью. Самому Алексею Михайловичу много лет спустя и в голову не могло бы прийти писать послание, где он, великий государь, пускай и в шутливой форме, упрашивал бояр приехать к нему. Но, судя по тону письма 1646 года, пока бояре за «государевыми делами» могли и отговориться, сослаться на занятость и не приехать «тешиться» [79]79
Записки. С. 711–713. В некоторых случаях публикация требует уточнения. См.: РГАДА. Ф. 27. № 54. Л. 4–4а (листы перепутаны, начало письма – 4а). Записки послужили основой для новой (неполной) публикации писем Алексея Михайловича, более всего доступной для современного читателя. См.: Царь Алексей Михайлович.Сочинения // Московия и Европа. История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв. М., 2000.
[Закрыть].
Это письмецо любопытно еще в одном отношении: Алексей Михайлович, вопреки расхожему образу, вовсе не был тем царем-молитвенником, каким он рисуется во многих сочинениях. Он уже в юных летах знал меру, границы которой потом определит сам известной присказкой из «Урядника сокольничего пути» – делу время и потехе час. Веселая компания, охотничья потеха, высокий лет сокола ему были так же потребны, как полнощное бдение и душевная молитва.
…То, что Борис Иванович не особенно стремился приобщить своего воспитанника к государственной деятельности, вовсе не значит, что Алексей Михайлович совсем не принимал участия в делах. Мы видим его там, где присутствие государя необходимо и обязательно. Тишайший принимал и отпускал послов, устраивал «столы», шел с молениями по святым местам, иногда появлялся на заседаниях думы. Для молодого царя вся эта суета пока что заменяла само правление. Нужно было время, а главное, основательная встряска, даже потрясение, чтобы понять эфемерность подобного положения дел.