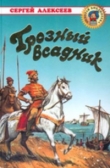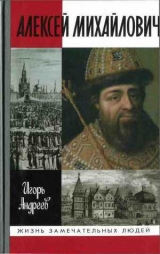
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 51 страниц)
Можно до бесконечности множить примеры царского участия в делах государства, из которых хорошо видно, что Тишайший столь же настойчиво чурался печати праздности, как и его знаменитый современник Людовик XIV – прозвища «ленивого короля». Однако едва ли по одному этому критерию можно составить представление об Алексее Михайловиче как государственном деятеле. Ведь если участие в управлении государством и дает основание говорить, что государь правит, то этого совсем недостаточно для присвоения степеней превосходных – талантливый, выдающийся, великий…
Здесь следует дать четкие ответы на целый ряд вопросов – то есть оценить итоги правления, масштаб личности правителя, его истинное влияние на происходящее. В свою очередь, каждый из этих вопросов распадается на целый ряд вполне конкретных пунктов.
Прежде всего, был ли Алексей Михайлович способен выдвигать идеи и формулировать задачи, которые отвечали потребностям развития страны? Был ли он «генератором» таких идей или просто «ретранслировал» то, что ему подсказывали обстоятельства и окружение?
Несомненно, Алексей Михайлович был не лишен дарований. Иностранцы единодушно называли его умным человеком и дружно сетовали на отсутствие у него должного – по европейским меркам – образования. Иные даже писали о «необыкновенных талантах» и «редких добродетелях» Тишайшего [376]376
Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 году. СПб., 1837. С. 55.
[Закрыть]. Для русских людей стенания относительно необразованности их государя были малопонятны. По русским меркам царь был более чем образован. Сам Алексей Михайлович вполне разделял эту точку зрения – ведь он прошел все положенные для православного человека образовательные ступени. Однако он уже понимал, что в мирских знаниях, полученных за рубежом, есть своя польза. Не случайно он приказывал искать и покупать в Европе книги по различным отраслям знаний. Новое он привнес и в обучение своих сыновей. Их обучали тому, что было недоступно для Тишайшего, – языкам и «свободным искусствам».
Образованность Алексея Михайловича мало подходила для наступавшей эпохи. Она скорее мешала, чем помогала, побуждая пасовать перед новыми и непонятными явлениями, пришедшими из другого мира. Но другой образованности просто не было! Отсутствие знаний восполняли ум, природная трезвость, умение интуитивно почувствовать полезность. Однако далеко не всякий склад ума здесь годился. Царь был склонен к очень конкретному мышлению. Он не обладал мощным творческим интеллектом, способным на абстрагирование и обобщения. К тому же он не привык целеустремленно и долго размышлять. Систематический умственный труд требовал характера и определенного культурного уровня, которого у Алексея Михайловича не имелось. Словом, второму Романову явно не хватало глубины и широты подхода. За все годы своего царствования он так и не сумел переступить через ворох повседневных проблем и заглянуть далеко в будущее.
Здесь вновь уместно провести параллель между Алексеем Михайловичем и его сыном Петром. Последний постоянно задумывается о будущем России, осознанно интерпретируя свои неустанные труды как заботу о завтрашнем величии страны. Будущее – неотъемлемая часть культуры нового времени, в котором настоящее – колыбель завтрашнего. Культура Алексея Михайловича предпочитает оперировать категориями вечности, уготованной праведной жизнью, то есть по сути жить безгреховным настоящим. Если же царь-люботрудник все-таки и содействует будущему, то скорее потому, что иначе просто нельзя – будущее помимо воли и желаний рождалось из повседневности.
Смелая мысль и дерзкий поступок не стихия Тишайшего. Он еще был способен оценить оригинальность чужих предложений, однако рисковать и следовать за чрезмерно дерзновенными проектами ему было явно не по нутру. Отсутствие самостоятельности следует дополнить склонностью к колебаниям и рефлексии. Урок, преподнесенный во многом авантюрной войной со Швецией, надолго отучил царя от рискованных прожектов.
Ситуация усугублялась тем, что в царском окружении людей масштабных, типа Ордина-Нащокина, просто не было. Равные волей, целеустремленностью – да, но не умением перспективно думать и далеко заглядывать. Конечно, в таком окружении царь не чувствовал себя ущемленным. Но для страны ординарность царя, его привычка оценивать проблему исходя из опыта и опытности, а не широкого интеллекта были качествами не самыми лучшими. Заметим, что в данном случае Алексей Михайлович едва ли нуждается в оправдании. Интеллектуальная неординарность – вещь вообще чрезвычайно редкая, особенно там, где бал правит его величество случай – в монархических государствах. Даже самый удачливый современник второго Романова, французский король Людовик XIV, едва ли дотягивает до этих мерок. Ему, несомненно, «повезло» с королевством. Но вот повезло ли королевству с таким королем?
Не утруждая себя раздумьями о далеком будущем, Алексей Михайлович вполне справлялся с текущими проблемами. За годы царствования он научился улавливать биение пульса страны и прописывать ей «лекарство». Правда, порой, чтобы побудить его к подобным действиям, требовалось, чтобы пульс забился с частотой народного бунта. Так случилось, к примеру, с отменой медных денег. «Сердечный приступ», случившийся в Москве и селе Коломенском, образумил Алексея Михайловича, хотя само восстановление нормального денежного обращения потребовало все равно немало времени.
Человек традиции, Алексей Михайлович правил, опираясь на Боярскую думу. Однако внешне неизменный порядок претерпел при нем заметные перемены. При Тишайшем необычайно возросло значение ближней или тайной думы, в которой оказались особо доверенные люди [377]377
Гурлянд И. Я.Приказ великого государя тайных дел. Ярославль, 1902. С. 327–328.
[Закрыть]. В этом узком кругу принимались наиболее важные решения. В последующем, если их и выносили на заседание думы, то лишь для «протокольного» одобрения. При этом в особо доверенных ходили люди, не всегда даже достигшие высоких думных чинов или просто вхожие в думу: приватное обсуждение в царских комнатах было в глазах Алексея Михайловича куда полезнее продолжительного и многословного сидения в думе.
Источники позволяют отчасти восстановить состав и порядок работы ближней думы. Так, в 1663 году ее члены – Я. К. Черкасский, И. Д. Милославский, С. Л. Стрешнев, П. М. Салтыков, Б. М. Хитрово, Ф. М. Ртищев, А. Л. Ордин-Нащокин, дьяки Ларион Лопухин и Дементий Башмаков – обсуждали посольские статьи, с какими предстояло выходить Ордину на переговоры с поляками. Были высказаны разные мнения, но ни одно из них не показалось царю достаточно убедительным. Царь составляет к этим мнениям записку и посылает ее на отзыв Матвееву. Тишайший просит Артамона Сергеевича, чтобы тот, «помысля», высказал свои предложения. Таким образом, царь принимает окончательное решение, выслушав мнения всех доверенных лиц.
Алексей Михайлович был человеком внушаемым. Это, конечно, превращало ближних людей в большую силу. Но не следует забывать, что сама мера этой внушаемости менялась. С годами царь становился все более недоверчивым. Чтобы повлиять на него, надо было уже убеждать аргументами. И то при условии, что они не слишком противоречили сложившемуся мнению государя. Не случайно польский аристократ Потоцкий, проживший в московском плену несколько лет, в своих записках заметил: «Сверх того говорят, что сей государь не терпит советов, противных его мнению» [378]378
Отечественные записки. СПб., 1829. Ч. 37. С. 91.
[Закрыть].
Решения, особенно важные, принимались царем трудно – с сомнениями, колебаниями, оглядкой назад. Но по принятии они превращались в царское решение, отчего любые отступления и промешки вызывали у Тишайшего сильное раздражение. Царь очень ревниво относился к случаям небрежения его волей. Доставалось даже первенствующему в думе князю Н. И. Одоевскому. Отправляясь во главе великого посольства на переговоры с поляками, он осмелился испросить разрешение на изменение царского же указа и боярского приговора о своих товарищах. Последние были недовольны тем, что они числились в товарищах и через Одоевского просили разрешения писаться в официальных грамотах с именем-отчеством. Алексей Михайлович с раздражением выговорил боярину, что «преж сего наши, великого государя, указы и ваши боярские приговоры бывали крепки и постояны». Чувствуется, что намерение послов изменить прежнее решение сильно задело его. Какая самонадеяность! Значит, они считают, что с ним такое пройдет?!
Распекая Одоевского, царь проявил завидную проницательность. Он не поверил, что Одоевский на самом деле желал видеть имена послов рядом со своим именем. Тишайший убежден, что Никита Иванович просто хитрил и писал «для очистки от товарищей своих, чтоб товарищи… на тебя не досадывали». Открытие еще сильнее раздражает Алексея Михайловича. Одоевский ссорит его с подданными! Царь не упускает случая разразиться гневной тирадой, привлекая авторитет самого Аристотеля: «А Аристотель пишет ко всем государем, велит выбирать такова человека, который бы государя своего к людям примерял, а не озлоблял»! Есть, впрочем, у царя авторитет и повесомее: «И тому Бог будет мстить в страшный свой и грозный день, хто нас, великого государя, озлобляет к людям и кто неправдою к нам, великому государю…» [379]379
РГАДА. Ф. 27. № 127. Л. 31–33.
[Закрыть]
Исследователи подсчитали, что из 618 указов, принятых после Соборного Уложения до 1676 года, 588 были именные, то есть приняты одним Алексеем Михайловичем. Остальные – с боярским приговором [380]380
Ерошкин Н.История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. С. 59.
[Закрыть]. Эти цифры убедительнее всего свидетельствуют о падении роли думы при Алексее Михайловиче. Однако едва ли они просто иллюстрация к пробудившимся авторитарным наклонностям Тишайшего. Падение роли думы – прямой результат происходивших изменений в системе государственного управления. Старые институты с их закоснелыми «технологиями» реализации властных функций с трудом справлялись с задачами, которые ставило время. Дума не была исключением. Пройдет меньше четверти века, и боярство превратится, в устах профессионалов-управленцев типа Федора Шакловитого, в прогнившее «зяблое дерево». В самом деле, аристократический по преимуществу принцип формирования думы сделал ее прибежищем для людей малокомпетентных, деловые и личные качества которых будут далеки от тех, что требовались государству. Да и принцип соправительства в условиях формировавшегося абсолютизма должен был уступить бюрократическому принципу, несовместимому с думой. В итоге легче оказалось сломать и построить новое, чем переделывать старое. Петр так и поступит, заменив амбициозную аристократическую думу бюрократическим Сенатом.
Разумеется, не следует забывать, что на маршруте дрейфующей государственности время Тишайшего – точка исходная. Потому дума при нем, пускай и отстраненная от принятия самых важных решений, занималась множеством текущих дел. Особенно объемной была ее распорядительно-административная деятельность. Перемены, между прочим, не ускользнули от внимательных наблюдателей. «…Царь, сохраняя за собою всю полноту царской власти, делает вид, что некоторую часть ее передает своей Думе, отсылая просьбы народа на рассмотрение ее членов…», – заметил всезнающий Мейерберг [381]381
Мейерберг А.Указ. соч. С. 151.
[Закрыть].
При Тишайшем по-прежнему оставался высоким престиж думного чина. Царь жаловал его достаточно скупо. Признавал он и преимущественно аристократический характер думного чина, отчего малопородные его любимцы продвигались вверх с прохождением всех положенных ступеней. Достигших высших боярских чинов было только двое – Ордин-Нащокин и Артамон Матвеев. Их движение наверх стоит в разительном контрасте с тем, что будет происходить при ближайших преемниках Тишайшего – Федоре, Петре и Иване, когда боярские и окольничьи скамьи заполонят люди малопородные, стремительный взлет которых будет оскорбителен для первостепенной аристократии. Сюда же устремятся и представители знати, которые попытаются думскими скамьями отгородиться от напиравшего со всех сторон дворянства. В итоге дума разрастется до таких размеров, что эффективное исполнение ею соправительствующих функций превратится в фикцию.
Более существенной переменой в системе управления государством стало создание Алексеем Михайловичем Приказа Тайных дел, или Тайного приказа.
Несомненно, одна из причин появления этого странного учреждения кроется в личности монарха. Тайный приказ – прямое порождение того стиля, который был избран царем для общения с подданными.
Два обстоятельства наложили отпечаток на манеру общения Тишайшего с подданными. Выше уже не раз подчеркивалось, с каким трепетом он воспринимал величие своего сана. Однако пора юношеских рефлексий со временем прошла. В привычках и в мыслях, в манере и в стиле обращения с людьми явились властность и внутренняя убежденность, что все, что он делает, делается по Божьему попущению. Но приобретенное – не прирожденное. Крепнувшая авторитарность Алексея Михайловича причудливо уживалась с добродушием, доходящим до благодушия – черты, быть может, и простительной для обыкновенного человека, но пагубной для правителя и его подданных. В общении с людьми благодушие оборачивалось попустительством и непоследовательностью. Царь мог грозно распекать и сурово наказывать за ничтожные упущения и одновременно легко уступать и прощать серьезные проступки. Тишайший, кажется, сам иногда укорял себя за такое поведение.
В 50-е годы встречается все больше признаков того, что Тишайший всерьез задумывался над тем, как одолеть эту свою «слабость» и как побудить «злохитростных» подданных служить без послаблений. В осуществлении этого намерения Тайному приказу отводилось центральное место. Приказ, который возглавлял сам государь, должен был подгонять, подстегивать служилого человека, порождая ощущения постоянного царского догляда. Это не просто слова. Все знали, что появление подьячего Тайного приказа или грамотки из него означало, что делом заинтересовался государь. А значит, и милостливое слово, и наказание могли теперь последовать незамедлительно.
Интерес Алексея Михайловича мог проявляться по-разному. Чаще всего из Тайного приказа приходила грамотка или приезжал человек с изустным приказом. «Такова государева грамота послана по указу думного дьяка Семена Заборовского, а с тем указом приходил из Приказу Тайных дел подьячий Артемий… словесно», – читаем в одном из документов, который приоткрывает механику царского управления – царь не напрямую обращался к исполнителям, а через стоявший над ними приказ, в данном случае через Разряд. Нередко эти «изустные наказы» подьячие и доверенные лица Тайного приказа должны были передавать «наодине», «одному сказать тайно». В затруднительных случаях приказные дельцы напрямую обращались в Тайный приказ за указанием. Важно, однако, подчеркнуть «заочный» характер общения Алексея Михайловича с исполнителем [382]382
АМГ. Т. III, № 157,191, 664; Заозерский А. И.Указ. соч. С. 254.
[Закрыть].
Царский контроль мог быть гласным и негласным. В Тайном приказе чаще всего прибегали к последнему. Для большинства служилых и приказных людей это было страшнее всего. Что проведает государь и как ему донесут?! О секретных миссиях подьячих Тайного приказа ходили самые жуткие слухи. Иные готовы были пугаться и того, чего не было. Не случайно перед посланцами Тайного приказа, людьми малородными, заискивала даже первостатейная знать. «Страшась царского гневу… тех подьячих дарят и почитают выше их меры», – должно быть, не без зависти отмечал Котошихин.
Доходило до того, что объявлялись самозваные сотрудники Тайного приказа, отличные от гоголевского Хлестакова разве только тем, что воспроизводили ситуацию бессмертного «Ревизора» не по случаю, а вполне сознательно. В такой роли выступил на Украине писарь полка Венедикта Змеева Иван Гордеев. Он привел в трепет не одного начального человека, прежде чем его поймали и отправили в Москву на расправу.
Очень скоро в представлении современников царский тайный догляд приобрел гипертрофированный характер. «Царь по ночам осматривает протоколы своих дьяков: он проверяет, какие решения состоялись и на какие челобитные не дано ответа… Дворяне у него в шпионах и шпионы повсюду», – сообщали иностранцы.
Котошихин также не обошел в своем сочинении этот вопрос. Но говорит он несколько спокойнее и точнее – то множество «шпионов», которые у иностранцев заполонили весь аппарат и армию, сокращается у него до штата Тайного приказа. По словам беглого приказного, служащие «посылаются… с послами в государства, и на посольские съезды, и в войну с воеводами для того, что послы в своих посолствах много чинят не к чести своему государю… И те подьячие над послы и над воеводами подсматривают и царю, приехав, сказывают» [383]383
Котошихин Г.Указ. соч. С. 85; Утверждение династии. С. 77.
[Закрыть].
Возложенные на приказ функции побуждали царя с особой тщательностью подбирать людей. В Тайном приказе собрались люди по-своему недюжие – хорошие организаторы, знающие и цепкие администраторы. Отличительной их чертой была исполнительность. Царь, готовый еще терпеть своеволие от людей родовитых, вскипал при одном только намеке на непослушание «своих» приказных. И они старались, памятуя, что при всех царских строгостях им несказанно повезло – они были на виду.
Штат приказа никогда не отличался многочисленностью. Алексей Михайлович шел на это вполне сознательно: в сундуках и ящиках приказа хранилась столь секретная документация, что доступ к ней должны были иметь немногие люди. Особенно важными были бумаги военные и дипломатические. Именно поэтому широкое распространение получила здесь практика рассылки тайных наказов и наставлений. В этом смысле Тайный приказ возвращался к исходному толкованию «тайное государево дело», то есть дело, которое ведомо только государю и немногим особым слугам. Посылая грамотку Ю. Долгорукому, Тишайший наказывал: «И ты б, боярин наш и воевода, держал бы у себя тайно, чтоб ее нихто б не ведал».
Немало документов Тайного приказа написано шифром – «тайной азбукой». Царь нередко сам составлял ее. На пожалованном в Саввин монастырь колоколе по его указу была сделана шифрованная надпись с таким завершением: «…А подписал аз, царь и государь всеа Русии самодержец своею рукою премудрым писмом своего слогу и вымыслу 12 азбуками. Лето 7161» [384]384
Записки. С. 400. См. также: Московия и Запад. С. 524..
[Закрыть]. В увлеченности Алексея Михайловича тайнописью было что-то детское. Разумеется, сам Тишайший с негодованием отверг бы подобное предположение и сослался на необходимую разумную осторожность в делах. В самом деле, он не раз имел повод для огорчений, терпя без видимых причин неудачи за столом переговоров или на полях сражений. При этом речь идет не о банальной продаже сведений противной стороне, хотя последнее случалось, причем в неизмеримо больших размерах, чем представляется. Чтобы расстроить планы, хватало прозаической болтливости излишне информированных дипломатов и воевод. Этим и объясняется стремление царя ограничить круг людей, имеющих доступ к государственным тайнам.
Как водится, стремление царя все засекретить имело обратную сторону, результат которой – «поруха в делах». Сообразуясь со своим пониманием обстановки, царь мог кардинально изменить первоначальный замысел, не ставя в известность всех причастных к этому лиц: в таком случае появлялся подьячий Тайного приказа с новым секретным наказом и с предписанием адресату не исполнять статьи прежнего наказа, полученного из Разряда или Посольского приказа. В результате все другие воеводы или товарищи посла, обделенные царским доверием, приходили в полное недоумение по поводу действий старшего «коллеги».
Алексей Михайлович знал, конечно, о подобных неурядицах. Но в его глазах ради быстроты решения можно было пожертвовать порядком. Царский тайный наказ наделял исполнителя чрезвычайными полномочиями и одновременно оказывался своеобразной индульгенцией: все вокруг негодовали на нарушителя государевой воли – он же мог посмеиваться, опасаясь лишь не исполнить порученного.
Тишайший превратил Тайный приказ в высший распорядительный и контрольный орган. При этом сам он выступал в роли непосредственного руководителя государева приказа. У него даже была своя «казенка» – кабинет, где он выслушивал доклады и работал с бумагами. Трудно сказать, в какой мере эта «приказная» деятельность удовлетворяла его. Во всяком случае, он не роптал. Да и общение с подданными заочно, посредством бумаги и подьячих, кажется, его вполне устраивало. На расстоянии легче было быть грозным, то есть быть ближе к тому идеальному государю, образ которого он сам для себя создал. Деловая бумага оказывалась лучшей защитой от благодушия и жалости.
Разумеется, было бы опрометчиво выводить причины возникновения Тайного приказа из одной только рефлексии Тишайшего. Нельзя не видеть, что при абсолютизме государи постоянно создавали учреждения, посредством которых степень их личного вмешательства в управление резко возрастала. Причем все эти органы – от Тайного приказа до Канцелярии Его императорского величества Николая I – оказывались стоящими как бы вне существующих органов власти и над ними. И хотя в каждом случае появление этих учреждений было связано с вполне конкретными обстоятельствами, за ними таится нечто большее. По-видимому, абсолютизм по природе своей нуждается в постоянном подтверждении своего всевластия – во встряске приказного и чиновного аппарата, в создании «независимых» от бюрократии источников информации, наконец, в личном вмешательстве государя в управление как индивидуализированном способе обновления монархической идеи. Тишайший одним из первых русских правителей уловил эту потребность, заставив с помощью Тайного приказа куда быстрее, чем прежде, вращаться все «шестеренки» громоздкой государственной машины.
Ко времени правления Алексея Михайловича относится формирование новой «государственной идеологии», которая займет в следующем столетии бесспорно господствующее положение, – идеологии службы, поглотившей все иные идеологизированные представления о предназначении человека. Общеизвестно, кто возвел тезис службы Отечеству на пьедестал. Менее известно, что фундамент для этого пьедестала был возведен еще первыми Романовыми, в первую очередь Алексеем Михайловичем.
Своеобразная идеология и психология службы, сложившаяся к середине XVII столетия, оказалась равно важной для обеих соучаствующих в ней сторон – власти и дворянства. Первая, персонифицированная в лице Алексея Михайловича, не без успеха приспосабливала «философию службы» к потребностям и установкам формирующегося абсолютизма. Вторая с неменьшим успехом использовала ее для предъявления сословных требований. В сознании дворянства любое ущемление их интересов интерпретировалось не иначе как посягательство на службу, и следовательно – на «государево дело». Это взаимосвязь обрела свойства стереотипа, вошла в кровь и плоть служилого человека и во многом определила его ценностные ориентации и поведение. В широком смысле служить, собственно, и значило жить. «Служить ленив, на службе не живет», – говорили окладчики, желая показать служилую несостоятельность ратного человека. Сами дворяне, подчеркивая свои заслуги, объявляли, что они, «помня Бога и совершая ко государю и ко всему Московскому государству прямую службу и раденья… живут на службе и бьются» [385]385
Сторожев В.Тверское дворянство в XVII в. Тверь, 1895. Вып. 3. С. 82; РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 80. Л. 111–114а.
[Закрыть]. В челобитных и сказках служилых людей жизненный путь представлен как непрерывное служение, главные вехи которого – походы, раны и осады. Но эта связь не оставляла безучастным и Алексея Михайловича. Он только чаще говорил не об ущемлении интересов, а о лености и нерадении служилых людишек, наносивших таким образом урон его государеву делу и его государевой чести.
В «разности» акцентов – различия в трактовке службы Алексеем Михайловичем и его подданными. Служилые люди охотнее затрагивали вопросы награждения, условий службы, – Царь настаивал на точном и неукоснительном выполнении служебных требований. В этом заочном споре неутомимое перо Алексея Михайловича в конце концов живописало образ идеального служилого человека.
Эмоциональная натура царя тяготела к оценкам этическим. Тишайший, конечно, не сомневался в том, что ему должны служить, но он требовал, чтобы ему служили чрезмерно. Положительные определения, которые обыкновенно применяли к службе, – служба «прямая», «явная», «прилежная», «храбрая», «отменная», «безо всякия хитрости» – далеко не всегда устраивали его. Он жаждал большего. Его идеал – служба «всем сердцем», «радостная», «нелицемерная». Царь без устали призывал «нераденье покрывать нынешнею своею службою и радением от всего сердца своего и всякую высость оставить». Служба «со всяким усердством» была для Алексея Михайловича критерием, по которому он судил о преданности служилого человека и в соответствии с которым выстраивал свое к нему отношение. В письме к боярину и дворецкому В. В. Бутурлину царь писал: «…Ведаешь наш обычай: хто к нам не всем сердцем станет работать, и мы к нему и сами с милостью не вскоре приразимся» [386]386
Записки. С. 732, 749; Московия и Европа. С. 518.
[Закрыть].
То, что царь придавал своим оценкам службы большое значение, свидетельствует правка грамот. Царь не разбрасывался словами – он старательно искал определения, которые бы соответствовали, по его убеждению, заслугам адресата. В милостивой грамоте боярину В. П. Шереметеву Тишайший заменил «безмерные службы» на «прилежную службу». «Принижение заслуг» вполне объяснимо: царская похвала, начавшись во здравие, заканчивалась за упокой. Похвалив киевского воеводу за службу, царь тут же выговорил ему по поводу самовольного освобождения шляхты: «То [ты] зделал негораздо, позабыв нашу государскую милость к себе, нас, великого государя, прогневил, а себе вечное безчестье учинил: начал добром, а совершил бездельем» [387]387
РГАДА. Ф. 27. № 92. Л. 1–6; Записки. С. 736. По наказу В. П. Шереметев мог отпустить шляхту в том случае, если она сдалась сразу, не оказывая сопротивления. Но этого не случилось.
[Закрыть].
Особенно часто Алексей Михайлович касался темы службы в переписке с A. Л. Ординым-Нащокиным. Для последнего служба была потребностью первейшей – он жил и дышал ею. «То мне в радость, чтобы больше службы», – писал он царю, и, зная биографию Афанасия Лаврентьевича, едва ли стоит подозревать его в лукавстве. Жалуя в 1658 году Ордина-Нащокина в думные дворяне, Тишайший хвалил его за то, что тот «радел о наших государских делах мужественно и храбро и до ратных людей ласков, а вором не спускаешь». Здесь же и традиционное в устах царя обещание – если новоявленный член думы станет стараться «выше прежнего», то его служба «забвена николи не будет».
Царь признавал высоту «отеческой чести» своего аристократического окружения. Но он настаивал на ее подтверждении безупречной службой. Боярская честь «совершается на деле в меру служебной заслуги», – писал он В. Б. Шереметеву. При этом царь, конечно же, не упускал случая поморализировать по этому поводу: бывает и так, замечает он, что иные, у кого родители в боярской чести, «самим же и по смерть свою не приемшим той чести»; другие же примерные слуги, много лет прожив без боярства, под старость возводятся в ту боярскую честь. Отсюда вывод – непристойно боярам хвалиться, что «та честь породная и надеятца на нее крепко не пристойно жь». Следует благодарить Бога и стараться примерною службою обратить «сердце государево ко всякой милости» [388]388
Записки. С. 351–352; Московия и Европа. С. 544.
[Закрыть].
Конечно, от подобного рассуждения до знаменитой Петровской фразы: «Знатное дворянство по годности считать» – дистанция солидная. Но нельзя не видеть несомненную симпатию Алексея Михайловича к личной заслуге – симпатию, доходящую до того, что он готов был противопоставить ее «боярской чести». Служба виделась ему как некое семейно-родовое достояние, которое следовало приумножать все той же службой.
Царь гораздо болезненнее реагировал на проступок «породного человека», чем на нерадение «худых, обышных людишек». Такая позиция – твердая уверенность в том, что, даруя великим больше прав, Бог и царь должны с них больше и спрашивать. «Князи и власти, милование и заступление и правду покажите на нищих людях… понеже суд великий бывает на великих, менший убо прощен будет и достоин милованию есть», – призывал он в одном из своих писем [389]389
Записки. С. 771.
[Закрыть].
В случае проступка знатного человека Алексей Михайлович не скупился на убийственные оценки и грозные обвинения, щедро перемешанные с занудно-пространными, а иногда и просто темными рассуждениями. В 1655 году стольник М. Плещеев, задержавший отпуск хлебных припасов из Смоленска, был уличен во лжи и приговорен думой к кнуту и ссылке. Алексей Михайлович изменил наказание, велев писать Плещеева по московскому списку с исчислением служебных качеств – клятвопреступник, ябедник и «бездушник». Нечто подобное произошло с уличенным в вымогательстве князем А. Кропоткиным. Виновного на этот раз написали по Новгороду со столь же уничижительным определением: «Вор и посульник» [390]390
ПСЗ. Т. 1, № 123, 154, 170.
[Закрыть].
Жестоко пострадал за ложь окольничий князь И. И. Лобанов-Ростовский, утаивший истинные цифры потерь самочинно устроенного им приступа к Мстиславлю. «От века того не слыхано, чтобы природные холопи государю своему в ратном деле в находках и в потерках писали неправдою и лгали», – возмущался Тишайший, для которого князь в одночасье превратился в «худого» человека. Вообще, послание к Лобанову-Ростовскому чрезвычайно интересно правкой царя, отражавшей те мысли и чувства, которые испытывал он по получении известия о проступке князя. По собственному признанию, царь писал «в кручине». Воеводе ставилось в упрек, что «приступал» он к городу «без розсмотрения всякого, положа упование на свое человечество и доротство, кроме милости Божии и помощи, а Божественная писания не воспомянул».
По убеждению царя, Лобанов-Ростовский вначале должен был «сокрушити сердце свое пред Богом и восплакать горце в храмине своей тайно, пред образом Божиим о победе». Словом, воевода Бога забыл, отсюда и получается, что все им государю рассказанное – не более чем «беспутное оправдание» (это приписано царем на обороте черновой грамотки). Однако ж при строгом указании не забывать Бога Алексей Михайлович не упускает возможности сделать несколько чисто военных замечаний, не имевших ничего общего с молитвой «в храмине». Идти на приступ приказано, «утомя осадных людей стрельбою пушечною и гранатами и всякими страхи». Заключает свое послание Алексей Михайлович требованием искреннего покаяния. Если же такового не будет, «ведаю, что оставит тебе Бог (сверху рукой царя вписано: «…и великий государь». – И.А.) в сий век и в будущий аще же не покаешися и не сотворишь себе повинна пред Богом» [391]391
Записки. С. 743–745; Московия и Запад. С. 537–542; РГАДА. Ф. 27. № 150. Л. 35–38, 40, 45.
[Закрыть].
От царя доставалось даже тем, кто, несомненно, был дорог и близок ему. Выговаривая Ю. А. Долгорукому за самовольное отступление от Вильны, Алексей Михайлович писал: «Жаль, конечно, тебя: впрямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привесть и совершенную честь на веки неподвижну учинить, да ты сам от себя потерял» [392]392
Записки. С. 757–758; Московия и Запад. С. 525.
[Закрыть]. Смысл царской сентенции становится понятным, если иметь в виду, что Долгорукий, призванный своим полководческим дарованием «всякое дело в совершение… привесть», не просто ослушался Алексея Михайловича, а еще и попытался обмануть его: по приходе в Смоленск стал просить указа… об отступлении в Смоленск.