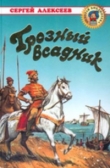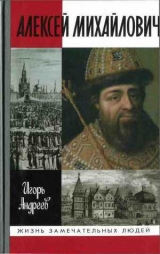
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 51 страниц)
6 июля 1658 года, во время торжественной встречи грузинского царевича Теймураза, Богдан Хитрово ударил палкой патриаршего стряпчего князя Мещерского. Ударил, возможно, и непреднамеренно, расчищая дорогу царевичу среди любопытствующих придворных. Но узнав Мещерского, махнул палкой по лбу уже явно, «уязви его горко зело». Князь побежал жаловаться патриарху. Никон и без того находился в положении оскорбленного. Ибо его не пригласили на встречу с православным царевичем, посчитав, что это дело можно уладить и без патриарха.
Никон потребовал немедленно наказать виновного. Хитрово был его открытым врагом, к тому же и опасным – благоволением царя ходил в «сильненьких». Зная о склонности Хитрово к интригам, можно предположить, что, замахиваясь палкой на патриаршего стряпчего, он уже был уверен – плод созрел, можно бить!
Так оно и вышло. Алексей Михайлович пообещал Никону разобраться. Однако попозже. Для патриарха это выдавленное и повисшее в воздухе обещание стало горькой обидой. Вся его гордая натура требовала немедленного удовлетворения. Дело было ведь не в одном государевом любимце: патриарх стремился поставить всех на место. «Волен де Бог и государь, коли де мне оборони не дал, а я де стану управливаться с ним церковию», – возбужденно пообещал он, когда стала очевидной затяжка с наказанием обидчика.
Два дня спустя последовал новый удар. 8 июля был праздник Казанской иконы Божией Матери, на всех службах которого обыкновенно присутствовал царь с двором. Сами службы исполнял патриарх, по обычаю посылавший за государем. Но Алексей Михайлович на этот раз в Успенском соборе не появился.
Не присутствовал он и 10 июля на празднике Положения ризы Господней. Зато после утрени в Успенский собор пришел князь Юрий Ромодановский и объявил Никону о царском гневе. К этому было прибавлено, что патриарх «пренебрегает» государем, называя себя «великим государем, а у нас един великий государь – царь». Нетрудно было догадаться, с чьего голоса пел посланник, – излита была прежде всего не царская, а боярская обида.
Никон возразил, что этот титул он получил от самого Алексея Михайловича. Здесь последовало внушение: царь «почте тебя, яко отца и пастыря, но ты не уразумел, и ныне царское величество повеле… отныне не пишешься и не называешься великим государем, а почитать тебя впредь не будет». Внушение выглядело крайне неуклюже: получалось, что потребовалось шесть лет для выяснения того, что патриарх был просто «почте», а Никон этого «не уразумел» и по недогадливости своей вмешивался в управление государством.
Никон вскипел. Глубоко уязвленный, он уже не желал и не хотел ждать. Если и были какие-то колебания, то непродолжительные. Никон взял бумагу, стал что-то писать, потом разорвал (для историков навсегда утраченные бесценные строки!) со словами: «Иду-де». Он решился. Все или ничего! И незамедлительно!
В тот же день, по окончании заамвонной молитвы, Никон прочел поучение Иоанна Златоуста о значении церковных пастырей, а затем отставил в сторону свой святительский посох и объявил об уходе: «От сего времени не буду вам патриарх!» Позднее иностранцы приписали Никону еще более решительное выражение протеста, свидетельствующее о полном непонимании ими поведения православного пастыря: Никон будто бы, разоблачившись, топтал патриаршее одеяние и «золотой крест, которым он благословлял народ» [309]309
Роде А.Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда в 1659 г.// Утверждение династии. С. 25.
[Закрыть].
Конечно, речь уходящего Никона была более пространна и позднее заставила правительство провести настоящее расследование, главной целью которого было выяснить: отрекался ли Никон от патриаршества «с клятвою», то есть пригрозив себе «проклятием» в случае перемены решения, или нет. Следствие мало что дало: свидетели путались, противоречили друг другу или отговаривались тем, что стояли далеко и ничего не могли расслышать. Так что из затеи сместить Никона его же словами ничего не вышло. Но бесспорно, что Никон произнес слова, которые можно истолковать как обвинение царю, – он «оставляет град сей и отходит оттуда, давая место гневу» [310]310
Гиббенет Н.История исследования дела патриарха Никона. Т. 1. С. 31.
[Закрыть].
Переодевшись в монашеское одеяние и взяв простую «клюку», Никон двинулся к выходу. Началось смятение. Растерянные священнослужители и народ стали удерживать владыку.
Крутицкий митрополит Питирим побежал докладывать о происшедшем царю. Но даже известие о патриаршем уходе не заставило Алексея Михайловича появиться – так царь распалился на патриарха. Прислан был князь А. Н. Трубецкой. Боярин пришел выяснить, отчего Никон оставляет патриаршество, не посоветовавшись с царем, «и от чьево гоненья, и кто его гонит?» Никон объявил, что оставляет патриаршество по своей воле, «ни от какаго гонения, государева гнева на меня никакаго не бывало». Ответ очень выразителен: при том, что в нем легко угадывается голос попранной гордыни, Никон рассудил здраво и не стал напрямую задевать государя – пусть того изгрызает его собственная совесть.
Несомненно, мечущуюся душу Никона вдохновляли воспоминания. Он помнил о царе, мягкосердечном и податливом. Ныне им верховодят его противники. Но верх в конце концов возьмет тот, кто овладеет царской волей. Поступок патриарха выглядит как шаг, продиктованный отчаянием. Но что может сильнее испугать такого государя, как уход гонимого им архипастыря? Никон делает ставку на слабость и страх, и нельзя сказать, памятуя о личности царя и прежних их отношениях, что это было абсолютно безрассудно.
Есть, впрочем, в поступке Никона еще один мотив, который редко берется во внимание. Натура его была столь горяча и противоречива, что расчет вполне уживался с бескорыстным порывом. Никон поступал вполне в традиции русской святости. Он не просто готов был принять мучения за правду. Он принимал мучения кротким страдальцем, намеренно не желая сопротивляться злу. В греховном мире он – добровольная жертва.
…Диалог с Трубецким Никон закончил просьбой: передать грамоту царю и испросить для него, смиренного богомольца, келью. Алексей Михайлович письмо не взял [311]311
Впоследствии Никон изложил содержание этого письма. Но оно уже противоречило тому, что показывал, пересказывая слова патриарха, Трубецкой. В письме Никон прямо объявлял: «Се вижу на мя гнев твой умножен без правды, и того ради и соборов святых во святых церквах лишаеши. Аз же пришлец есмь на земли, и се ныне, поминая заповедь Божию, дая место гневу, отхожу от места и града сего. И ты имаши ответ перед Господом Богом о всем дати». Едва ли стоит удивляться таким переменам: на протяжении дела Никон неоднократно менял тактику «обороны».
[Закрыть], патриаршество просил не оставлять, а насчет кельи выразился в таком смысле, что – если передавший царские слова Трубецкой ничего от себя не прибавил, – похоже, просто посмеялся над Никоном: келей на патриаршем дворе и так много, «в которой он (Никон) похочет, в той и живи».
Не на такой ответ рассчитывал строптивый патриарх. Он пугал. Царь не испугался.
Никону оставалось одно – остаться непреклонным. «Уже я слова своего не переменю. Да и давно у меня о том обещание, что патриархом мне не быть», – объявил он и мимо Патриаршего двора двинулся к Спасским воротам. Их не сразу отворили, и, должно быть, присевши в ожидании на ступеньку, он еще таил в душе надежду – одумаются, вернут, раскаются… Но не одумались и не вернули. Никону приоткрыли калитку, и новоявленный странник пошел из Кремля вон. Некогда Неронов пророчествовал Никону: «Да время будет и сам с Москвы поскочишь». Старец Григорий и не подозревал, как скоро сбудутся эти слова.
Никон остановился на подворье Воскресенского монастыря, повинуясь рапоряжению царя никуда не уезжать и ждать с ним встречи. Но прошел день, второй – Кремль молчал. Тогда Никон 12 июля без спроса собрался и уехал в Новый Иерусалим. Наступило восьмилетнее «сиротство» русской церкви, привнесшее великое смятение в умы современников.
Но что же на самом деле переживал в эти дни Алексей Михайлович? Этот вопрос, быть может, и не особенно важный для политической истории, интересен для биографа. Царь, несомненно, был разгневан поступком Никона. По-видимому, он воспринял его как лишнее доказательство правоты придворных недругов владыки: Никон «умалил» царскую власть, он ни во что не ставит царские милости. А чем можно было больнее задеть Алексея Михайловича, как не этими доводами?
И все же уход Никона для Тишайшего – нож в сердце. Вполне возможно, что пойди патриарх в тот момент на попятную – царь вздохнул бы с облегчением. Он ведь мечтал не о разрыве, а о том, чтобы поставить возгордившегося патриарха на место. Но Никон не был бы Никоном, поступи он иначе. Никон весь – оскорбленное, кричащее достоинство! Ведь как иначе расценить этот смиренный уход через калитку Спасских ворот? Пускай в Кремле вопиют, что идет он никем не гонимый. А вот он, в простой одежде инока, с посошком в руке. Гоним. Очень гоним.
В середине июля в монастырь приехали боярин Трубецкой и думный дьяк Иларион Лопухин. Если патриарх, увидев гостей, и надеялся на благоприятную весть, то напрасно. Князь уведомил первосвященника, что царь просит у него благословения себе, семейству и на избрание нового патриарха. Пришлось Никону проглотить обиду и подтвердить свое намерение оставить патриаршество: «Кому государь укажет быть патриархом, благословлю». До патриаршего же избрания он поручал ведать церковные дела митрополиту Питириму. Однако на самом деле Никон вовсе не собирался отказываться от продолжения борьбы. Об этом красноречиво свидетельствует его ответ патриаршему боярину Зюзину, лицу особо доверенному и преданному. Сразу же за событиями 10 июля тот спросил: «Что, государь, оставил престол свой? Оставь свое упорство и возвратись». «Будет тому время, возвращусь», – многозначительно отвечал Никон [312]312
Макарий.Указ. соч. Кн. 7. С. 166.
[Закрыть].
Между тем в столице комиссия в составе все того же А. Н. Трубецкого и Р. М. Стрешнева наложила «арест» на бумаги и келейную казну «бывшего патриарха Никона». Действовала комиссия достаточно сурово – ведь ее возглавляли люди, люто ненавидевшие патриарха. Зато в поведении других видна нерешительность. Это не было случайностью – многие не исключали возможности примирения патриарха с царем. Отсюда сдержанность и осмотрительность: что-то будет? Путала и несогласованность, связанная с тем, что «официальное отношение» к ушедшему патриарху еще не было обнародовано.
Примеров тому было немало. В указе от 15 июля о передаче одного судного дела в Тайный приказ читаем: «А к отцу нашему, великому государю святейшему Никону архиепискупу царствующего града Москвы… патриарху того вотчинного дела посылать не велели». В тот же день из царских хором в Коломенском следует указ Трубецкому и Стрешневу, разрешавший выдать из арестованной келейной казны Никона нужные ему вещи [313]313
РГАДА. Ф. 27. Д. 119. Л. 146, 164.
[Закрыть]. Указу предшествовал допрос в следственной комиссии приехавшего из Новоиерусалимского монастыря дьяка Ивана Кокошилова с любопытными формулировками (допрос был отправлен государю): «О чем… бывший патриархНикон бил челом, чтоб ты, великий государь, его пожаловал, велел ему из ево келейные казны выдать?» Так в один день Никон в разных документах упоминался и как «бывший патриарх», и как «великий государь и святейший патриарх».
Заметим, что царь приказал отдать Никону все, о чем он просил, – деньги, книги, домашние и церковные вещи, за исключением больших кипарисных крестов и иконы, на которой были изображены «царь Константин и Елена и ваши государевы лица». Большие кипарисные кресты – это «выносные кресты», которые по указу Никона несли перед ним. Понятно, что в Коломенском рассудили, что они более не нужны «бывшему патриарху». Царь также приказал оставить за Никоном все три монастыря его строения: Крестный, Иверский и Воскресенский со всеми приписанными к ним четырнадцатью монастырями и пустыньками.
Тяжба между Никоном и Алексеем Михайловичем кажется во многих отношениях странной. Начавшись, по крайне мере внешне, как реакция Никона на нанесенную ему обиду, она по мере своего развития превратилась в речах и писаниях патриарха в принципиальное противостояние. В устах Никона царь дал место «неправедному гневу»; «церкви обид много стало», «преступив Божественные правила», государь «суд церковный отнял». Царь по Никону из защитника церкви превращался в ее распорядителя, что противоречило всем установлениям и традициям. В итоге патриарх не стерпел, восстал и ушел.
Особенно пространными были обвинения в знаменитом Никоновском «Возражении или разорении». Царь для него – клятвопреступник, гонитель Божественной Правды, «восхититель церкви». «Царь при избрании нас на патриаршество, – писал Никон, – дал клятвенное обещание перед Богом и всеми святыми хранить непреложно заповеди Евангелия, святых апостолов и святых отец, и пока пребывал в своем обещании, повинуясь святой Церкви, мы терпели. А когда царь изменил своему обещанию и на нас положил гнев неправедно, мы… вышли… из града Москвы, отрясли прах от ног наших… Кто же укорит меня, что я поступил вопреки воле Божией, а не по правде, и какое тут отречение?».
Алексей Михайлович двигался в обратном направлении. Он защищал те же принципы, но в том смысле, или, точнее, в той мере, как он их понимал (и в первую очередь принцип «царства»), но в своей защите претерпел от Никона такие оскорбления, что вскоре ни о каком примирении говорить не приходилось – неприязнь стала еще и личной, превратилась в нестерпимую обиду.
В минуты, когда Никон напоминал прежнего неукротимого Никона, он с гневной настойчивостью твердил о гонениях и злых гонителях, заставивших его покинуть престол; о царе, нарушившем свои же клятвы и «презревшем святые заповеди и правила». «Откуда ты принял такое дерзновение сыскивать о нас и судить нас?.. – сурово вопрошал он царя. – Не довольно ли тебе судить в правду людей царствия мира сего, о чем ты мало заботишься?.. Все законы святых отец и благочестивых царей… ты обратил в ничто».
Тишайшего возмущали подобные обвинения. Как праведный государь и благочестивый христианин, он чувствовал себя глубоко оскорбленным. Если он и вмешивался в церковные дела, то по праву, данному ему саном Помазанника Божия, и по нужде, возникшей из-за того, что патриарх бросил на произвол паству и Церковь. Такие раны не затягивались и не рубцевались, а лишь обильнее кровоточили после каждого нового выпада опального владыки.
Но второй Романов, при всем своем преклонении перед Иваном Грозным, – не Иван Грозный. Тот разрешил бы тяжбу просто, как с митрополитом Филиппом – низложил бы собором послушных архиереев, а затем и отнял бы жизнь. Алексей Михайлович по своим человеческим качествам стоял неизмеримо выше. Справедливое дело должно торжествовать по самой своей сущности, по Правде. Царь ведет дело к суду церковному, соборному осуждению патриарха и уже в этом намерении проявляет несвойственную ему настойчивость и твердость.
Сначала казалось, что конфликт удастся разрешить скоро и мирно: Никон уйдет сам, ибо громогласно объявил, что «сошел с патриаршества собою». Однако надеждам этим не суждено было сбыться. Никон заявил, что оставил престол, а не архиерейство. Именно потому и было затеяно упомянутое выше дело о том, как уходил из собора Никон – с «заклятием» или нет? Но Никон не уступал и все показания свидетелей об «анафеме» начисто отметал – не говорил такого, и все тут! При этом он по-прежнему не возражал против избрания нового архипастыря, но только с его, Никона, рукоположения. Он даже писал об этом самолично царю, изменив – и это очень показательно – прежнюю подпись с «бывший патриарх» или «смиренный Никон» на «Никон, Божьей милостью, патриарх». С этим уже никак не могли смириться в Кремле. Было ясно, куда гнет Никон: новый пастырь, получивший благословение из рук старого, сохранившего архиерейство, оказывался в подчиненном положении.
В марте 1659 года в Неделю ваий (Вербное воскресенье) Крутицкий митрополит Питирим совершил шествие на ослята. Никона это известие привело в великое раздражение. В действиях Крутицкого митрополита и царя он увидел посягательство на патриаршие права. Тотчас в Москву было отправлено гневное письмо. Тон послания задел Алексея Михайловича. Тем не менее он сдержал себя и решил объясниться. В монастырь отправились думные дьяки Прокофий Елизаров и Алмаз Иванов. Оба были опытными администраторами, умевшими добиваться своего. Но здесь коса нашла на камень: рассерженный Никон становился невероятно упрямым и своевольным, так что все уговоры и увещевания отскакивали от него, как от стены. Никон передавал – «приказывал» – Алексею Михайловичу через его посланников: «…В том во всем стоит и ныне непреткновенно, и говорил с клятвою, что ни в мысли его о возвращении на престол великия России нету, только имени патриарха не отрицался и ныне не отрицается, и московским не именуясь» [314]314
Гиббинет Н.История исследования дела патриарха Никона… Т. 1. С. 168.
[Закрыть].
В позиции Никона была своя логика. В конце концов, на православном Востоке оставивший свою кафедру патриарх продолжал именоваться патриархом до самой смерти. Это, правда, противоречило отечественной традиции. Но разве не перенимала русская церковь при нем же, Никоне, греческие порядки? Возможно, царь признал бы обоснованность такой позиции, но только не с Никоном. Во-первых, потому что противостояние приобрело принципиальный характер. Во-вторых, потому что Никон был непредсказуем и неуправляем. «Я ни за какие вины от церкви не отлучен, и хотя своею волею оставил паству, но попечения об истине не оставил, и впредь, когда услышу о каком духовном деле, требующем исправления, молчать не буду», – говорил воскресенский затворник, и неудивительно, что после таких заявлений окружение Алексея Михайловича предпочитало иметь дело просто с иноком Никоном, а не с «безместным» патриархом.
История с шествием на осляти в Вербное воскресенье имела продолжение. Питирим и в дальнейшем, не обращая внимания на протесты Никона, участвовал в церемонии «в патриаршее место». Тот ярился и протестовал. Для Никона «в образе Господа нашего Иисуса Христа» мог выступать только он, патриарх. Разгорячившись, он, наконец, предал Питирима анафеме. А над Алексеем Михайловичем зло посмеялся. В своем «Возражении» Никон писал: «А что государь царь под Крутицким митрополитом лошадь водит, как государь царь изволит. Хотя ино что посадит, да повезет, но ево то воли» [315]315
Успенский Б. А.Царь и патриарх. Харизма власти в России. М., 1998. С. 447.
[Закрыть]. Иными словами, в его, государя, воле, вести лошадь под Питиримом, но только это уже не будет полное мистического смысла шествие, а обыкновенное выгуливание, во время которого царь окажется в сомнительной роли слуги.
Инцидент с шествием на осляти 1659 года в который раз напомнил об импульсивности и непредсказуемости Никона. Ведь он, отставленный от престола, вновь вмешался в церковные дела. Царь не упустил случая выговорить за это Никону. Одновременно по приказу Алексея Михайловича были просмотрены личные бумаги Никона в Патриаршем дворе. Реакция была бурная: «Удивляюсь, как ты дошел до такого дерзновения, – в великом раздражении выговаривал Никон государю, – прежде страшился судить простых церковных причетников, потому что этого святые законы не повелевают, а теперь захотел ведать грехи и тайны бывшего пастыря, и не только сам, да еще попустил мирским людям».
В Москве упрямство Никона приписали отчасти его связи с духовенством, которое будто бы поддержало своего упрямого владыку. Потому духовенству было запрещено без особого на то разрешения светских властей ездить в Новоиерусалимский монастырь. На дорогах были даже расставлены заставы с приказом останавливать всех идущих в обитель. Естественно, Никон узнал о распоряжении и возмутился. В свою очередь, в Москве возмутились возмущением патриарха. В мае 1659 года в монастырь приехал думный дьяк Дементий Башкаков.
Дементий – фигура знаковая, лицо не просто доверенное – посвященное в самые сокровенные тайны Алексея Михайловича. Его появление – свидетельство намерения Тишайшего выяснить отношения и все же договориться с Никоном. Условия этой устной договоренности не совсем понятны. Но Никон явно смягчился: в июле он направляет Алексею Михайловичу письмо с разнообразными просьбами и характерной концовкой: «богомолец ваш, смиренный грешный Никон, бывший патриарх».
Однако это вовсе не капитуляция. Никон не оставляет мысли о примирении и возвращении. Причем по инициативе царя и на его, патриарха, условиях. Время надеяться на такой поворот было «выбрано» самое подходящее. Возобновившаяся война с Речью Посполитой пошла совсем по другому сценарию, чем кампании 1654–1656 годов. Теперь инициативой владела Польша, взявшая себе в союзники своеволие казацкой старшины и алчность крымского царя. Никон же до сих пор знал Алексея Михайловича как человека, который плохо держит удары судьбы и легко приходит в смятение. Значит, пошатнувшись, он вновь станет искать сочувствие и опору. Надо лишь подождать, пока плод созреет…
Лето 1659 года грозило Московскому государству «большой татарской войною». Прошел слух о намерении крымского хана идти воевать столицу. Тишайший даже предупредил бывшего патриарха о возможности появления крымских отрядов. Едва ли Никон испугался. Но ему уже в каждом обычном проявлении вежливости мнилось желание царя пойти на уступки. Сославшись на опасность – в монастыре нет гарнизона, – он попросил разрешения прибыть в столицу. Не успел Алексей Михайлович разомкнуть грамотку, как в тот же день, оправдываясь известием о приходе неприятеля, Никон и в самом деле приехал в Москву.
Но напрасно Никон на что-то надеялся. Едва стало ясно, что слухи о приходе татар беспочвенны, как его тотчас выдворили обратно в обитель. Раздражение царя из-за своевольничанья патриарха было столь велико, что он прекратил с ним переписку. Всякий, кто имел дело со вторым Романовым, хорошо знал, что это значит. Изгнание из списка царских адресатов означало опалу.
Осенью 1659 года Никон отправился в давно задуманную поездку в Крестный монастырь на Белое море. Власти не препятствовали этому намерению. Беспокойного владыку давно хотели «отселить» подальше от столицы. Ему был даже предложен Калязин монастырь. В ответ Никон заявил, что в таком случае уж лучше сразу кинуть его в тюрьму… Тогда заговорили о Крестном монастыре. Для Никона это была «инспекционная» поездка – построенная по обету обитель находилась под его неусыпным контролем; для властей – слабая надежда на добровольное удаление бывшего патриарха. При этом светские и духовные власти преследовали еще одну цель: было признано, что с удалением Никона легче будет собрать давно задуманный церковный собор для суда над ним. Впрочем, верный Зюзин был начеку и своевременно известил о соборе Никона. Для владыки известие стало громом среди ясного неба: несмотря ни на что, он самоуверенно продолжал считать, что царь не решится на его низложение. Да и кто из епископов, многие из которых были обязаны ему своим возвышением, осмелился бы низвергать его?
Действительность оказалась жестче. Епископат, уставший от «тиранства» первосвятителя, отступился от Никона. Оставалось лишь удрученно качать головой и морализировать. «Когда вера евангельская начала сиятися и архиерейство честию по царствии благочестивыми любопочитанися, тогда и тим паче неблагочестивых почтошася. Когда же злоба гордости распространилась и архиерейская честь изменилась, увы! Тогда и началось царстве неспадеся» [316]316
Гиббинет Н.История исследования дела патриарха Никона… Т. 1. С. 53.
[Закрыть]. Это – из письма, отправленного в феврале 1660 года все тому же патриаршему боярину Зюзину, ставшему поверенным всех патриарших горестей и разочарований.
Февральский собор 1660 года осудил Никона за самовольное оставление святительского престола. Он был лишен архиерейства и священства. Но Никон отказался признать законность этого решения и потребовал суда равных – вселенских патриархов. На самом деле собор русских епископов был вполне правомочен решать подобные вопросы. Тем не менее Алексей Михайлович признал правоту новоиерусалимского затворника. В свое время он сам ратовал за то, чтобы придать московскому патриарху «вселенское» значение. С этим следовало считаться, и смещать Никона, в недавнем прошлом «пастыря всего мира», надо было с учетом этого собственноручно возведенного препятствия.
За Никона вступился и Епифаний Славинецкий, доказывавший неправомочность соборного осуждения. К слову Епифания прислушивались. Решение Собора не получило силу. Церковь по-прежнему пребывала в «нестроении» и «сиротстве», с неясной перспективой выхода из кризиса – трудно было собрать в Москве для суда над строптивым владыкой сразу нескольких восточных патриархов, пускай и падких на царские щедроты. К тому же на единодушие греков надежд было мало. Никон за время патриаршества своим покровительством и прикармливанием греков завоевал большой авторитет на христианском Востоке. Его поддерживали, стараясь примирить с царем, Константинопольский и Иерусалимский патриархи. Тем не менее другого выхода не было. Началась пересылка грамотами с восточными владыками.
Никон тоже не оставался безучастным. Он не упускал случая подчеркнуть свои заслуги. Даже случившуюся вскоре после смерти Хмельницкого измену нового гетмана Ивана Выговского он попытался обратить к своей пользе. При нем «его (Выговского. – И.А.) никакие неправды не было», – заявлял он, не без хвастовства прибавляя: стоит ему написать изменившему гетману «хотя две строчки», и тот сразу одумается и вернется в царское подданство.
Осуждал Никон и возобновление военных действий с Речью Посполитой. «Святая кровь христианская из-за пустяков проливается», – уверял он в свой приезд в Москву в 1659 году.
Никон, конечно, выступал со своими обвинениями не просто так, но чтобы внушить: именно при нем, охранителе и заступнике, Православное царство процветало. Но делал он все по обыкновению так грубо, так непоследовательно – ведь еще совсем недавно он сам жарко ратовал за войну, – что это вызывало сильное раздражение.
Вообще, та неопределенность, которая возникла после неудачных попыток низложения Никона, много способствовала несуразным и даже низким поступкам с обеих сторон. Противники патриарха, окончательно избавившись от страха быть наказанными в случае его возвращения, принялись мстить и травить поверженного гиганта. Возмущенный Никон огрызался, но, как всегда, нервно, впадая в крайности и прибегая к не менее сомнительным приемам, которые, быть может, и соответствовали нравственному уровню времени, но никак не украшали архипастыря.
Будучи в Крестном монастыре, Никон тяжело заболел. Заподозрили отравление. Подозрение пало на дьякона Феодосия, будто бы подосланного злейшими врагами Никона Питиримом и чудовским архимандритом Павлом. Феодосий сознался, но то было признание, выбитое услужливыми слугами патриарха, быстро смекнувшими, что хочет услышать Никон. Неудивительно, что на суде дьякон отказался от своих речей. Никон, однако ж, остался при своем мнении, и это лучше всего говорит об атмосфере, в которой он жил, – атмосфере страха, неопределенности и подозрительности.
В эти годы Никона стали донимать многочисленными тяжбами. Иногда их возбуждали соседи, иногда истцом выступал сам патриарх. Здесь не столь важно, какая из сторон была права. Существенно другое – открытое стремление уязвить Никона, контраст между тем, что было прежде и что стало теперь.
Особенно задела Никона тяжба со стольником Романом Бобарыкиным. Бывший патриарх обвинил стольника в захвате монастырской земли и пожаловался государю. По указу государя Бобарыкин получил за свои строения деньги, а землю должен был отдать по старым писцовым книгам в Левкин монастырь. Никон воспротивился такому решению – ведь земли он считал принадлежащими Новоиерусалимской обители по именному царскому указу. Отстаивать свои права в суде он не стал и толкнул монастырских крестьян на захват спорных четвертей. Ответчик возопил о насилиях, чинимых патриархом и его крестьянами, прибавив, что первый подталкивает вторых на его, Бобарыкина, убийство: «И грозят мне воры от патриарха смертным убийством». По царскому указу был даже произведен обыск среди монастырских крестьян с целью выяснения причастности Никона к преступному умыслу. Расспросы ничего не дали. Не приходится сомневаться, что Никон щедро сыпал гневными филиппиками в адрес стольника. Но едва ли при этом он грозил «смертным убийством». Обвинение в подстрекательстве было или просто выдумано, или выведено из слов монастырских крестьян, которые, как водится, не упустили случая пригрозить недругам своим «великим государем». Но тень обвинения на Никона пала.
Тяжба затянулась. При этом чем более вызывающе становились челобитные Бобарыкина, тем слабее оказывались позиции Никона при дворе. В 1663 году Бобарыкин добился разрешения дела в свою пользу. Никон отреагировал по-своему: 26 июня 1663 года во время молебна он помянул своего обидчика и положил перед образом Богородицы грамоту. Стольник тоже не оплошал – ударил челом царю, обвиняя Никона в том, что тот его, безвинного, проклял перед образом Богородицы.
Челобитная вызвала переполох. Алексей Михайлович собрал бояр и духовенство. Раздались голоса о ссылке «разнуздавшегося» владыки в монастырь. Но Алексей Михайлович взял сторону меньшинства: решено было сначала разобраться с тем, что все же произошло во время службы. Правда, для «разбора» были назначены люди, на непредвзятость которых надеяться не приходилось. Ставшие «специалистами» по преследованию Никона, Н. И. Одоевский и Р. М. Стрешнев одними своими именами провоцировали патриарха на экстравагантные поступки с заранее предопределенным исходом. Так что симпатии царя были ясно обозначены, несмотря на всю видимость попыток сохранить внешнюю непредвзятость.
Судьи прибыли в обитель вместе со стрельцами. Через несколько дней, 22 июля, когда патриарх вознамерился совершить прогулку по окрестностям, ему было объявлено, что он имеет право покинуть стены только с царского разрешения. То был домашний, или, точнее, «монастырский», арест, коснувшийся, впрочем, не одного Никона, но всех обитателей монастыря.
Конечно, подобные выпады не решали самого главного – вопроса о «сиротстве церкви» и избрании нового, угодного Алексею Михайловичу патриарха. Но зато ничего лучше не могло испортить отношения между царем и патриархом, чем эти в общем-то мелкие, далекие от принципиальных вопросов, тяжбы из-за крестьян и земли. В этом придворные недруги патриарха были сведущи и ловки, как никто другой. Царский суд отобрал у монастыря крестьян и угодья. Никон тотчас обличает государя: «Какие законы Божии повелели тебе обладать нами, Божиими рабами?» Тут же, во время службы, громогласно зачитывается жалованная грамота Новоиерусалимскому монастырю на владения (теперь уже проигранные) с никоновским «комментарием» – проклятием тем, кто преступил царскую волю. Но ведь царская воля нарушена по новой царской воле! Проклятие падает на Алексея Михайловича и всех его домашних – а сам царь лишь сетует на патриаршее злонравие: «Пусть я грешен, но чем виновата жена моя и любезные дети мои, и весь двор мой, чтобы подвергаться такой клятве?» [317]317
Первые Романовы. С. 274–275.
[Закрыть]В этой печали сквозит даже удивление – как можно было так ошибиться в «собинном друге»?
В эти годы Никон поневоле много писал. Особенно пространным оказался его ответ на вопросы боярина Стрешнева и рассуждения на эти темы грека Паисия Лигарида. Первого Никон вполне обоснованно числил среди своих главных недоброжелателей, второго всей душой ненавидел и презирал.