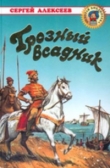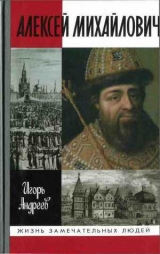
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 51 страниц)
В своих письмах царь – настоящий поэт птичьей охоты. Созданный им знаменитый «Урядник сокольничего пути» – подлинный гимн этому царскому увлечению. Чего стоит одно только вступление к Уряднику, написанное в один выдох, в полноте чувств. «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичья добыча!» – восклицает автор, приглашая читателей усладиться особенностью и красотой полета каждой птицы. «Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая переласка и добыча. Красносмотрительно же и радостно высокова сокола лет… До сих же доброутешна и приветлива правленых ястребов и челигов ястребьих ловля; к водам рыщение, ко птицам же доступание».
Каждая строка предисловия не просто красива – содержательна. Царь знает, о чем пишет. Красота полета сокола – в высоте и в стремительном, почти неуловимом для глаза, падении на добычу, ударе и в новом крутом подъеме, новой «ставке». Сокол «с великим верхом» (то есть высотою полета) – лучший сокол, оттого и «красносмотрителен… высокова сокола лет». Дермлиги (разновидность мелкого сокола), не давая опомниться своей добыче, атаковали ее сверху и снизу. То и была «дермлигова переласка», которая в суете и неутомимости своей могла казаться даже потешной…
Исследователи литературы охотно включают Урядник в число литературных памятников Древней Руси. В нем видят начала эстетические, художественные. Но Урядник – это еще и целое мировоззрение, царский проект устроения мерного и благочинного мира. Это особенно ощутимо, когда выспренний тон «Предисловия и сличения» сменяется вполне конкретным описанием церемонии посвящения в сокольничий чин. Для царя и его современников в строгом, соразмерном распорядке церемонии, когда каждый знает свое место и делает свое дело, и таится подлинная красота и честь для каждой вещи и каждого чина. Потому Урядник вовсе не утрачивает своей праздничности – «красоту и удивление». Он лишь несколько меняет тональность.
Вся церемония предполагает особое уготовление, вбирающее в себя всю символику «красной охоты». В передней избе к приходу государя стелется «ковер диковатой» (серо-голубого цвета), на который кладется подушка, набитая пухом диких уток. Против подушки-изголовья ставятся четыре нарядных стула для четырех лучших, первостатейных птиц – соколов и кречетов. Между стульями кладется крытое попоной сено, где будут наряжать новопоставленного в чин. Сено и попона – символы коня: нет сокольничего без птицы, но нет настоящей птичьей охоты и без коня!
Все это вместе названо местом. И люди, и птицы, раставленные по месту, – все должны быть в лучших платьях и в «большом наряде». Сам нововыборный должен стоять одетым «в государево жалованье» – новый суконный кафтан с золотыми и серебряными нашивками «х какому цвету какая пристанет», в ферезее и шапке, обязательно надетой «искривя» – лихо набок. Это и есть уряд и устрой по чину.
Далее следует церемония пришествия царя и приветствия начальных сокольников и рядовых. Затем наступало время «объявлять образец и чин». Начиналось все с «наряжания» птиц. Это было не обычное одевание обнасцов, колокольцев, клобучков и прочего, но настоящее священнодействие, исполненное глубокого смысла. Не случайно оно открывалось фразой подсокольничего: «Начальные, время наряду и час красоте».
Поразительны определения, которые предшествовали каждому следующему движению участников. Посвящаемому в чин вручают рукавицу, которую он должен «вздевать тихо и стройно». Одевши же, «пооправяся», «поучиняся» и перекрестясь, он брал челига. Урядник требовал, чтобы сделано это было не просто так, а «премудровато», то есть умело и «оброзсцовато». По Тишайшему, это и есть столь любимое им «стройство» – умение вести себя так, как должно и положено каждому чину.
К самому государю надо было подступать «благочинно, смирно, урядно»; подойдя, остановиться «поодоле» от царя, но не просто так, а «человечно, тихо, бережно, весело»; кречета при этом следовало держать «честно (достойно. – И.А.), явно, опасно (осторожно. – И.А.), стройно, подправительно (исправно, по образцу. – И.А.), подъявительно (напоказ. – И.А.) к видению человеческому и х красоте кречатье». Так Урядник связывал воедино те центральные понятия, которые объявлены в Предисловии – через «стройство» – действие – являл урядство, красоту, честь и меру.
Средневековое общество корпоративно. Царь создает избранную корпорацию, корпорацию сокольничих, особость которой закреплялась особостью действия, приравненного чуть ли не к обряду. И снова невольная параллель: подобную игру со своим Всешутейшим и Всепьянейшим собором затеет позднее Петр. Но насколько отличны оба «стройства»! Петр осмеивал, издевался, выворачивал наизнанку то, что испокон веков было неприкосновенно – обычаи предков, жизненный уклад, священнический сан. Словом, расшатывал устои. Алексей же Михайлович упрочивал их. И пускай это упрочивание происходило в миру почти особом, созданном царским увлечением, в сознании Тишайшего по этой мере и по этим принципам должен был выстраиваться весь благочинный мир.
Все в Уряднике должно было культивировать сознание корпоративности и особости царских сокольничих. Даже язык их выстраивался непонятно для непосвященных. «Врели горь сотело?» – спрашивает подсокольничий у государя после посвящения. «Сшай дар», – отвечает царь, и все это значит: «Время ли, государь, совершать дело?» – «Совершай дар».
Все это преследовало задачу вполне прозаическую: побудить сокольничих к добросердечной, старательной службе. Обряд наряжания нововыборного, к примеру, предполагал чтение письма-наставления о послушании. Отныне он должен был «во всем добра хотеть от всея души своея, и служить и работать верою и правдою, и тешить нас, великого государя, от всего сердца своего до кончины живота своего». Царь определял смысл истинного служения-послушания, доведенного до уровня повседневного регламентированного поведения. Послушание значит «во всякой правде быть постоянну и тверду», слушаться «однослову», отступаться от всякого «дурна» и о «плутовстве» и непослушании доносить, обязанности свои выполнять «прилежно и безскучно», своих товарищей «любить что себя». Перед нами – кодекс служебной чести, образец, или точнее, типикон идеальной службы.
До сих пор остается открытым вопрос об авторстве Урядника. Принадлежал ли он перу одного Алексея Михайловича или был результатом творчества нескольких человек? В самом тексте легко уловить интонации Тишайшего, именно ему присущие стилистические обороты и выражения, свободу мысли, которую мог позволить себе только государь. Оканчивая часть первую Урядника, автор писал: «О славные мои советники и достовернии и премудрии охотники! Радуйтеся и веселитеся, утешайтеся и наслаждайтеся сердцами своими, добрым и веселым сим утешением в предъидущие лета. Сия притча душевне и телесне; правды же и суда и милостивыя любве и ратного строю николи же позабывайте: делу время и потехе час».
Здесь многое выдает руку Алексея Михайловича. – Само обращение – «славные мои советники»; особенно любимый им прием завершать мысль присказкой или притчей. Обращает на себя внимание форма изложения, в первую очередь вступление к Уряднику, которое смахивает на очередное царское поучение-наставление. Но главное – мысли. Надо помнить о правде, творить суд, милостыню, служить всем сердцем, памятуя о воздаянии за свои дела и помышления, – все это звучит очень знакомо, совершенно по-царски, если вспомнить то, о чем без устали писал Тишайший в своих посланиях.
Само произведение сохранилось в двух списках, один из которых неполный и, по-видимому, представляющий последний рукописный вариант [437]437
РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 1,4.
[Закрыть]. Оба списка содержат приписки, сделанные рукой Алексея Михайловича. Но надо ли отнести их на счет царя-редактора или на счет царя-автора, сказать трудно. Царь привык чернить бумаги, подготовленные ему дьяками и подьячими. Но он чернил по нескольку раз и свои собственные письма, выступая в роли требовательного писателя, который озабочен не только точностью мысли, но и выразительностью. Так что работа над Урядником вполне укладывается в манеру царя писать собственные произведения.
Страсть автора Урядника к церемониалу посвящения в сокольничий чин также свидетельствует в пользу авторства Алексея Михайловича. Достаточно сравнить написанное с церемониалом отпуска полка Трубецкого в 1654 году. Параллели явные – от прямых повторений до подробно расписанного сценария, за которым легко проглядывается отличительная черта царя – любовь к деталям.
Заметим попутно, что планы автора Урядника были несколько пространнее того, что оказалось зафиксировано на бумаге. Едва ли царь, заказывая Урядник, удовлетворился бы подобным исполнением порученного. Да и осмелился ли кто-нибудь не выполнить государеву волю? Скорее всего сам Тишайший, по обыкновению наметив обширные планы, исполнил меньшее и тем довольствовался – то ли за недосугом, то ли по иным, неизвестным нам причинам.
Вместе с тем нельзя не признать, что перечисленные доводы в пользу авторства Алексея Михайловича все же оставляют вопрос открытым. Окончательную ясность может принести лишь прямое указание источников, например царский автограф. Пока же следует ограничиться признанием безусловного участия Тишайшего в работе над текстом.
Заядлый охотник, Алексей Михайлович готов был отправляться на охоту в любое время. Не случайно в Уряднике провозглашено, что для «достоверного охотника… всегда время и погодье в поле». В 1650 году царь указал Матюшкину записывать, «в который день и которого числа дождь будет» и как «носят и отлетают» его птицы. Так появился погодный дневник царя. Сохранился он не за все годы. Но и то, что осталось, впечатляет, позволяя более отчетливо представить «охотничьи будни» второго Романова.
Алексей Михайлович был неутомим. Особенно часто он охотился в 50-е – первой половине 60-х годов. Стоило делам нарушить в эти годы привычный ритм охоты, как следовал горестный вздох. «Не ходил на поле тешитца июня с 25 числа июля по 5 число, и птичий промысел поизмешался», – жаловался он своему ловчему, единственному человеку, способному оценить «жертвенность» царя. Но такое случалось редко. Чаще было обратное – бесконечные отъезды в поле.
В иные месяцы царь выезжал в поле до 15–20 раз, причем иногда по два раза на день – до и после обеда! Так что можно усомниться в правдивости известной сентенции Алексея Михайловича о деле, которому время, и потехе, которой час. У Тишайшего иной раз получалось все наоборот: потехе – время, а делу – час, причем слово «час» здесь следует толковать в прямом смысле.
Царь овладел охотничьим ремеслом до тонкостей. Его трудно было обмануть, он входил в каждую мелочь, но при этом не упускал того, что ему так не хватало в делах управления – главного. Быть может, этим он невольно доказывал, что одного чувства долга для успеха в делах государственных мало. Нужны еще и талант, и любовь – все то, что он с лихвой демонстрировал в своем охотничьем увлечении.
С одного взгляда Алексей Михайлович угадывал качество птицы. «Видитца как бы тяжел», – замечает он про полет одного сокола, а о другом пишет: «добр добре будет». Часто ошибавшийся в подборе помощников для дел государственных, царь был точен в оценке деловых качеств своих сокольничих. Здесь он редко ошибался и был необыкновенно, даже жестоко требователен. Будь он так же деловит, требователен и прозорлив в общении со своими думными и придворными чинами, дела государственные, несомненно, складывались бы куда удачнее, а успехи были бы много весомее.
Случалось, что необходимость заставляла второго Романова перепоручать управление кречатней доверенным лицам, прежде всего Матюшкину и Голохвастову. Делал он это всегда с большой неохотой и не упускал случая потребовать подробного отчета. Бедному Матюшкину приходилось отвечать царю про все «подлинно», по статьям, не оставляя «ни одной строки, против которой к нам не отписать». И если полковые и городовые воеводы сплошь и рядом могли увернуться от царского допроса, то Матюшкину со товарищи не приходилось надеяться на монаршую забывчивость. Алексей Михайлович помнил обо всем и строго взыскивал за «небрежение».
Служба в сокольничих была и привлекательна, и трудна. Царь жаловал их с непривычной для провинциального служилого люда щедростью и быстротой. Но и с наказанием не задерживался. По царскому слову сокольников без промедления вразумляли батожками, а за тяжелые проступки изгоняли из чина, ссылали в солдатскую службу [438]438
РГАДА. Ф. 210. Приказный стол. № 346. Л. 245–247.
[Закрыть]. Это была неприятная, хотя и неизбежная сторона близости к царю. Особенно туго приходилось тем, кто попадался Алексею Михайловичу под горячую руку. Разгорячить же царя было чрезвычайно легко: хватало одного известия о плохом самочувствии любимого кречета, не говоря уже о таких серьезных проступках, как утрата или гибель птицы. Тут уж благодушный государь наливался гневом и метал в провинившегося громы и молнии. Доставалось даже Матюшкину и Голохвастову. «Вы на меня не встречайте», то есть не пеняйте, писал им Алексей Михайлович, заранее предупреждая, что безжалостно взыщет за непорядки.
Но более всего за недогляд и небрежение перепадало простым сокольникам. Иван Ярышкин как-то не вставил как следует окончину в кречатне. Ветер выбил раму и та, падая, зашибла сибирского кречета Мальца. Об увечье доложили Матюшкину. Тот нарядил целое следствие и виновного, «чтоб вставлял окончину крепко и кречетов государевых берег», жестоко побили батогами. Этим, однако, дело не ограничилось. После доклада царю незадачливому сокольнику указано было еще добавить – в назидание остальным.
В 1656 году Алешка Багач без разрешения напустил на живую птицу сокола. Сделал он это в дороге, должно быть, от острого желания узнать, чем увенчались его беспрестанные труды. Сокол улетел. Последовавшее наказание лучше всяких слов передает всю тяжесть царского гнева. Алешку ободрали кнутом и посадили на шесть недель на «чепь» с внушением, стилистика которого выдает руку Алексея Михайловича: «Чтоб на то смотря, дуровать иным было неповадно» [439]439
Кутепов А.Царская охота на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век. СПб., 1894. Т.2. С. 84, 93.
[Закрыть]. Зато уж если случай возвращал улетевшую птицу, Тишайший приходил в прекрасное настроение. Как-то один рязанский сын боярский поймал улетевшего сокола. Довольный Алексей Михайлович тотчас отписал о том Матюшкину, не упустив случая подтрунить над ним: вы теряете, мы находим.
Царь хорошо знал своих кречетников, сокольников и ястребников. Он собственноручно, по памяти, вписывал и поправлял их имена в приказных списках. Так, «потешив» царевича Федора «красною охотой», государь на следующий день чернил роспись сокольничих, которые «вчерашнего дни были на поле». При этом он с тщательностью провизора, составляющего важное лекарство, выискивал правильное соответствие наград служебному рвению каждого из участников «потехи» – кому по киндяку «лучшему», кому по «середнему», а кому поплоше – просто по киндяку.
Царь привычно делил служилых людей на «чины» и «статьи». Но в общении со своими сокольничими он находил, что этого мало. Ему еще нужны были их нравственные качества – рвение, старание, честность. Среди кречетников, сокольников и ястребников царь выделяет тех, «у каторых добрые птицы бывают и сами добры». Они составляют в царском реестре «первую статью». «Другая (вторая. – И.А.) статья» слуг – «каторые поплоще». И уж совсем для него плоха «третья статья», потому что люди в ней «худы». Принцип деления прост и несокрушим: «добрые» – те, у кого птицы лелеяны и всегда пригодны к делу, «худые» – кто к птицам невнимателен. При этом в оценке способностей кречетников царь прозорлив. Во вторую статью занесен некто Федор Григоров, против которого помета: «Молод, а чает, что будет добр». Замечание многообещающее – царю угоден! [440]440
РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 5. Л. 1–2; Ч. 7. Л. 10–12.
[Закрыть]
Второй Романов был убежден, что особое положение обязывает сокольничих служить ему с великим старанием. Он даже в обращении к ним подчеркивал их особость: «Избранным нашим и верным сокольникам». Пренебрежение чином сокольника воспринималось Тишайшим как личное оскорбление. Когда сокольник Борис Бабин «погнушался… нашему государеву соколничью чину и стал считаться с Михеем Тоболиным, что он по городу служит», то Алексей Михайлович повелел виновного бить батогами и вымарать из чина сокольников, после чего Бабин три недели «волочился», выпрашивая прощение. Царь простил «наполовину»: Бабина назад не взяли, а написали стремянным конюхом к грузинскому царевичу. В этом назначении была своя полуприкрытая насмешка, побуждавшая остальных сокольничих к еще большему рвению.
Проступок Бабина побудил Алексея Михайловича написать «избранным сокольникам» целое послание. Как водится, царь несколько раз правил его, чтобы найти более язвительные определения. Алексей Михайлович не удовлетворился просто словом «погнушался» и приписал перед ним «нашею милостию», в результате чего получилось: «нашею милостию погнушался нашим государевым милостивым соколничьим чином». Сам проступок был объяснен «беспутной дуростью» Бабина. Если в первой редакции Алексей Михайлович призывал сокольничих «наипаче прежнего простиратца и служить», обещая, что «служба ваша николи забвена не будет», то в новой редакции прибавлены были и «грозы»: теперь царь приказывал «дурны всякие обычаи прежнии отставить». Все это было написано в июле 1655 года близ Шклова, в разгар военных действий. Тем не менее происшедшее так задело государя, что он нашел время дважды вернуться к этой теме – штрих незначительный, но вместе с тем и показательный [441]441
Там же. № 53. Л. 1–4.
[Закрыть].
Однажды сокольники, не получившие вовремя жалованья, ударили челом государю. Царь посчитал это челобитье чуть ли не «заговором». В гневной отповеди он писал, что на днях собирался их пожаловать и жалованье было даже готово, но «вы того не дождалися и завели воровски челобитье». «Вспомяните, – обращался царь к начальным, не досмотревшим за сокольниками людям, – кто каков был и каков пришел, и каков ныне стал… за милость Божию и за ево государево жалованье можно бы и унять».
Сыск выявил «заводчика» Федора Кошелева, которому приказано было отсечь левую руку и положить ее на челобитье. Остальных высекли кнутом.
И все же статус сокольничих оставался чрезвычайно привлекателен. Показательно, что появлялись даже люди, самозвано возводившие себя в этот чин.
Царское увлечение было дорогим удовольствием. Алексей Михайлович имел несколько зверинцев. Самый большой находился в селе Семеновском. Здесь было много медведей: и «дворных» – прирученных, и диких, отловленных в лесах. Всех их держали для боев, травли и иных увеселений. Но главное, конечно, были птицы, содержавшиеся на Соколином дворе в том же Семеновском. Сам двор был подведомствен Тайному приказу. Уже одно это придавало ему особый статус. Денег на кречатню не жалели. Постройки, принадлежавшие двору, были образцово отстроены и производили впечатление даже на иностранцев.
Не каждый имел возможность попасть на территорию Соколиного двора. Даже Николаасу Витсену это не удалось сделать – а ведь он, как мы помним, ухитрился дойти до Никона! Не помогли даже деньги, обычно делавшие слуг покладистыми. Сторожа отказались взять их, заявив, что не пропустят немца без разрешения и за мешок денег [442]442
Витсен Н.Указ. соч. С. 150.
[Закрыть].
Царь превратил саму возможность взглянуть на его любимых птиц в знак особой милости. Августин Мейерберг рассказывал, как царь «из расположения к своему любезнейшему брату, цезарю Римскому Леопольду», прислал к ним шесть сокольников, одетых в дорогие кафтаны. Все они держали на правой руке кречетов, которые «были в новых колпачках из великолепной ткани». Лучшего кречета украшало золотое кольцо с рубином. Впрочем, если бы Алексей Михайлович был осведомлен относительно истинных чувств, какие испытали при виде сокольников великие послы, он был бы разочарован. «Такая потраченная попусту торжественность… располагала к смеху, и дух, затронутый забавною картиною этого пустого чванства, разразился бы хохотом», – записывал позднее Мейерберг [443]443
Мейерберг А.Указ. соч. С. 147.
[Закрыть].
Штат Потешного двора был огромен. Одних сокольников насчитывалось около ста человек. Число птиц превышало три тысячи. Здесь были соколы, кречеты, челиги, копчики, ястребы и, по всей видимости, даже орлы. В кречатне имелись экзотические красные и белые ястребы. Кроме хищных птиц, на дворе жили лебеди, гуси, журавли, цапли.
Чтобы прокормить множество хищных птиц, приходилось держать до ста тысяч пар голубей. Но и этого было недостаточно. Царь в своих письмах сетовал, что нередко случалось так, что «птицы поспевали», а голуби «исходились». В поисках выхода Тайный приказ даже наложил на подведомственных ему крестьян «голубиную повинность», обязав ежегодно доставлять на Потешный двор этих птиц.
На Потешный двор возами везли зерно и мясо. Все это вводило казну в огромный расход, который по подсчетам исследователей составлял около 75 тысяч рублей в год. Добыть такие деньги по силам было одному Тайному приказу, который по государеву указу до самого донышка опустошал сундуки четвертных финансовых приказов.
В поисках птицы помытчики рыскали по всем уголкам царства. Особенно ценилась птица, добытая в Сибири и на Двине. За добытыми птицами из Москвы отправляли доверенных лиц с обстоятельными наказами, какие не всегда получали полковые и городовые воеводы. Отправившемуся в 1662 году за кречетами в Тюмень Елизару Гаврилову было приказано возвращаться с великим бережением и старанием, чтоб ни одна птица не погибла. Подьячие Тайного приказа, которым были ведомы все слабости и пороки русских людей, предупреждали: «А буде… нерадением и небрежением без призрения птицы великого государя кречаты истеряются, или с голоду помрут… или кормить станут не во время, или от их пьянства… и ото всякого их небрежения над птицами учинитца какое-то дурно… за то быти от великого государя в великой опале, что о том государь укажет» [444]444
ДАИ. Т. IV. № 127.
[Закрыть].
Зная о пристрастии государя к «красной охоте», не упускали случая отличиться жители далеких уездов и местные воеводы. Со всех сторон в Москву летели грамотки с сообщениями, имеющими отношение к «красной охоте». Из Нижнего Ломова сообщали о прижившихся здесь нескольких парах лебедей. Тотчас была отписана грамота воеводе – лебедей кормить и беречь для «птичьего промысла на государев обиход».
Выезд царя на охоту – часть придворного церемониала, красочное и завораживающее действие. Все тот же Витсен в апреле 1665 года оставил зарисовку такого выезда: Алексей Михайлович ехал в карете, запряженной шестеркой лошадей. Дорогу перед ним выметали стрельцы. Сопровождающих было «наверное, тысячи человек». При этом у многих всадников были привязаны маленькие клеточки [445]445
Витсен Н.Указ. соч. С. 161–162.
[Закрыть].
Соколиная охота была любимым развлечением многих монархов. Алексей Михайлович не упускал случая порадовать их. Среди подарков, отправляемых с послами и посланниками, нередко числились соколы и ястребы. Особенно много посылок в Персию, Турцию и Крым. В последнем случае охотничьи птицы входили в реестр так называемых «поминков», дальнего отзвука ордынского «выхода», с помощью которого Москва надеялась хоть как-то удержать крымского царя от разбойничьих набегов. Обыкновенно хану слали пять кречетов и два ястреба.
Сохранился необычайный наказ, «как тешить шах Аббасово величество», который получил отправленный вместе с послами в Персию сокольничий Парфен Тоболин. Примечательно, что царь, снаряжая очередное посольство, не удосуживается заглянуть в посольский наказ. Зато правит наказ Тоболину. Охотник побеждает в Алексее Михайловиче государя – его мало интересуют цели посольства, зато сильно волнует, как воспримет его подарок шах, сумеет ли насладиться красотой лета и «рыщения» его соколов.
Наказ определяет порядок представления птиц шаху. Для того следовало выехать на охоту и, выпустив первого сокола, попросить шаха подойти ближе к воде, «чтоб мочно было видеть». Здесь Тоболину надлежало известить посла Милославского, что «сокол стал в лету и ждет убою». Посол, в свою очередь, должен был получить у шаха разрешение начать охоту – «гнать» птицу. Если же «Бог даст, убьет сокол утя», послу и сокольничему предписывалось спросить у шаха, «живьем ли отымать или сокола потешить, дать загрысть» [446]446
Записки. С. 369; РГАДА. Ф. 27. № 52. Ч. 6.
[Закрыть].
Царствование «достоверного охотника» стало временем расцвета «красной охоты». С его смертью все быстро приходит в упадок. Царь Федор, быть может, и находивший после уроков отца в полете соколов и кречетов вдохновение, из-за физической немощи редко мог позволить себе подобное удовольствие. Петр же остался совершенно равнодушен к этому занятию. Постройки Потешного двора ветшали, птицы гибли, многочисленный штат истаивал. Кое-кто из сокольников принужден были сбросить яркие охотничьи кафтаны и облачиться в Преображенские и семеновские мундиры. Смена платья и здесь оказывалась символичной. Новая эпоха диктовала и новые моды.
Если в Коломенском Алексей Михайлович охотник, то в Измайлове – помещик. Здесь Алексей Михайлович реализовал другое, быть может, не столь страстное, но не менее сильное увлечение – занятие хозяйством. Измайлово служило царю местом для хозяйственных опытов. В своем подмосковном владении Алексей Михайлович завел образцовые поля и сады (целых четыре), где пытался разводить виноград, арбузы и даже тутовые деревья. Нельзя сказать, что большинство этих экспериментов были удачны. Удовольствие выращивать виноград в Подмосковье оказалось занятием слишком уж дорогостоящим, чтобы всерьез говорить о хозяйственной прибыли. Но в отличие от обыкновенных помещиков Алексею Михайловичу разорение не грозило. Между государственным и дворцовым «карманами» не было большой разницы – все нашиты на одно платье. Оттого «прогоравшее» в своих рискованных экспериментах хозяйство Измайлова продолжало процветать, получая при этом солидные денежные инъекции из приказных сундуков.
Разорительные опыты с разведением шелковичных червей и выращиванием экзотических плодов в Измайлове и иных местах более всего интересны с точки зрения личных качеств Алексея Михайловича. Он верен себе: тяга к прочному домостроевскому укладу жизни, где все в достатке и в изобилии, сочетается в нем с интересом к необычному, новому, если, конечно, это новое не покушается на неоспоримые в глазах Тишайшего православные ценности. Диапазон интересов и увлечений государя широк, но есть предметы, которые пребывают в центре его внимания постоянно. Хозяйственные – одни из них. Будучи «вотчинником» всей Руси, он, по-видимому, испытывал потребность быть подлинным, во все вникающим и действительно всем распоряжающимся хозяином в своей «собственной» вотчине. Так что к своему «личному» Тайному приказу и «келейному» Саввино-Сторожевскому монастырю Алексей Михайлович добавил несколько десятков сел и деревень, в которых он – истинный вотчинник, прочно осевший на землю.
Измайлово перешло в собственность царя в 1655 году, после смерти бездетного Никиты Ивановича Романова. Усадьба и место ее расположения приглянулись царю. Подкупило, по-видимому, то, что новое владение можно было организовывать как законченный хозяйственный комплекс. Алексей Михайлович энергично взялся за дело.
Царь старался вникнуть в мелочи и не гнушался даже выступить в роли простого приказчика, отправляясь в страду в поле понаблюдать за полевыми работами. Кроме полеводства и садоводства царь заводит в Измайлове обширное огородничество, скотные, птичьи, пасечные дворы. В хозяйственный комплекс входят постройки, которые мог себе позволить только крупный владелец. На запруженных речушках вода крутит водяные колеса семи мукомольных мельниц. Чтобы напор воды был постоянен, создана система из 37 прудов. Для хранения урожая отстроены каменные риги. Но верх размаха – льняной и стеклянный заводы. Продукция последнего идет даже на продажу.
Для Алексея Михайловича лучшее хозяйство – это и лучшие работники. Их разыскивали по всей стране и сманивали из-за рубежа. Льняники были найдены в Пскове, скотники – на Украине. Садовники были выходцами с Нижнего Поволжья. В исключительных случаях приглашались иноземцы. Причем иногда за огромные деньги. Так, иноземцу Гуту был положен оклад в 144 рубля. Впрочем, когда тот не оправдал доверия и не привел сад «в совершенство весь», его наказали убавкой в 44 рубля. Стекольных мастеров пришлось также нанимать за границей.
Но основная масса работников была просто переведена из других дворцовых волостей в Измайлово. Казалось, подобная перемена в жизни должна была их обрадовать. Однако на деле все обернулось иначе. В Измайлове бремя повинностей и объемы работ оказались настолько непосильными, что крестьяне очень скоро затосковали по прежнему доизмайловскому быту. Уже после смерти второго Романова выяснилось, что из 664 переселенных крестьянских семей 481 семья ударилась в бега! Те же, кто остался, «наготове бежать, мало не все». Косвенно о размере «изделья», которое выпадало на долю измайловских крестьян, можно судить по тому, что в страдную пору приказчики были принуждены нанимать жнецов со стороны. В урожайные годы цифра наемных работников переваливала за 700 человек!
Как водится, царь, если речь шла о его увлечениях, был нетерпелив и капризен. Обширные хозяйственные планы побуждали его беспрестанно понукать подьячих Тайного приказа, в ведении которых находилось Измайлово. Хорошо знакомые приписки в грамотах воеводам и послам делать все «на скоро», «не спустя времени», «безо всякого мотчанья» столь же характерны и для хозяйственной документации Тайного приказа. И горе было тому служилому человеку или приказчику, который сделает что-то спустя рукава. В ином приказе такое могло сойти, а если и не сходило, то ничтожно малы были шансы, что о промашке станет известно государю. Здесь же рассчитывать на снисхождение не приходилось. Подьячие, дорожа царским доверием, спуска не давали. Да и опасно было давать – царь был в своих увлечениях мелочно памятлив.
Но царь не только мелочен и капризен, но и упорен. Во второй половине 60-х годов Алексея Михайловича захватила идея производить свой шелк-сырец. Для ее реализации надо было не только подыскать «толковых заводчиков», но и развести тутовые сады. В 1666 году астраханским воеводам приказано было найти и описать сады, где росли тутовые деревья. Дело шло туго. К тому же вскоре на Астрахань обрушилась напасть пострашнее «шелковичных червей» – Стенька Разин. О поручении царя забыли. Однако едва закончился бунт, как царь напомнил о своем плане. В 1672 году он обязал нового астраханского воеводу боярина князя Я. Н. Одоевского, как «астраханское дело успокоится и на мере станет», вновь заняться поиском садовников, которые могли бы завести тутовые сады на Москве. На крайний случай боярин должен был приискать «самых добрых садовников» за морем. Одновременно продолжались поиски «виноградных и арбузных садовников» для Измайлова.