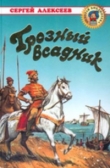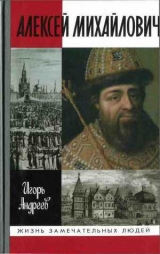
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 51 страниц)
Два года спустя Матвеев получил Посольский приказ и стал думным дворянином. Кроме того, под его начало перешли Стрелецкий и Казанский приказы. Царь ценил Артамона за исполнительность, вкрадчивость и умение не перечить.
Надо вспомнить, что Алексей Михайлович крепко натерпелся от своих фаворитов, переходя от восторженного к ним отношения к разочарованию. Морозов по возрасту не слишком годился в друзья и при всех своих заслугах отличался большим сребролюбием. Никон из «собинного друга» обратился, перефразируя Алексея Михайловича, в «собинного врага». Ордин-Нащокин годился более в советчики: душевной теплоты с ним никогда не было. Другом был Федор Ртищев, но его крепко – крепче, чем самого царя – подкосила смерть воспитанника, царевича Алексея Алексеевича. После 1670 года он отошел от государственных дел, которые всегда были для него ношей обременительной, отвлекающей от главного – милосердия. Был еще стольник Афанасий Матюшкин, сверстник и родственник, такой же страстный поклонник «красной птичьей охоты», как и Алексей Михайлович. Мы видели по письмам сильную привязанность Тишайшего к двоюродному брату. Но Матюшкин, хотя и уселся на думную скамью вместе с Матвеевым, в государственных делах ему, несомненно, проигрывал – не тот ум и не та хватка.
Артамон Сергеевич был интересен в повседневном общении, проявляя именно здесь неожиданно большую смелость и энергию. В придворной среде долгое время процветали грубые развлечения, неумеренность, склонность к пьянству. В доме Матвеева были заведены другие порядки. Гости являлись не напиваться, а общаться. Хозяйка дома, шотландка Гамильтон – по-русски Евдокия Григорьевна – потчевала гостей не только первой чаркой, но и разговором. В. О. Ключевский не без иронии назвал матвеевские приемы «журфиксами»: зная интересы хозяина, можно предположить, что беседы здесь велись преимущественно светские, отличные от жарких богословских споров ревнителей в доме Федора Ртищева.
Матвеев завел музыку, некогда решительно изгнанную как развлечение бесовское, скоморошье, и развлекал гостей игрой на органе, фиоле и «скрипицах».
Как в свое время Морозов, Матвеев сильно продвинулся в связи со второй женитьбой царя. Частые роды расшатали здоровье первой жены Алексея Михайловича – царицы Марии Ильиничны. Тем не менее ей приходилось вести обычный образ жизни, следуя за государем, который много разъезжал по подмосковным дворцовым селам, ближним и дальним монастырям.
26 февраля 1669 года царица родила дочь Евдокию. Роды были тяжелые. Младенец не прожил и трех дней. Следом, 4 марта, скончалась царица. Скорбь на этот раз надолго обосновалась в царских покоях: в мае того же года умер четырехлетний царевич Симеон. Алексей остался с двумя хворыми сыновьями, Федором и Иваном, и шестью дочерьми, Евдокией, Марфой, Софьей, Екатериной, Марией и Феодосией, которые в отличие от царевичей отличались отменным здоровьем и энергией.
Сорокалетний Алексей Михайлович не собирался долго ходить во вдовцах. Уже осенью было объявлено о намерении государя жениться. Это значило, что пришла пора свозить лучших невест в Москву для царского выбора.
Сам обычай выбора, по мысли историка И. Е. Забелина, возник тогда, когда высоко поднявшиеся московские князья уже не могли сыскать себе православную невесту среди равных из-за упразднения суверенных русских княжеств и крушения последних православных царств. Оставалось выбирать жену среди собственных подданных. Но это имело неудобство – возвышение одного аристократического рода превращало его «в совместника самодержавному роду» (определение И. Е. Забелина). Для московских государей, еще хорошо помнивших о временах удельных, это было слишком болезненно. Выход нашли в придании выбору «всенародного характера», когда в учет бралось не происхождение, а только личные достоинства соискательниц, их дородность, красота и здоровье, столь необходимые для главного «призвания» царицы – чадородия. Понятно, что приискивая сыну Василию жену среди 1500 дворянских девиц, Иван III совсем не собирался осматривать каждую. Но формально участвовали все, кто имел на то основания. В итоге и люди вельможные, и малопородные уравнивались в своем бесправии, и никто не мог похвастаться тем, что предпочтение отдано высоте его рода в ущерб другому.
Подобные соображения, может быть, и утратившие к XVII столетию свою остроту, были вполне усвоены Романовыми. Это хорошо видно и по смотринам царских невест, и по печальной судьбе царских дочерей, которых выдавать за своих «холопов» было зазорно, а на сторону, за иноверческим окружением, – нельзя. Здесь царевны могли позавидовать дворянским и боярским дочерям. Тем – семейный удел, им – келейное прозябание.
Сохранился список девиц, избранных красавиц, удостоившихся чести с поздней осени 1669 года до весны 1670 года участвовать в смотринах. В ноябре – 28-го и 30-го числа – государь изволил лицезреть 12 девиц, среди которых была дочка князя Г. Долгорукого и две внучки печатника, думного дьяка Алмаза Иванова; 4, 12, 17, 20, 29 декабря к смотру были приглашены еще 19 красавиц; 3 января перед царем предстали две девицы. Затем последовал почти месячный перерыв. В феврале смотрины возобновились. 1 февраля в числе четырех «соискательниц» во дворец была привезена и будущая царица – воспитанница Артамона Матвеева Наталья Кирилловна Нарышкина. Всего же в феврале (1-го, 11-го и 27-го числа) перед царем прошло 13 девиц. 11, 12, 17 марта к этому списку прибавилось семь дворянских дочерей, а в апреле (1-го, 5-го, 13-го, 17-го числа) – еще 17, причем почти все – из провинциальных городов: Великого Новгорода, Владимира, Рязани, Суздаля, Костромы. В последний день из Суздальского Вознесенского девичьего монастыря приехала Авдотья Беляева, главная соперница Нарышкиной [480]480
См. список: Забелин И. Е.Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 2001. Т. И. С. 252–253; РГАДА. Ф. 27. № 287. Л. 1–9.
[Закрыть]. Ее сопровождали родной дядя Иван Шихарев и бабка, старица Ираида, под присмотром которой, по-видимому, девушка-сирота воспитывалась в обители.
Приглянувшихся Алексею Михайловичу дворянских дочерей забирали на Верх – женскую половину царского дворца – до окончательного решения. Среди других оказалась здесь Наталья Нарышкина. Позднее завистники и недоброжелатели царской избранницы пустили слух, что по бедности при отце своем, служившем одно время в Смоленске стрелецким головою, Наталья Кирилловна бегала по городу в лаптях.
Конечно, это преувеличение. Однако дворянский род Нарышкиных не мог похвастаться ни высоким положением, ни чинами. Нарышкины издавна тянули службу, и их родословное дворянское древо было щедро украшено ветвями тупиковыми, обрубленными – сгинул, умер от ран, убит. Дед Натальи Кирилловны (прадед Петра Великого), Полуект Борисович, вместе со своим братом Поликарпом благополучно пережил Смуту. В 20-е годы Полуект значился по тарусской десятне со средней дачей выборного дворянина в 414 четвертей. Погиб он под Смоленском, в полках М. Б. Шеина, успев записать своих детей жильцами. Угодив в московский список, Нарышкины могли несколько быстрее двигаться по служебной лестнице. Дед Петра, Кирилл Полуектович, до счастливой перемены в своей жизни – свадьбы дочери – дослужился до оклада в 38 рублей и 850 четвертей земли. По московскому списку он числился в стольниках, и это, скорее всего, было бы венцом его карьеры, и без того довольно успешной благодаря покровительству Матвеева. Но судьба сложилась иначе, и Кириллу Полуектовичу уготовано было боярство «по кике».
Старшая дочь стольника, девятнадцатилетняя Наталья Кирилловна, по преданию, еще ранее приглянулась овдовевшему царю. Будущая царица жила в доме Артамона Сергеевича, где ее якобы в один из наездов и углядел Алексей Михайлович. Однако царь все же решил соблюсти приличия и от традиционного смотра не отказался.
Существует и иная версия. По свидетельству Рентенфельса, царь «потаенным ходом» ходил в дом к Матвееву и из тайника (!) наблюдал за собранными у Артамона Сергеевича для смотра девушками. При этом его интересовали не только внешний вид возможных избранниц, но и их поведение и духовные качества. Нарышкина царю понравилась, и он, «будучи проницательного ума, без проволочек с первого же раза избрал [ее] себе в сожительницы». Сама свадьба для невесты, ее покровителя и родных якобы была полной неожиданностью и свершилась тотчас по объявлению царской воли [481]481
Рентенфельс Я.Указ. соч. С. 294–295.
[Закрыть].
Однако представлять себе все дело так, как его живописал Рентенфельс, – значит совершенно не знать московские традиции и царя Алексея. Наиболее вероятных «претенденток» брали не в дом Матвеева (это означало отдавать их на заклание сопернику), а, как уже говорилось, на женскую половину дворца. Царь, хотя и прислушивался к Артамону Сергеевичу, но все же не до такой степени, чтобы путаться в том, кто особенно пришелся ему по душе. Это в 1647 году он мог, поддавшись внушению Б. И. Морозова, забыть Всеволожскую и отдать платок Милославской. В 1670 году такое бы не прошло. Скорее всего верно другое: царь, даже после знакомства с Нарышкиной, все еще колебался – ведь он действительно имел дело с настоящими красавицами!
Но и это не все! Существует еще одна, прямо-таки романтическая версия знакомства царя с Натальей Кирилловной, якобы рассказанная академику Якобу Штелину, автору «Подлинных анекдотов о Петре Великом», графиней М. А. Румянцевой – внучкой А. С. Матвеева.
Начало этой версии совпадает с сообщением Рентенфельса. Первая встреча царя с Нарышкиной состоялась в доме Матвеева. Тишайший заприметил девушку, когда она вышла к гостям, чтобы по традиции приподнести чарку с водкой. Алексей Михайлович вступил с ней в беседу, и бойкая Нарышкина, не особенно смущаясь, – вот они, последствия матвеевских «журфиксов»! – учтивыми и разумными ответами расположила государя к себе. Прощаясь с Матвеевым, царь поинтересовался: не ищут ли родители мужа для этой девицы? Артамон Сергеевич ответил положительно, посетовав на то, что небольшое приданое отпугивает женихов. Алексей Михайлович прозрачно намекнул, что есть еще люди, которые красоту и достоинство девушки ставят много выше размеров приданого, и пообещал помочь своему любимцу в поисках.
Царь и дальше не утратил интереса к Нарышкиной. Когда Матвеев пожаловался ему на молодых людей, которые, что ни день, приходят полюбоваться красотою воспитанницы, не помышляя при этом о женитьбе, Алексей Михайлович успокоил его: «… Я оказался удачливее тебя и нашел жениха, который, возможно, придется ей по вкусу. Это весьма почтенный человек и мой добрый знакомый… Он полюбил твою подопечную и хотел бы жениться на ней и составить ее счастье. Хотя он еще не открыл ей своих чувств, она его знает и, надо думать, не отвергнет его предложение».
В полном соответствии с жанром «подлинных анекдотов» и галантного «политеса» осьмнадцатого столетия умница Матвеев и тут продемонстрировал невероятную недогадливость. Воспитанница ведь захочет узнать имя посватовавшегося, и «против этого, по-моему, трудно возражать», объявил он. Царь был наповал «сражен» столь веским аргументом и сдался: «Что ж, скажи ей, что это я сам…»
Бессмысленно в этом семейном предании пытаться отсеять вымысел от правды. В том, как его со слов графини записал Штелин, слишком много от XVIII века и очень мало от века XVII. Как мы видели, все было куда будничнее и прозаичнее.
Замечательно, что «бескорыстие» Алексея Михайловича – тема не только семейного предания, но и народного восприятия Тишайшего. В одной из народных песен об Алексее Михайловиче царское окружение, включая самого Никона (!), не советует ему брать в жены Наталью Кирилловну, поскольку ее отец «не знатно он, не богато живет», у него «земля не богатая, не фамильная». Алексей Михайлович отвечает как истинный добрый молодец, которого не интересует богатство: «Мне не нужно богатства, а нужна его доченька Наташенька…» В итоге все кончается благополучно – свадебным пиром [482]482
Соколова В. К.Русские исторические песни XVI–XVIII вв. М., 1960. С. 153–154.
[Закрыть].
18 апреля 1870 года на Верху прошел второй смотр. Царь, однако, никому не отдал платок, и девицы были отпущены. Любопытно, что после этого во дворец вторично призвали Авдотью Беляеву. Ее дядя этим был чрезвычайно обрадован. Он вообще много суетился и очень неуклюже – откуда опыт-то взять – подталкивал дело. Кто-то ему шепнул, что боярин Хитрово нашел у его племянницы «изъян» – худые руки. Расторопный Шихарев попытался столковаться с «дохтуром Стефаном», чтобы тот опроверг столь опасное мнение. Он даже придумал, как доктор узнает при осмотре Беляеву. Девица должна была «перстом за руку придавить, потому ее и узнаешь». Для верности Шихарев подпустил слезу: племянница его «беззаступная» сирота.
В Российском государственном архиве древних актов сохранился список участниц последнего государева смотра с небольшим потускневшим крестиком напротив имени Натальи Кирилловны. Зная о всех последующих переменах в царской семье, невольно приписываешь этой «бюрократической пометке» смысл мистический: царь кивнул, дьяк сделал пометку, год спустя родится Петр – история в самом деле кажется сотканной из случайностей!
Случайностей действительно было много. Потому что тотчас, как стало известно о намерении Алексея Михайловича избрать Нарышкину, была составлена интрига с подметными грамотками. 22 апреля во дворце были подняты два «воровских» письма. Текст писем не сохранился. Приказные предпочли передать содержание иносказательно, как часто делалось при изложении «воровских», «непригожих» слов о государе. «Такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоромах, а писаны непристойные [слова]…» (окончание утрачено) [483]483
Забелин И. Е.Домашний быт русских цариц… С. 254.
[Закрыть].
Грамотки явно были обращены против Нарышкиной. Это видно из того, какое направление приняло следствие и как близко принял к сердцу все дело Алексей Михайлович.
Первое подозрение пало на Ивана Шихарева. Тем более что в его доме при обыске нашли травы – это извечное «ботаническое» проклятие российской истории! Царь приказал учинить расспрос боярам. Шихарев отрицал свою причастность к письмам. Но тут выплыли все проделки с проталкиванием Авдотьи и хвастовство Шихарева, что его племянницу уже взяли на Верх, а Нарышкину, напротив, с Верху свезли. Характерно, что эти речи были произнесены им в доме царского духовника Андрея Савиновича (Постникова), человека, способного повлиять на настроение государя.
Расспросы Шихарева ясность не внесли. Тогда подозреваемого приказано было пытать. Его приводили к огню и били кнутом, но он держался крепко и свою причастность к подметным письмам решительно отрицал. Следствие зашло в тупик. Однако грамотки «с измышлениями» столь сильно задели Алексея Михайловича, что он попытался раскрутить дело с другого конца. 24 апреля стали сличать почерки подьячих и дьяков с грамотками. Для этого всем грамотеям велено было написать несколько слов, взятых из подметных писем. Строчки специально подобрали, чтобы не раскрывать содержание писем. Тем не менее кое-что уловить можно. Надо было написать: «…Рад бы я сам объявил и у него письма вынел и к иным великим делам». Следовательно, подметчик намекал на еще какие-то известные ему преступления, помимо уже объявленного «великого дела» (о царской женитьбе?), причем не голословно – для доказательства имелись некие документы – письма.
Но кому тогда в подметных грамотках отведена роль злодея? Приказным надо было написать еще одно слово: «Артемошка». Не оно ли и есть ключ к интриге? Ведь «Артемошка» – это скорее всего Артамон Сергеевич. Значит, целясь в Наталью Кирилловну, палили по Матвееву, не без оснований опасаясь усиления его позиций после царской женитьбы. Позднее, будучи в ссылке, Артамон в своем письме к Федору Алексеевичу вспоминал про воровское послание с намерением учинить «препону» ко второму браку Тишайшего. Несклонные к разнообразию подметчики упомянули все те же «коренья», которыми Матвеев будто бы одурманивал и привораживал «несчастного» Алексея Михайловича. По Матвееву, все это подметчики-воры «умышляли» для того, чтобы оттеснить его от Тишайшего.
Сличение почерков успеха не принесло. Признано было, что иные «почерком понаходят», но «впрямь» ни один «не сходится». Смятение не улеглось. Всем было ясно, что дело здесь нечистое и замешаны люди самые высокие, вхожие в государевы комнаты. Ясно и то, что в передрягу под названием царские смотрины со своими раскрасавицами дочерьми без сильного заступника лучше не соваться – затопчут. Петр Кокорев в сердцах даже посоветовал всем дворянам дочерей своих «в воду пересажать, нежели их Верх к смотру привозить» [484]484
Там же. С. 256–257.
[Закрыть].
Между тем рассерженный Алексей Михайлович не хотел оставлять дело незаконченным. 26 апреля прибегли к последнему средству. С Красного крыльца московским дворянам были показаны подметные послания и объявлено о большой награде тому, кто назовет или приведет их автора. Но и эта мера не принесла успеха. Так дело и повисло, перейдя в разряд неразрешенных.
Некоторые историки не без основания подозревают в причастности к письмам Богдана Матвеевича Хитрово, большого мастера по части интриг и заговоров. Понятны и мотивы, которыми мог руководствоваться дворецкий: зависть к Матвееву. Трудно сказать, насколько это догадка верна. В ходе расследования судьи вышли на некого кузнеца Василия, который донес о речах человека Артамона Матвеева Кирилла. Тот при нем, будучи в гостях, объявил: есть де у Артамона племянница и возят ее в Верх для сочетания брака за великого государя и той де девице за великим государем в супружестве не бывать. Не бывать в Верху и боярину Богдану Матвеевичу Хитрово.
Для осуществления своего замысла холоп Кирилл с неким монастырским служкой Василием сотворили «воровское письмо». Казалось, что извет кузнеца наконец-то выводил на авторов злополучных грамоток. Началось быстротечное расследование. Алексей Михайлович не посчитал за труд самому расспросить подозреваемых и даже устроил «следственный эксперимент» – велел отправиться на место преступления, требуя, чтобы холоп показал, где именно он подкинул письма. Если вспомнить, что год спустя, при всей заинтересованности в выяснении целого ряда обстоятельств движения Степана Разина (в частности, связи с Никоном), царь все же посчитал свое личное присутствие при допросе грозного атамана необязательным, то легко представить, сколь сильно он был задет в 1670 году.
Участники процесса вели себя по-разному. Дворовый человек заявил, что в гостях только и сказал, что Артамон Сергеевич девицу замуж отдает, а куда, за кого, а также про Хитрово и про «подметное письмо» – ничего не говорил. Кириллу дали 30 ударов кнутом и подпалили огнем – он повинился, что сам, никем не подученный, написал и подбросил две грамотки. Сделал же то, желая «от Артемона отбыта от холопства». А на Хитрово в той грамотке писал для того, что они с Матвеевым «живут в совете».
Расследование осложнялось тем, что кузнец объявил, что воровское письмо при нем писали Кирилл с монастырским служкой Иосифом. Он даже опознал письмо, когда следователи предъявили его в качестве доказательства. Но приведенный к расспросу и пытке монастырский служка держался твердо: ничего они с холопом Матвеева не писали. Между тем Кирилл в очередной раз привел следствие в замешательство. 3 мая, после того, как он показал царю и боярам места, куда «подметывал грамотки», Кирилл от своих слов отказался: оговорил себя напрасно.
С точки зрения феодального права, признание подозреваемого в своей вине – доказательство безусловное. Но Алексей Михайлович и этим не удовлетворился. Ему нужна была правда. По приказу государя вторично провели экспертизу почерка Кирилла и Иосифа. На этот раз почерки сравнивали и выясняли, могли ли подозреваемые писать «руками обеими и назад письмо». Иосиф объявил, что пишет одною рукою, а другою рукою и ногами (!) не пишет.
Удивительно, но дело окончилось ничем, и подозреваемых отпустили. Правда, при этом изрядно поджарив и ободрав кнутом. Показания Кирилла были признаны оговором. Главное, почерки подозреваемых не подошли, да и дворовый человек, как оказалось на месте, подметывал грамотки не туда, куда надо [485]485
РГАДА. Ф. № 5. 1670. Л. 1–12.
[Закрыть]. Так что и это следствие не позволяет приоткрыть страшную тайну «подметных писем». Тем не менее нельзя сказать, что это «пустое» для исследователей дело. Оно подтверждает тот факт, что царь проявлял интерес к Нарышкиной еще до того, как официально было объявлено о государевом выборе. Во всяком случае, об этом, как об общеизвестном и бесспорном, говорил Кирилл.
Кажется, история с подметными письмами еще более укрепила чувства стареющего Алексея Михайловича. Препятствия разжигают. А здесь выстраивали препятствие явное, с «корешками» и клеветами. Однако в результате свадьба оказалась отложенной на целых девять месяцев, до 22 января 1671 года.
Рентенфельс пишет, что о венчании было объявлено неожиданно не только для Натальи Кирилловны, но и для Матвеева. Невесту поутру просто разбудили и повезли под венец, облачив в драгоценное платье столь тяжелое, что она изнемогла в нем. Скорее всего, и здесь Рентенфельс причудливо перемешал реальные события с вымыслом. Но при этом он довольно точно передал обстановку кануна свадьбы. Все, включая самого Алексея Михайловича, пребывали в напряжении, страхуясь и перестраховываясь.
Венчал молодых в Успенском соборе царский духовник. После венчания последовал шумный пир «без мест» (то есть без соблюдения местнических норм). Посаженым отцом стал князь Н. И. Одоевский, посаженой матерью – его супруга Авдотья Федоровна. Артамон Матвеев стоял у сенника – почивальни новобрачных – место скромное (он был товарищем боярина И. А. Воротынского), но показательное по степени доверия государя.
Рентенфельс донес до нас описание Нарышкиной, сделанное два-три года спустя после свадьбы. Но и тогда оно свидетельствовало в пользу царской избранницы: «Это – женщина во цвете лет, роста выше среднего, с черными глазами навыкате, лицо у нее кругловатое и приятное, лоб большой и высокий, и вся фигура красива… голос, наконец, приятно звучащий, и все манеры крайне изящны» [486]486
Рентенфельс Я.Указ. соч. С. 297.
[Закрыть].
30 мая 1672 года у Натальи Кирилловны родился первенец – будущий царь Петр I. Обрадованный Алексей Михайлович отпраздновал это событие большими пирами и милостями. Среди остальных был отличен А. С. Матвеев, вместе с отцом царицы пожалованный чином окольничего. А два года спустя, в октябре 1674 года, по случаю крестин царевны Феодоры, Артамон Сергеевич получил высший думный чин. Накануне этого события произошло еще одно, несравненно более важное: был объявлен народу наследник престола, царевич Федор Алексеевич. Эта важная процедура не случайно приурочивалась к 1 сентября – началу нового года. Подчеркивалась непрерывность обновления – возобновление династии отражалось в повторении годовых циклов.
В семье Алексея Михайловича это уже был второй случай. Первым был объявлен царевич Алексей Алексеевич. Воспитанник Ф. Ртищева, он много обещал – был образован и хорошо подготовлен к царствованию. Но в январе 1670 года наследник скончался. Теперь настал черед Федора Алексеевича. Во время церемонии царевич произнес речь, поздравляя царя и патриарха с новым годом. Затем наследника показали иноземцам. «Вы видели сами государя царевича пресветлые очи и какого он возраста: так пишите об этом в свои государства нарочно», – объявил при этом боярин Хитрово, имея в первую очередь целью пресечь всяческие «самозванческие» слухи и домыслы.
Однако приобщение наследника к государственным делам – участию в разного рода придворных церемониях – получалось плохо. Федор Алексеевич отличался слабым здоровьем. Его царствование обещало быть смутным, с острым соперничеством боярских партий при государе, который не то что взлететь, расправить крылья не имел сил. И это царствование наступило неожиданно скоро.
После патриарха Никона во главе церкви оказывались люди иного масштаба и устремлений. Они были из породы тех, кто «поваден», – послушны и бесконфликтны. Если уж им и приходилось демонстрировать властность, то в первую очередь в отношении к церковным раскольникам – староверам. После решений церковного собора 1666–1667 годов гонения на раскольников усилились. Тому немало способствовали события в Соловецком монастыре, братия которого наотрез отказалась служить по новым исправленным книгам.
В борьбе с раскольниками патриарху Иоасафу II не удалось снискать больших лавров. Еще менее успешным оказалось правление немощного Питирима (1672–1673). Поставленный на патриарший престол скорее из сочувствия – Питирим всю жизнь безуспешно тянулся к посоху святого Петра – он просто не имел уже сил ни жить, ни править. Кажется, подобное слабосилие архипастырей вполне устраивало Алексея Михайловича. «Синдром» Никона настолько тяготил его, что он долго предпочитал скорее мириться с неустройством в церковной жизни, чем терпеть сильного и самостоятельного патриарха. Отчасти это давало возможность «саботировать» некоторые решения собора 1667 года. Так, несмотря на обещание, продолжал функционировать Монастырский приказ и его приказные по-прежнему вмешивались в имущественные и финансовые дела церкви.
Однако очень скоро Алексей Михайлович столкнулся с неприятным последствием ослабления позиций первостоятеля: о своих правах во весь голос заявили русские архиереи. «Бунт» русских святителей на соборе 1667 года свидетельствовал о том, что, избавившись от Никона, архиереи вовсе не собирались отказываться от его идеи о господствующем месте церкви в жизни государства и общества. Алексей Михайлович поневоле должен был задуматься об ограничении власти русского епископата.
Стеснить его можно было, проведя административно-территориальную реформу в церкви, увеличив число епархий и усложнив систему управления. Умножение числа епархий делало архиереев поневоле более покладистыми и зависимыми от власти; им труднее было столковаться, выступить единым фронтом. Да и финансовое положение епархий и их владык оказывалось уязвимее.
Об учреждении новых епархий и усложнении системы церковного управления толковали еще на соборе 1667 года. Инициаторами тогда выступили греческие владыки. Они предложили учредить восемь новых епархий. Однако русским архиереям удалось провалить эти планы. Противодействие епископата побудило Алексея Михайловича отступить. Но отступить – не значит отказаться. Наступившее после смерти Иоасафа межпатриаршество позволило царю в 1672 году созвать собор для учреждения Нижегородской епархии. Новая епархия создавалась в основном за счет «отчуждения» земель из патриаршей области. Поскольку предложение непосредственно никого из архиереев не затрагивало, согласие на учреждение Нижегородской епархии было получено [487]487
Николаевский П. Ф.Патриаршая область и русские епархии в XVII в. СПб., 1882. С. 31–32.
[Закрыть].
После смерти в апреле 1673 года Питирима Алексей Михайлович склонился к мысли о необходимости избрания деятельного патриарха. Возможно, в личном плане это было связано с тем, что болезненные воспоминания о патриархе Никоне, «затеснившем» царскую власть, поблекли. Зато ощутимее стала нужда в первосвятителе, способном найти управу как на раскольников, так и на чрезмерно самовластных архиереев. Таким стал новый и последний в жизни второго Романова патриарх Иоаким (1674–1690).
Это была незаурядная личность. Происходил Иоаким из дворянского рода Савеловых. До тридцати лет он исправно нес полковую дворянскую службу. Крутой поворот в судьбе будущего патриарха произошел в 1652 году, когда, потеряв жену и сыновей, Иван Савелов принял постриг в Киевском Межигорском монастыре. По всей видимости, на Украине же, в Киевской Духовной академии, он пополнил свое богословское образование. Выдвинулся он в годы правления Никона. Патриарх сманил его в Москву, сделав строителем Новоиерусалимского монастыря. К счастью для Иоакима, его общение с Никоном не перешло ту черту, когда его стали бы считать человеком патриарха. Возможно, именно тогда Алексей Михайлович и обратил внимание на закаленного воина. Далее последовали пребывание в Иверском и Новоспасском монастырях, настоятельство в Чудовом монастыре, поставление на Новгородскую митрополию (1672) и, по сути, управление церковными делами при изнемогающем Питириме. Не приходится сомневаться, что избрание Иоакима произошло с согласия Алексея Михайловича.
Однако за сильного патриарха приходилось «расплачиваться». Лояльность Иоакима имела известные пределы. Новый патриарх начал с того, что потребовал исполнения решений собора 1667 года – закрытие Монастырского приказа. Правительство на этот раз подчинилось.
Одновременно Иоаким стал твердой рукой наводить порядок в церкви и упрочивать свое положение. Он был немало обеспокоен отношением царя к опальному Никону. Алексей Михайлович постоянно интересовался его положением, через своего духовника получал грамотки и челобитные Никона, посылал ему дары. С этим еще можно было мириться. Однако вызывающе вел себя сам Никон. Чего стоил один только крест, который Никон воздвиг на каменном острове близ Ферапонтова монастыря. Надпись на нем гласила: «Никон, Божиею милостию патриарх, поставил сей крест Господний, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь на Белеозере в Ферапонтовом монастыре в тюрьме» [488]488
Варлаам.О пребывании патриарха Никона в заточении по актам Кирилловского монастыря // ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. 1. С. 201.
[Закрыть]. Иоаким приложил немало усилий, чтобы обуздать непокорного старца. Он потребовал ужесточения режима, «чтобы положить конец злым замыслам и противным делам Никона». Предложение осталось без ответа. По-видимому, этому воспротивился Алексей Михайлович. Пришлось Иоакиму смирять старца «по своей линии», выговорив властям Ферапонтова монастыря за попустительство бывшему владыке. Лишь после смерти Алексея Михайловича Иоаким получил возможность хотя бы отчасти поквитаться с Никоном. Тот был переведен «на исправление» в Кирилло-Белозерский монастырь, условия пребывания в котором отличались большой суровостью.
Одновременно Иоакиму пришлось обуздывать епископов, привыкших при слабых патриархах к известной вольности. Очень показательна история с Коломенским архиепископом Иосифом. Это дело – одно из последних в царствование Алексея Михайловича. Сколь ни своеобразна фигура Иосифа, эта история наглядно показывает, во-первых, насколько сильны были теократические настроениях в среде высшего русского духовенства, и, во-вторых, как критически оно относилось к Алексею Михайловичу. Здесь было мало уважения, мало страха, мало желания понять.
Иосиф был чрезвычайно высокого о себе мнения. Он требовал, чтобы перед ним несли крест «по чину святейшего патриарха», и ездил не в санях, а в «избушке» – карете. По отзывам современников, Иосиф был «горд, яко древний фараон, и велеречив». Авторы доноса передавали слова архиепископа о самом себе: «То-то де высокий разум дал Бог». На церковном соборе 1675 года, где вновь был поднят вопрос о неподсудности духовенства светским властям, по словам Иосифа, защищал интересы архиереев только он и нижегородский митрополит Филарет: «…А патриарх де, только бороду уставя, сидел, ничего не знает». Про остальных также говорить не приходилось – «все шушера, и скоты, и трусы».