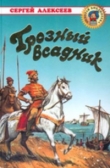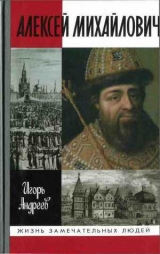
Текст книги "Алексей Михайлович"
Автор книги: Игорь Андреев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 51 страниц)
Доставалось от Иосифа и царю. Речи архиепископа были столь дерзновенны, что следователи, прежде чем пересказать их, давали им следующее определение: это были «злословныя, неистовыя, бранныя, поносныя, грубныя, непристойные, хульныя, нелепые слова ругательныя, никоторыми глаголы умом невозможно вместити».
Что же такого говорил коломенский владыка?
По словам доносителей, он «жестко» критиковал Алексея Михайловича: «Великий государь – глуп и болван, и дурак; не имеет де в царстве никакие разправы собою чинить: люди де им владеют, а он де лишь ездит; прежния цари святые места снабдевали, а он де разоряет, емлют всякие подати лишние большие, а бояре де хамов род, государь де того и не ведает, что они делают». В итоге Тишайший, слушая бояр, «землю всю запустошил».
Архиепископ не оригинален, да и обвинения не новы. Подобные упреки в адрес Тишайшего не раз раздавались из уст и Никона, и старообрядцев. Несколько неожидан лейтмотив о неумении государя «чинить расправу» – управлять царством. Он перекликается с обвинениями, звучавшими 30 лет назад, в начале правления Алексея Михайловича, когда им «владел» боярин Морозов.
Несомненно, главная причина неудовольствия велеречивого Иосифа – церковная политика царя. Даже те уступки, которые под давлением высшего духовенства позволил Алексей Михайлович, не смягчили его. Впрочем, «высокоумие» архиепископа толкнуло его на куда большие обобщения. Он отказывает Алексею Михайловичу во всем – в уме, воле, таланте правителя. Нет нужды останавливаться на выяснении обоснованности «претензий» архиепископа. Дело интересно в ином плане – проявлении менталитета, присущего части элиты русского общества. По сути она признает только один аргумент – грозу. Добросердечие Алексея Михайловича принимается за слабость, «умеренный» авторитаризм Тишайшего подвергается уничтожающей критике. В запале Иосиф объявил, что он не боится царя, «и говоря, плюнул и ногою подтер…».
Донос не сразу имел последствия. «Почитая архиерейский чин», царь велел сначала провести тщательный розыск. Обвинения были подтверждены. В декабре 1675 года перед церковным собором Иосиф должен был признать свои вины. В марте, уже после смерти Тишайшего, отправленному в монастырь Иосифу указано было молиться для поминовения души Алексея Михайловича [489]489
Титов А. А.Иосиф, архиепископ Коломенский (Дело о нем 1675–1676) // ЧОИДР. 1911. Кн. 3.
[Закрыть].
Но если в случае с заносчивым и недалеким Иосифом правда все же оказалась на стороне Алексея Михайловича, то в истории с Соловецким монастырем дело обстояло далеко не так просто. Разумеется, с точки зрения феодального права происходившее под стенами обители Святых Зосимы и Савватия было вполне законным подавлением настоящего мятежа. Старцы были сами виноваты в случившемся. Сначала они отринули новопечатные книги и выбили из монастыря никонианского игумена. Затем довели распрю до вооруженного сопротивления, пускай и оказанного в ответ на силу. Но силу царскую, отчего их сила превращалась в силу мятежную. Тут, бесспорно, – бунт, монастырская тюрьма и виселица.
И все же положение царя оказывалось двойственным. Ведь одно дело – церковная распря, другое – ядра, летящие в обитель Божью. В этом смысле архимандриту Никанору, одному из вождей мятежа, было куда легче кропить на стенах святою водою «матушек-галаночек» – монастырские орудия, которым предстояло палить в царское войско. Сам этот символический акт превращал осаждавших в нечестивое антихристово воинство, а царя, наславшего его, – во врага церкви [490]490
См.: Чумичева О. В.Соловецкое восстание 1667–1676 гг. Новосибирск, 1998. С. 119–125.
[Закрыть].
Связав борьбу с защитой истинной веры, соловецкие иноки естественным образом выдвинули вперед проблему немоления за царя, поддержавшего церковные реформы. Если доводить до конца их толкования, то благочестивый Алексей Михайлович превращался в царя-антихриста, вдвойне опасного из-за своего внешнего, ложного благочестия. Мы ничего не знаем о реакции Тишайшего на подобного рода заключения. Можно предположить, что она была бурной – даже у в общем-то благодушного Тишайшего мера терпения была не столь безгранична, чтобы пережить такую обиду.
Конфликт развивался неровно. То тлел углями, то озарялся пламенем старообрядческого радикализма. Долгое время в монастыре надеялись, что государь образумится и вернется к старому обряду. Резкие перемены произошли тогда, когда монастырь по указу лишился части своих владений. Алексей Михайлович определил свою позицию к бунтовщикам. Бунтовщики, в ответ, определили свою – они отменили общеобязательную молитву за царя. Со стен обители в адрес царя с тех пор стали раздаваться такие непристойности, что воевода Мещеринов отписал, что «не толко те их злодейственные непристойные речи написать, но и помыслить страшно». Формула, между прочим, обычная: выпады против государей часто прятались за неопределенные выражения типа «непристойные», «неистовые», «воровские» слова. Но когда добавляли, что «помыслить страшно», то это уже точно был край.
В 1669 году из молитвы было изъято конкретное имя – Алексея Михайловича – и восстановлена привычная формула моления о «благочестивых князьях», как это и было до Никона. Немоление превращало Алексея Михайловича в царя-антихриста. Ведь можно было, согласно Апостолу, молиться за царя неверного, но нельзя молиться за царя-антихриста или его служку [491]491
Смирнов П. С.Внутренние вопросы в расколе… С. 105.
[Закрыть]. В декабре 1673 года, когда радикализм достиг самого высшего градуса, немоление за царя дополнилось отказом и от заздравной чаши за царя и членов его семейства. Дело дошло до того, что из Синодика выскребли имя царицы Марии Ильиничны.
Правда, соловецкая братия не была столь единодушна в этом решении. Известны и отступления. Так, в последний год жизни Тишайшего, в день его именин, в Успенской церкви пели о царском здравии. В тот же день в трапезной случился пожар, который тут же был истолковал истовыми староверами как наказание за отступничество. Охотников именно так истолковать происшедшее, по всей видимости, оказалось с избытком. Не случайно старец Аввакум показывал: как на отпуске запоют многолетие за Алексея Михайловича, половина монахов из церкви выходит [492]492
Чумичева О. В.Указ. соч. С. 124.
[Закрыть].
Взятие и разорение Соловецкой обители положило конец колебаниям – ибо колебаться попросту стало некому. Но зато радикализм, усиленный слухами о страданиях соловецких мучеников, щедро выплеснулся за монастырские стены. Антиправительственные настроения среди старообрядцев резко усилились. Хронологическое совпадение двух событий – смерти Тишайшего и взятия царскими войсками Соловецкого монастыря – тут же было истолковано соответствующим образом. Смерть Алексея Михайловича «в канун дня Страшного суда» – Божье наказание неблагочестивого царя, царя-отступника…
Мятежные Соловки – лишь одна из «заноз», которую пришлось с мясом вырывать Алексею Михайловичу в последние годы своей жизни. Еще одна, не менее неприятная и болезненная, – боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова. Происходила она из второразрядного московского рода Соковниных и была в родстве с царицей Марией Ильиничной Милославской, которая к ней всячески благоволила. Благоволил к ней и Алексей Михайлович: ведь Феодосия Прокофьевна была супругой младшего брата его «дядьки», боярина Глеба Ивановича Морозова.
Боярыня Морозова стала ярой противницей церковных нововведений. Овдовев в 1662 году, она – завидная и богатейшая невеста – не стала вторично выходить замуж и предалась подвигам благочестия. Ее дом превратился в прибежище для всех сторонников старой веры. Вернувшийся из сибирской ссылки протопоп Аввакум несколько месяцев жил у своей духовной дочери, почитавшей и во всем слушавшей своего духовника. Несомненно, именно протопоп привил боярыне ту истовость и фанатизм, с какими она стала отстаивать «правые догматы».
В Кремле смотрели сквозь пальцы на чудачества Морозовой. Во-первых, из-за царицы, во-вторых, из-за памяти, которую царь питал к Морозовым, в-третьих, из-за того, что Феодосия Прокофьевна была, по-видимому, не одна такая: при дворе имелись и другие приверженцы двуперстия. Требовалось, однако, соблюдение некого приличия – не бравировать своими убеждениями, не кичиться ими, на людях по-старому открыто не молиться. Морозова до поры до времени так себя и вела. Но после ссылки на Мезень Аввакума она осмелилась бросить открытый вызов церковным властям и двору. Перестала являться на службы, причем ссылаясь не на нездоровье – вот лазейка! – а на то, что службы служат никоновские попы.
По царскому слову вразумлять строптивую вдовицу были посланы архимандрит Чудова монастыря Иоаким (будущий патриарх) и Петр ключарь. Морозова не исправилась, и летом 1665 года указано было отписать на царя часть вотчин вдовы. Жесткая мера, по-видимому, внесла известный диссонанс в семейную жизнь Алексея Михайловича. Во всяком случае царица не отказалась от мысли заступиться за свою боярыню. Подходящий момент наступил в октябре 1666 года, когда только что разрешившаяся от бремени царевичем Иваном Мария Ильинична попросила вернуть Морозовой часть московских вотчин ее мужа. Алексей Михайлович не посмел противиться, и просьба была уважена.
Особые отношения с царицей удерживали Феодосию Прокофьевну от крайних шагов. Она даже «приличия ради… ходила к храму». Но смерть царицы развязала ей руки. Не стало заступницы, способной умерить гнев Тишайшего. Но отпала окончательно и необходимость таиться и сдерживать себя. В конце 1670 года Морозова приняла тайный постриг. Теперь под пышной одеждой боярыни она носила жесткую власяницу.
Постриг, пускай и тайный, ко многому обязывал. Пространство для компромисса сузилось до размера дома. Но «верховая» боярыня – боярыня придворная, и ей невозможно замкнуться за стенами своей усадьбы.
22 января 1671 года Морозова отказалась присутствовать на второй свадьбе Алексея Михайловича, где ей предстояло «в первых стояти и титлу царскую говорити». От царского недовольства не спасла и ссылка на недуг. Отказ был воспринят не просто как вызов, но как демонстративное оскорбление государя. И все же Тишайший еще сдерживался, пытался образумить закосневшую раскольницу внушением и игрою на любви к сыну – ведь от ее строптивости могла пострадать карьера единственного сына Ивана.
Напрасно. Морозова непреклонна. Она сделала свой выбор. Терпение царя лопнуло. В ночь на 16 ноября 1671 года Морозова была взята под стражу вместе с сестрой, княгиней Е. П. Урусовой. В Чудовом монастыре власти учинили допрос сестрам. Обе стояли на своем и наотрез отказались причащаться по Служебникам новой печати. Настало время мучений и мытарств по тюрьмам.
Мучения Морозовой – особая статья. Для сторонников старой веры пытки и мучения – основания уподобить боярыню христианским первомученикам. Вот почему известная старообрядческая «Повесть о боярыне Морозовой» не скупится на их описание. Устрашить заблудшую овцу готовы все – и все отступаются, сокрушенные твердостью ее духа и веры. Сам патриарх Питирим, посрамленный боярыней, приказывает тащить вдовицу, «яко пса, чепию за выю», и ее тащат под надрывный крик патриарха: «Утре страдницу в струб! (то есть в костер, в сруб, в котором сжигают раскольников. – И.А.)», да так, что она «все степени (ступени. – И.А.) главою своею сочла».
Судьба Морозовой мало кого оставила равнодушной. Народ был поражен. Если богатая боярыня, один выезд которой «на аргамаки многи» сопровождали сотни слуг, «отрясла прах» богатства и роскоши ради старой веры, то не это ли лучшее доказательство истинности древнего благочестия? Морозова превращалась в героиню раскола, которой не хватало лишь мученического ореола – праведной смерти.
Толки о Морозовой беспокоили Алексея Михайловича. Боярыня становится не просто постоянным источником беспокойства в стране и в семье. Она – личный недруг государя, неблагодарная, закосневшая в своем упрямстве вдовица, забывшая о всех его благодеяниях. А мы уже знаем, сколь болезненно переносил Тишайший именно неблагодарность!
Этим отчасти и можно объяснить столь несвойственную Алексею Михайловичу жестокость. Он холодно и последовательно преследует боярыню. Ходатайство царевны Ирины Михайловны смягчить участь Морозовой решительно отклонено. В 1674 году Морозову и Урусову увозят в Боровский острог с наказом держать узниц в строгости и изоляции. Когда же в Москве узнают о послаблении режима и о посещении сестер близкими людьми, следуют новые меры. У заключенных отбирают книги, иконы и одежду. В остроге учиняют глубокую земляную тюрьму с тем, чтобы держать сестер в «тме несветимой» и «задухе земной». Под страхом смерти охране запрещено давать узницам питье и пищу.
Первой умирает Урусова. Следом, в ноябре 1675 года уходит из жизни Морозова. «Повесть о боярыне Морозовой» так описывает ее кончину. Изнемогая от голода, она обращается к охранявшему ее стрельцу:
– Помилуй меня, дай мне калачика…
– Нет, госпожа, боюсь…
– Дай хлебца…
– Не смею…
– Дай немного сухариков…
– Не смею…
Стрелец ничего не посмел – только по просьбе боярыни постирал ей перед смертью сорочку. Когда же «малое оно платно» стирал, «лицо свое омываше слезами, помышляющи прежнее ея величество, а нынешнюю нужду, како Христа ради терпит» [493]493
Повесть о боярыне Морозовой. Л., 1979. С. 182.
[Закрыть].
Скорее всего, эти строки – вымысел автора, этикетное превознесение героини. Как и признание Алексея Михайловича относительно его распри с Морозовой: «Тяжко ей братися со мною – един кто от нас одолеет всяко». Совершенно прав был известный исследователь древнерусской культуры А. М. Панченко, усомнившийся в том, что самодержец мог «хоть на миг допустить, что его „одолеет“ закосневшая в непокорстве боярыня… В данном случае вымысел – это глас народа. Народ воспринимал борьбу царя и Морозовой как духовный поединок… и, конечно, был всецело на стороне „поединщицы“» [494]494
Панченко А. М.Боярыня Морозова – символ и личность. В кн.: Повесть о боярыне Морозовой. С. 11–12.
[Закрыть].
Надо признать, что и в реальной жизни, и в исторической перспективе Алексей Михайлович проиграл поединок Морозовой. Если та сумела проявить в противоборстве с царем свои лучшие качества и привлекала на свою сторону симпатии народа, то Алексей Михайлович выглядит в этом конфликте далеко не лучшим образом: он оказался неожиданно злопамятен и мелок.
Кончина Тишайшего
Кончина Алексея Михайловича кажется неожиданной. Достигнув по тогдашним временам зрелого возраста, царь, по своему умеренному образу жизни и строгому постничеству, должен был жить и жить. Между тем проблемы со здоровьем возникли у Алексея Михайловича уже в 60-е годы. Царь страдал от повышенного давления. Может быть, именно этим объясняется его особое пристрастие к состоянию государевой аптеки. Он, не любивший переплачивать, готов был пойти на большие расходы, чтобы заполучить очередное чудодейственное лекарство, сулящее избавление от болезней.
Николаасу Витсену, не упускавшему случая разузнать все о жизни московских государей, удалось в феврале 1665 года расспросить царского «лейб-медика» Энгельгардта о состоянии здоровья Алексея Михайловича. Энгельгардт находился в этот момент в немилости, поскольку имел неосторожность заявить, «что царь такой же человек, как другие, что исцеление должно прийти от Бога, а от него зависит лишь применение того или иного лекарства». Ситуация с опалой, между прочим, очень русская: при том, что для русского человека была свойственна твердая вера в Божественный Промысел, иноземцев постоянно подозревали в намерении утаить свои истинные знания. В данном случае – в нежелании лечить по-настоящему. Опала и немилость должны были привести немца в чувство и побудить его к эффективному врачеванию.
Энгельгардт был обижен и не без оснований обвинял коллег в интригах. В таком состоянии он оказался необычайно разговорчив, хотя и знал, что тема царского здоровья может очень пагубно сказаться на здоровье собственном. От Энгельгардта Витсен узнал, что царь редко показывается докторам: «Они хотят, чтобы медицинские предписания давали, не осмотрев больного!» Иноземный лекарь даже привел случай, когда ему с величайшими предосторожностями показали царевича (по-видимому, Алексея Алексеевича), «однако лишь для того, чтобы в случае его болезни назначить лечение без его осмотра» [495]495
Витсен Н.Указ. соч. С. 105.
[Закрыть].
Документы Аптекарского приказа подтверждают слова Энгельгардта. Врачи действительно часто лечили членов царского семейства заочно, исходя из словесного описания недуга, прежних знаний о болезни и осмотра «вод» – мочи больного. В такой странной манере лечения отражался особый статус двора, закрывавший от всех, в том числе и от докторов, частную жизнь монарха. Правда, бывали и исключения, вызванные личностью государя и силой недуга. Сильно болевший царь Борис Годунов не только расширил штаты Аптекарского приказа, но и приказывал селить приехавших докторов поближе ко двору, чтобы они всегда были под рукой [496]496
Мирский М. Б.Медицина России XVI–XIX веков. М., 1996. С. 24.
[Закрыть]. Многое зависело еще и от доверия, которое царственный больной питал к доктору. Известно, что Энгельгардта сильно потеснил англичанин Коллинс. Он не только лечил Алексея Михайловича, но и переводил царю газеты, присылаемые из Англии. Словом, был в «фаворе», если, конечно, это понятие применимо к данному случаю.
По свидетельству иностранцев, на Руси избегали лекарств. Предубеждение отчасти распространялось и на царя с придворными, хотя они, вкусив «блага цивилизации», не были столь упрямыми. При этом предпочтение отдавалось средствам, сулившим быстрое избавление. Не случайно в ходу было «рудометание» – кровопускание. Энгельгардт прежде часто прибегал к этому средству. Он даже хвастался щедрыми наградами, которые получал от царя за то, что удачно «открывал кровь».
Сам Алексей Михайлович, испытавший на себе это чудодейственное средство борьбы с гипертонией, тотчас прописал его придворным. Известно, что отказ престарелого Стрешнева от подобного лечения обернулся вспышкой царского гнева. Царь посчитал, что если он пожертвовал своей кровью, то боярам и подавно не следует привередничать. На бедного Стрешнева обрушились тычки. Но не следует спешить с обвинением Алексея Михайловича в жестокости. На самом деле в этом казусе больше невежества и… доброты. Иноземные врачи отмечали, что у русских было в обычае требовать себе лекарство, которое на их глазах принесло кому-то избавление. Убедить их в том, что болезни имеют разную природу и, следовательно, лечатся по-разному, было чрезвычайно трудно. Неистребимая вера в сверхъестественное, свойственная русскому типу религиозности, играла в этом роль немаловажную. Все были убеждены в возможности создания универсального средства против всех хворей и болезней разом. Так что Алексей Михайлович поступал в полном соответствии с ментальностью русского человека. Кровопускание принесло ему облегчение – пускай и придворные незамедлительно испытают это чувство!
Но если кровопускание и молитва не приносили облегчения, приходилось лечиться всерьез. Доктора прописывали рецепты, на основании которых в Аптекарском приказе готовили лекарства. В документах эти лекарства для царя фигурировали без указания имени больного. По-видимому, все по той же причине: о царском нездоровье не принято было говорить вслух. Можно и нужно было подымать заздравные чаши, желая многолетия царю и его семейству [497]497
В частности, соловецкие иноки во время восстания отказывались поднимать заздравные чаши не только в честь Алексея Михайловича: келарь Нафанаил отказался отпустить мед за здравие Софьи Алексеевны в день ее ангела. См.: Чумичева О. В.Указ. соч. С. 124.
[Закрыть]. Распускать же язык и рассуждать о хворях государя было смертельно опасно.
Закрытость темы была вызвана разными причинами. Боялись сглазу – ведь слово тоже наводило порчу. Опасались за стабильность в государстве: нездоровый и уж тем более умирающий государь – соблазн! Нужны были действительно веские основания – серьезная болезнь царя, чтобы, как последнее средство, прибегнуть к всенародному молению о государевом выздоровлении.
Приготовленное в Аптекарском приказе лекарство относилось «в Верх к государю в хоромы», как это было, к примеру, 25 января 1665 года [498]498
Материалы для истории медицины в России. СПб., 1883. Вып. 2. С. 295–296.
[Закрыть]. Дата для нас примечательная. Не только потому, что по стечению обстоятельств она совпала с расспросами, учиненными Витсеном Энгельгардту (тот расспрашивал его в начале февраля). Важнее другое. За пять дней до того, 20 января, царю был представлен перевод с латинского письма доктора Самуэля Коллинса. Письмо появилось не случайно. Оно – ответ на запрос Алексея Михайловича. Царь недомогал уже так часто, что был сильно обеспокоен состоянием своего здоровья. Потому искал первопричину недуга. Больше того, похоже, что он сам определил тему для ученых рассуждений Коллинса – тучность, с которой Романов интуитивно связывал свои болезни.
Действительно, как уже говорилось, Алексей Михайлович был склонен к полноте. Между тем никто и никогда не мог обвинить его в чревоугодии. «Царь умерен в пище, пьет очень немного вина, иногда только пьет коричневую воду (квас. – И.А.) или легкое пиво…» – пишет Коллинс. Ему вторят греки: «Монах ты или подвижник?» [499]499
Витсен Н.Указ. соч. С. 96; Коллинс С.Указ. соч. С. 206; Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Москву в XVII в. С. 137.
[Закрыть]
Пока Алексей Михайлович был полон сил и энергии, полнота нисколько не беспокоила его, напротив, свидетельствовала – по крайней мере в представлении русских людей – о его здоровье и красоте. Но с середины 60-х годов царь стал прихварывать, и вот тогда-то тучность стала превращаться из красоты в болезнь.
Свой ответ царю Коллинс начал с перечисления типов полных людей. «По Гипократову разумению, – писал он, – тонких природ человецы, не толико склонны суть к болезнем, якоже людия густых и тучных слияний, и самая убо тучность за недуг принятися может, которая есть сугуба, здравая и болезненная. Здравая яже естественных и подобающих умерений не преходит, не точию тучности и расположению чувства, и телесе ко укреплению взимается».
Далее врач переходит к описанию нездоровой полноты – к следствию и одновременно причине многих недугов человека. «Болезненная, яже от действия телесе повреждает, к праздности принуждает и сонною тяжестию чювства и движенья творить примрачны. Сего растворения действия суть одышка, тоска, ослабление, очесь, тяжесть, главоболение, насморк, удар, водяная болезнь, спячка, по расположению веществ к стечению». Едва ли мы ошибемся, предположив, что именно эти недомогания более всего беспокоили второго Романова.
Далее в письме Коллинса следовали рекомендации относительно образа жизни, который следовало вести Алексею Михайловичу. Они сводились к следующему: «Извлечение, или паче предохранение состоит во умерении ядения и питиа, во обучении и лекарстве». Иначе говоря, Коллинс предложил царю достаточно жесткую диету. Не ужинать, избегать молочное и «жесткие яди». Запретил есть свинину – она «повреждает». Мясо – только вареное, без чеснока и соли, причем предпочтение отдается птице – «рябчика, курятка, молодые журавлики, лебедки» и речной рыбе. Кроме того, Коллинс советует больше двигаться, меньше спать днем («умеренный сон») и принимать лекарства, которые «мокроту изсучают» [500]500
Материалы для истории медицины в России. СПб., 1884. Вып. 3. С. 787–788.
[Закрыть].
Трудно сказать, насколько тяжелой была болезнь Алексея Михайловича. Однако, бесспорно, именно этот недуг сократил дни второго Романова. Подтачивал он его исподволь, то отступая, то напоминая о себе приступами слабости и боли. Причем случались они достаточно часто. В июне 1673 года царь приказал доставить в Преображенское травники. Едва ли Алексей Михайлович собрался изучать их только из любопытства. Похоже, у него имелись для этого более веские основания. Царь, судя по всему, разуверился в лечении и сам пытался найти составы, которые должны были принести ему облегчение. Не случайно же в последние годы жизни он постоянно возил за собой большой сундук с лекарственными травами [501]501
ДАИ. Т. VI. № 94.
[Закрыть].
Еще один достаточно точный показатель царского самочувствия – частота его участия в церковных праздниках и охотничьих забавах. В последние годы жизни Алексей Михайлович стал проводить больше времени дома. Наблюдавший царя Рентенфельс пишет про «достоверного охотника»: «Довольно редко выезжает он на охоту в поместья, то есть в загородные дворцы». Большинство своих поездок царь предпочитал совершать теперь не верхом, а в карете.
И все же смертельный удар оказался неожиданным. Его Тишайшему нанесла прозаическая простуда. Конечно, между общим состоянием здоровья – а оно, несомненно, ухудшалось – и простудой существовала связь. Организм был ослаблен и уже не так, как прежде, сопротивлялся болезни.
Ничто не предвещало трагического исхода. Шел январь 1676 года. Царь был весел и здоров. Он принимал послов из Голландии, слушал с царевнами и придворными музыку. 23 января явились первые признаки нездоровья. Царь лечился сам. Во всяком случае, доктора позднее утверждали, что государь отказался от их услуг. Собственное же лечение было своеобразным, если не сказать что самоубийственным. Весь в жару, царь требовал холодного кваса. На живот клал толченый лед. Через неделю положение стало безнадежным. По тогдашнему выражению, настало время «нашествия облака смертного», когда правитель «оставляет царство временное и отходит в жизнь вечную».
29 января царь собороновался и благословил на царство сына Федора. Одно из последних и традиционных волеизъявлений умирающего – освободить из темниц узников и уплатить долги за должников. В ночь с 29-го на 30-е наступили агония и смерть.
Поутру гроб был отнесен в Архангельский собор. За гробом в кресле несли Федора Алексеевича. Новый царь серьезно недомогал, так что придворные не были уверены в том, что им не придется вскоре повторять печальное шествие.
В траурной церемонии участвовала царица. Ее по традиции несли на носилках, устроенных по подобию саней.
По совершении литургии придворные простились с усопшим. Он был погребен на правой стороне собора подле гроба царевича Алексея Алексеевича.
Мы точно не знаем, насколько страдал Алексей Михайлович и какие мысли терзали его перед смертью. Когда-то он брался за перо и находил слова утешения для князя Н. И. Одоевского, потерявшего сыновей. Царь скорбел и одновременно радовался благочестивой кончине молодых людей, напоминал Одоевскому, что скорбеть следует в меру, чтобы не прогневить Бога. В конце января эти давно сказанные им слова пришло время произносить другим – и уже по его поводу. Наверное, они и были произнесены – слова, призванные заглушить страх и вселить надежду, дарованную каждому верующему человеку, когда смерть есть не тьма, а новый свет встречи со Спасителем.
Согласно официальным источникам, царь умирал смертью благой, доброй – в просветлении и покаянии. Но покаяние – это еще и воспоминания о прегрешениях, которые не получили искупления [502]502
См.: Кошелева О. Е.Смерть: эмоциональный подтекст завещаний и переписки русского боярства XVII в. – Человек и его близкие на Западе и Востоке Европы. М., 2000. С. 194–207.
[Закрыть]. Воспоминания о неискупленных грехах томили душу Алексея Михайловича: как здесь не вспомнить, с какой настойчивостью он выспрашивал прощение у Никона? Видно, что для него здесь было нечто большее, чем просто христианская обязанность, – сокрытое, неостывающее чувство вины.
Скорбели ли о царе в народе? «Когда опечаленный народ увидел это похоронное шествие, то раздались такие ужасные, исполненные всенародной скорби вопли, что, казалось, уши раздирает какой-то пронзительный звон колоколов», – писал Рентенфельс [503]503
Рентенфельс Я.Указ. соч. С. 303–304.
[Закрыть]. Но была ли эта скорбь искренней, а не этикетной? Едва ли в поиске ответа на этот вопрос нас устроит ни к чему не обязывающая ссылка на традиционное почтение и всеобщую любовь к Тишайшему. Вернее иное: народ, перевертывая последнюю страницу этого царствования, скорее всего был озадачен пугающей неизвестностью – что-то будет?
Переживания придворных, живших более тридцати лет при покойном государе, были куда разнообразнее и определеннее. Наступало время перемен. Одни придворные в эти дни дышали надеждою. Родственники, свойственники, знакомцы близких к Федору Алексеевичу людей не без основания рассчитывали выдвинуться вперед. Других пугали забвение, угроза оттеснения от трона. Потому скорбь при дворе была всегда адресной, с диапазоном от скорби-радости до скорби-потрясения.
Иные чувства бушевали в стане староверов, окончательно изменивших свое отношение к Тишайшему с началом осады Соловецкого монастыря. «В муках он сидит, – слышал я от Спаса», – писал Аввакум, отправляя «благочестивейшего из царей» прямехонько в ад. Царь у протопопа умер, наказанный Богом. Свершен суд за разорение обители и казни соловецких мучеников – не случайно царь заболел на следующий день после падения Соловков, а скончался в канун дня Страшного суда [504]504
См.: Бубнов Н. Ю., Демкова Н. С.Вновь найденное послание из Москвы в Пустозерск «Возвещение от сына духовнаго ко отцу духовному» и ответ протопопа Аввакума. – ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36.
[Закрыть].
Рука Аввакума вывела слова совсем уничижительные для Тишайшего: «Бедной, бедной, безумное царишко! Что ты над собою зделал?.. где багряноносная порфира и венец царской, бисером и камением драгим устроен?.. Ну, сквозь землю пропадай!..»
Иначе воспринял известие о смерти царя Никон. Он расплакался. Но что в действительности стояло за этим старческим проявлением чувств? Искренняя печаль или надежда на счастливую перемену в судьбе? Что бы там ни было, бывший «собинный друг» своего низложения усопшему не простил и полного прощения не дал. «Воля Господня да будет, если государь здесь на земле перед смертью не успел получить прощения с нами, то мы будем судиться с ним во второе пришествие Господне; по заповеди Христовой я его прощаю и Бог его простит, а на письме прощение не дам, потому что при жизни своей не освободил нас от заточения».
Воцарение четырнадцатилетнего Федора Алексеевича прошло спокойно. Об этом сообщал в своих отписках датский резидент в Москве Монс Гэ. «Тотчас после смерти государя (Алексея Михайловича. – И.А.), в тот же вечер, бояре посадили нового царя на отцовский престол, по принятому обычаю пригласили его целовать крест, затем приняли от него распятие и также поцеловали, присягнув на верность» [505]505
Из донесений первого датского резидента в Москве // ЧОИДР. 1917. Кн. 2. Отд. 2. С. 40.
[Закрыть]. Все произошло очень быстро, так что далеко не все еще знали о смерти старого государя, а двор уже присягал новому. Подобная поспешность не была чем-то из ряда вон выходящим: именно так и следовало присягать, обеспечивая преемственность власти и правопорядок. Напротив, опасным было бы промедление – свидетельство о сомнениях.
Позднее появились толки о намерении посадить на престол младшего царевича Петра, сына Натальи Нарышкиной. Инициатором якобы выступал Артамон Матвеев, уговаривавший умирающего царя пойти на этот шаг. Предлог – царевич Федор очень болен и мало надежды на его жизнь. При том, что Милославские, родня наследника престола, всем порядком надоели и их вторичное явление ко двору едва ли могло обрадовать боярские кланы, не приходится всерьез говорить, что кто-то собирался обойти Федора Алексеевича. Царевич Федор – не слабый на голову царевич Иван, будущий соправитель Петра. Да и ситуация начала 1676 года – не ситуация апреля 1682 года, когда многое решалось придворными партиями, взявшими большую силу. Так что если в 1676 году подобная мысль кого и посещала, то очень робко, и провести ее в жизнь не представлялось возможным. Права объявленного наследником Федора Алексеевича были бесспорными.
Но слухи о физической немощи Федора, несомненно, муссировались в эти дни. Как и до смерти Алексея Михайловича, когда его старший сын ходил в наследниках, так и после. По свидетельству князя Б. И. Куракина, Федор Алексеевич был «отягчен болезнями с младенчества своего». «Есть также большая вероятность, что теперешний царь, с детских лет совсем больной и меланхоличный, долго не проживет», – доносил в Копенгаген датский резидент [506]506
Архив кн. Ф. А. Куракина. СПб., 1890. С. 43; Из донесений первого датского резидента. С. 41.
[Закрыть].