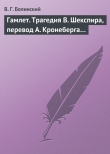Текст книги "Пророки и поэты"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
О доброжелательности и терпимости Шекспира свидетельствует теплота человеческих отношений актеров "Глобуса" и уважение к драматургу: среди сыновей актеров было слишком много Уильямов, и "нетрудно сообразить, кто был их крестным отцом".
Судя по тому, что его герои не знают покоя, их создатель был человеком активным, действенным и подвижным. Временами он был неистов и впадал в преувеличения. Он мог позволить себе соленую шутку или даже непристойность-эту постоянную спутницу всех великих людей.
В "Генрихе VIII" мы видим Шекспира-националиста и шовиниста, разглагольствующего о несокрушимости и величии Британии, но следует помнить, что слова эти сказаны в разгар войны с Испанией за мировое владычество.
Шекспира интересовала проблема власти, политики и общественные взаимоотношения людей. Но мы не найдем в его пьесах выражения политических взглядов. "Ни один герой его драм не выполняет никакого гражданского долга для блага общества и не имеет об этом ни малейшего представления".
Видимо, он не очень-то полагался на реформаторство, находя единственной защитой от социального зла индивидуальную трезвость и свободу. Его первое и последнее слово о парламенте было: "Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты".
Попытки представить Шекспира выразителем партийных интересов – вигом, протестантом, папистом – обедняют поэта. Т. С. Элиот вообще отрицал наличие у Страстного Пилигрима политического мировоззрения, считая, что он ценил лишь то, что выигрышно для сцены. В отличие от мыслителя и философа Данте, считал Элиот, Шекспир просто великий поэт. Нет! Шекспир – великий мыслитель и философ-экзистенциалист, человек совершенно определенных политических убеждений, но – вне партий, вне политических групп, сам по себе.
Как и Гете, он был "другом существующего порядка" и, потрясая копьем, больше всего остерегался потрясать основы. Как и Гете, он "слишком рано стал учтивым"...
Шекспир был человеком не просто законопослушным, но и верноподданным. Он ладил с цензурой и безапелляционно выполнял ее капризы. Он считал крайне опасным возбуждать чернь, и в его творчестве нельзя найти даже намеков на критику власти. Все бунтарские речи он вкладывал в уста безумцев или злодеев. Шекспир не желал перемен, всегда чреватых насилием и хаосом. В "Троиле и Крессиде", "Гамлете", "Мере за меру", "Макбете" он наглядно изобразил, к чему ведут перемены.
С Жаном Боденом, Т. Элиотом, Д. Чиком и Р. Краули Шекспира сближает отрицательное отношение к демократии, революции, плебсу. Возражения Элиота Томасу Мору весьма похожи на аргументы шекспировских персонажей-архиепископа Кентерберийского, Улисса и Менения Агриппы. И там, и здесь-исторические примеры государственного хаоса и упадка, вызванного охлократией. Все они были поборниками меритократии-правления лучших, а перу Д. Чика принадлежал один из первых антиреволюционных трактатов, включенных Холиншедом в свои хроники.
Шекспир вполне мог бы подписаться под правительственной "проповедью против неповиновения и преднамеренного мятежа", обнародованной в 1569 году, под словами этой проповеди: "Восстать – значит добавить еще один грех к прежним, еще не искупленным... Мятеж приводит англичан к тому, что они начинают грабить, уничтожать, сжигать в Англии англичан, убивают своих соседей и родственников, соотечественников, творят зло и бесчинства хуже любых чужеземных врагов..."
"Кориолан" – не "драма о классовой борьбе" и не "страшное разоблачение имущих классов", а выражение страха землевладельца Шекспира перед мятежными разбойниками, угрожавшими состоятельным людям грабежами. Прав Э.Петтет, а не М.Абар.
Исповедуя идеологию абсолютизма. Шекспир считал монархию идеальным видом государственного устройства и сословный строй – промыслом Божьим.
Все воды моря бурного не смоют
Елей с помазанного короля;
Не свергнет человеческое слово
Наместника, поставленного Богом.
Как может подданный судить монарха?
.....................................
Правитель, вождь, наместник, им избранный,
Помазанный, венчанный, полновластный,
Судим ли будет подданным и низшим?
Шекспиру нравилось вращаться среди "высших". Он был человеком Саутгемптонов и своим творчеством поддерживал их идеологию. Некоторые свои шедевры он писал по заказу вельможных друзей для их возлюбленных.
Шекспиру нравилось вращаться среди знати, но, зная цену ей и себе, он не мог не приобрести комплексов. Шут Шекспира – не случайно глас природы, мудрости, проницательности, бытия. Шут – сам Шекспир, подсознательное выражение роли безродного провинциала среди знати.
Да, это правда: где я не бывал,
Пред кем шута не корчил площадного,
Как дешево богатство продавал!...
В сонете 111-м сказано еще определенней:
О, как ты прав, судьбу мою браня,
Виновницу дурных моих деяний,
Богиню, осудившую меня
Зависеть от публичных подаяний!
Сознавал это Лебедь Эйвона или нет, но фрейдизм работал. Все гении-юродивые, и юродивые по одной причине: стоя неизмеримо выше сильных мира сего и сознавая их ничтожество и свое превосходство, все они так или иначе чувствуют себя шекспировскими шутами, никого не пускающими себе в душу, бросающими выстраданную правду в лицо королям и царям.
Клоун и шут – два разных шекспировских персонажа: клоун – простолюдин, дурак, деревенщина, глупец, swain, простофиля; шут – высмеиватель, остроумец, глубокомысленный созерцатель, "прячущий ум в засаде". "Горький шут" короля Лира – пророк, психолог, alter ego автора, мудрец, избравший своим оружием иронию, сарказм и насмешку.
Он хорошо играет дурака,
Такую роль глупец не одолеет...
Нужно много сметки,
Чтобы искусством этим овладеть.
Вся глупость умника раскрыта будет
Случайной шутовской остротой.
Буффонада, юродство, безумие, шутовство – шекспировские способы просветления. Шуту доверено говорить правду Лиру, сам Лир прозревает, впав в безумие, в сошедший с ума Офелии просыпается мудрость пророчицы, сомнамбулические состояния леди Макбет или безумие Алонзо – просветление, пробуждение, ясность.
Шекспир прожил жизнь под маской. Он никогда не писал пьес на современные темы и никогда не высказывался о современности. Самые сокровенные мысли он вкладывал в уста шутов.
Он не был чудаком, "рассеянным гением", изгоем или человеком не от мира сего. В этом отношении он стоит в одном ряду с Данте, Гете или Толстым. Он с равным талантом писал великие пьесы и устраивал собственную жизнь. Неудивительно, что друзья считали его дипломатом и использовали в случаях, требующих осмотрительности и осторожности.
Видимо, он боялся нищеты и неустанно "возводил свою крепость", которая ему так и не понадобилась. Он не был расточительным человеком, как о том судачила молва, и, обладая, помимо прочих достоинств, талантом предпринимателя, умело вкладывал капиталы. По одной из версий, он давал деньги в рост. Тирады против злата, вложенные Бардом в уста Тимона Афинского, никак не соответствовали житейской практике человека, постоянно заботившегося об умножении состояния. Вряд ли стоит расценивать это как непоследовательность гения. Гений прежде всего человек, максимальная концентрация человеческого, а Шекспир-человек, зарабатывающий свой хлеб даже не в поте лица своего, а за счет собственной шагреневой кожи-жизни.
Шейлока он извлек из собственных необъятных карманов. Сын
ростовщика и торговца солодом, он и сам был ростовщик и торговец
зерном, попридержавший десять мер зерна во время голодных бунтов. Те
самые личности разных исповеданий, о которых говорит Четтл Фальстаф и
которые засвидетельствовали его безупречность в делах, – они все были,
без сомнения, его должники. Он подал в суд на одного из своих
собратьев-актеров за несколько мешков солода и взыскивал людского мяса
фунт в проценты за всякую занятую деньгу. А как бы еще конюх (по Обри)
и помощник суфлера сумел так быстро разбогатеть?
ТАЙНЫ
Шекспир не отличался пуританством, снобизмом и ханжеством: многие его пьесы направлены против квакерского лицемерия. Дошедшие до нас истории представляют его обворожительным, остроумным волокитой, большим поклонником женских прелестей, не упускавшим легкой добычи, – читайте Шоу, Джойса и нашего Домбровского. Судя по всему, он никогда не подавлял вспыхнувших в нем порывов.
Только филистеры могут возмущаться при мысли о том, что кипение
молодой крови приводило иногда Шекспира к поступкам безрассудным или
предосудительным.
Все, чем я жил, я кинул всем ветрам,
И старую любовь сквернил я новой.
И не твоим устам меня карать:
Они осквернены такой же ложью,
Как и мои, когда, как алчный тать,
Я похищал добро чужого ложа.
Но мне ль судить тебя за прегрешенья?
Я сам грешил не два, а двадцать раз...
Глухая история донесла до нас пикантные истории об амурных похождениях Шекспира: о том, как он опередил актера своей труппы в постели красавицы-зрительницы, о незаконном сыне Шекспира Уильяме Давенанте, поэте и драматурге, создавшем свой театр. Как свидетельствовал автор Гудибраса Сэм Батлер, близко знавший Уильяма Давенанта, последний сам рассказывал, как "крестный отец" соблазнил его мать, слывшую необыкновенной красавицей, когда останавливался на постоялом дворе в своих частых поездках между Уорикшайром и Лондоном.
...ему [У. Давенанту] нравилось, чтобы о нем думали, как о его
[Шекспира] сыне: и он рассказывал вышеприведенную историю, по которой
получалось, что его мать считалась легкомысленной женщиной и ее будто
бы даже звали шлюхой...
Но среди всех анекдотов и пикантных историй самая пикантная и одновременно самая таинственная та, что описана самим поэтом в 154-х сонетах. Вот ведь как: налицо авторский документ и – великая тайна...
Но тайна ли? Тайна в том, кем были смуглая леди и прекрасный светловолосый юноша, а остальное довольно прозрачно описано самим поэтом бери и читай. Вот тот ключ, которым открыл свое сердце Шекспир, – так сказал о сонетах Вордсворт. Но не хотят брать...
Уж чем-чем, а идолопоклонством страсть Шекспира к Смуглой леди не
была. В противном случае Смуглая леди, наверное, смогла бы ее вынести.
Мужчина, который боготворит, терпим даже с точки зрения избалованной и
деспотичной возлюбленной. Но какая женщина способна терпеть мужчину,
который любит, но знает и при этом смеется над нелепостью собственной
страсти к женщине, чьи недостатки видны ему все до единого? Мужчину,
чей кладбищенский юмор вечно заставляет его перемигиваться с черепом
Йорика и приглашать свою владычицу посмеяться вместе над тем смешным
фактом, что она кончит, как Йорик, хоть накладывай она белила в дюйм
толщиной (как, вероятно. Смуглая леди и поступала). Смуглой леди
Шекспир, должно быть, порой казался безжалостным чудовищем – так
сказать, интеллектуальным Калибаном. Нет причин предполагать, что ей
пьесы Шекспира нравились больше, чем Минне Вагнер нравились
музыкальные драмы Рихарда. Вполне возможно, что испанская трагедия, по
ее мнению, стоила шести Гамлетов.
Лесли Роуз идентифицировал "The Dark Lady", эту Семелу, доставившую Шекспиру столько горя, с Эмилией Лэньер, малоизвестной поэтессой, выпустившей талантливую книгу "Salve Deus Rex Iudaeorum". Однако, личность этой поэтессы не менее загадочна, чем Смуглой леди, а великолепие ее стихов позволяет предположить литературную мистификацию – авторство Елизаветы Синди-Ратленд. Согласно другой версии, восходящей к Брандесу, смуглая леди-фрейлина королевы Мэри Фиттон. Шоу добавляет уже упомянутую госпожу Давенант и Марию Томпкинс.
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать...
Что касается обворожительного юноши, то большинство исследователей сходятся в мнении, что это – граф Пембрук, к которому Шекспир питал ту же склонность, что Зевс к Ганимеду. Реже называют имена молодых меценатов Шекспира – Уильяма Герберта, который был на 14 лет моложе, и даже самого графа Саутгемптона.
Я у него спросил, что он думает насчет обвинения в педерастии,
взводимого на поэта. А он воздел кверху руки и отвечает: Мы можем
единственно лишь сказать, что в те времена жизнь била ключом.
Проблема гомосексуальной любви в мировой культуре слишком серьезна, чтобы не замечать ее. Не говоря об античных схолархах до Платона включительно, чьи оргии ярко живописует Диоген Лаэрций, не говоря о скандальных и даже уголовных делах П. Верлена или О.Уайльда, не говоря о декларируемом гомосексуализме Андре Жида, ездившего к Сталину отстаивать интересы сексуальных меньшинств, остаются "странные" привязанности Монтеня к Этьенну де ла Боэси, Шекспира к другу "Сонетов", Григория Сковороды к Ковалинскому...
Мы говорим: энтузиазм влюбленного, с которым писали свои признания юношам Монтень или Шекспир, – дань эпохе, ее стилю и ее манере. Но вот Сковорода жил отнюдь не в куртуазные времена и далеко не в куртуазной стране, писал другим стилем, а что мы слышим?
У меня поднимается такая любовь к тебе, что она растет со дня на
день, так что ничего в жизни нет для меня сладостнее и дороже...
Какая это любовь – духовная или сексуальная?
Можно сколько угодно ханжески маскировать эти отношения Шекспира с юным красавцем рыцарской любовью, новым сладостным стилем, возвышенностью чувств, но лучше просто взять и читать Шекспира.
К тебе, мужчине, тянутся мужчины,
И души женщин привлекаешь ты.
Задуман был как лучшая из женщин,
Безумною природою затем
Ненужным был придатком ты увенчан,
И от меня ты стал оторван тем.
Но если женщинам ты создан в утешенье,
То мне любовь, а им лишь наслажденье.
Или:
Твоя краса – покров души моей,
Сплетенный навсегда с душой твоею.
Твоя в моей, моя в груди твоей
Так как же буду я тебя старее?!
И потому побереги себя
Для сердца моего – и я ведь тоже
Твое ношу и берегу любя,
На преданную нянюшку похожий.
Какие это слова – духовной или сексуальной любви? Или эти?
Но счастлив я: люблю я и любим
И от любви своей неотделим.
Или:
"Ты – мой, я – твой", – твержу я с той поры,
Когда с тобой мы встретились впервые.
Или:
Твоей любви, моей мечты о ней
Я не отдам за троны всех царей.
Или:
В тебе я вижу всех любимых мной,
Ты – все они, и я – всегда с тобой.
Или:
Бери ее хоть всю, мою любовь!
Что нового приобретешь ты с нею?
Твоим я был, твоим я буду вновь,
И нет любви, моей любви вернее.
Или:
Ты не со мной – и день покрыла мгла;
Придешь во сне – и ночь, как день, светла.
Или:
Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью.
Или:
Так в помыслах моих иль во плоти
Ты предо мной в мгновение любое.
Не дальше мысли можешь ты уйти.
Я неразлучен с ней, она с тобою.
Или:
Я быть твоим хочу,
Себя увлечь страстям я не позволю,
Старинной дружбы я не омрачу,
Ты – бог любви, твоей я предан воле.
Преддверием небес отныне будь
Прими меня на любящую грудь!
Пишут ли так о любви духовной? Пишут ли, воспевая дух, о "разгульной красоте", "беспутстве юности", "чести, сошедшей с пути", "желании моем", что "к тебе помчится вдруг", "любовном желании моем".
Кто знал тебя – узнал блаженство тот.
А кто не знал – надеждами живет.
О чем это – о духе или плоти?
Взметнись, любовь, и снова запылай!
Пусть знают все: ты не тупей, чем голод,
Как нынче ты его ни утоляй,
Он завтра снова яростен и молод.
Так будь, как он! Хотя глаза твои
Смыкаются уже от пресыщенья,
Ты завтра вновь их страстью напои,
Чтоб дух любви не умер от томленья...
В 35-й и 36-й сонеты глухо врываются уайльдовские мотивы расплаты за постыдную любовь:
Ты не кручинься о своей вине:
У роз шипы, в ручьях кристальных ил,
Грозят затменья солнцу и луне,
И гнусный червь бутоны осквернил.
Грешны все люди, грешен я и сам:
Я оправдал поэзией своей
Твои проступки, и твоим грехам
Нашел отвод, самих грехов сильней.
Я отвращаю от тебя беду
(Защитником твоим стал прокурор?),
И привлекаю сам себя к суду.
Меж ненавистью и любовью спор
Кипит во мне. Но я пособник твой,
Любимый вор, обидчик милый мой.
С тобою врозь мы будем с этих пор,
Хоть нераздельны, как и встарь, сердца:
Внезапно павший на меня позор
Переношу один я до конца.
Любовь у нас и честь у нас одна.
Пусть злая доля разлучила нас,
Любви взаимной не убьет она,
Похитит лишь блаженства краткий час.
Не смею впредь я узнавать тебя,
Своей виной срамить тебя боясь;
И ты не можешь быть со мной, любя,
Дабы на честь твою не пала грязь.
Не делай так! Ведь для моей любви
И честь твоя, и ты – свои, свои!
Далее поэт вновь и вновь твердит о клейме всеобщего злословья, о своих пороках, о порочной любви, о своем позоре и обвиняет себя в грехах.
Вот поэт, безумно влюбленный в юношу, упрекает его в холодности и уговаривает "повториться" в любви с женщиной {Мюр утверждает, что ему не известны иные сонеты, в которых поэт убеждал бы кого-либо жениться и иметь потомство. Еще: нет никаких доказательств, что молодой человек, которого поэт в первых 17-ти сонетах уговаривает жениться, и друг, которого он столь горячо любил, – одно лицо.}:
Ведь ты теперь в расцвете красоты
И девственных садов найдешь немало,
Тебе готовых вырастить цветы,
Чтоб их лицо твое бы повторяло.
Меня любя, создай другого "я",
Чтоб вечно в нем жила краса твоя.
Ты вырезан Природой как печать,
Чтоб в оттисках себя передавать.
Но юноша не желает слушать поэта:
Тебя все любят – сам скажу охотно
Но никого не любишь ты в ответ.
До поры до времени юноша не изменяет ему:
Твой женский лик – Природы дар бесценный
Тебе, царица-царь моих страстей.
Но женские лукавые измены
Не свойственны душе простой твоей.
Далее следует разъяснение:
Ты мил – и все хотят тебя иметь;
Пленителен – и всеми осажден.
А женщины прельстительную сеть
Прорвет ли тот, кто женщиной рожден!
Но уже в следующем сонете "тот, кто женщиной рожден", наслушавшись наставлений старшего друга и идя по его стопам, находит не кого-нибудь, а его любовницу – Смуглую Леди:
Полгоря в том, что ты владеешь ею,
Но сознавать и видеть, что она
Тобой владеет, – вдвое мне больнее.
Твоей любви утрата мне страшна.
Или – в другом переводе:
Не в этом горе, что она твоя,
Хоть, видит Бог, ее любил я свято;
Но ты – ее, и этим мучусь я:
Мне тяжела твоей любви утрата.
Но ваша мной оправдана вина:
Ты любишь в ней возлюбленную друга,
Тебе ж любить позволила она,
Любя меня как нежная подруга.
Ее теряю – радуется друг;
Теряю друга – к ней приходит счастье.
Вы с ней вдвоем – а я лишаюсь вдруг
Обоих вас во имя нашей страсти.
Но друг и я – о счастье! – мы одно:
Любим я буду ею все равно.
В другом сонете нахожу:
На радость и печаль, по воле Рока,
Два друга, две любви владеют мной:
Мужчина светлокудрый, светлоокий
И женщина, в чьих взорах мрак ночной.
Или – в другом переводе:
Два духа, две любви всегда со мной
Отчаянье и утешенье рядом
Мужчина, светлый видом и душой,
И женщина с тяжелым, мрачным взглядом.
Чтобы меня низвергнуть в ад скорей,
Она со мною друга разлучает,
Манит его порочностью своей,
И херувима в беса превращает.
Стал бесом он иль нет, – не знаю я...
Наверно стал, и нет ему возврата.
Покинут я; они теперь друзья,
И ангел мой в тенетах супостата.
Но не поверю я в победу зла,
Пока не будет он сожжен дотла.
– Допустим, он – брошенный любовник в сонетах. Брошенный один
раз, потом другой. Однако придворная вертихвостка его бросила ради
лорда, ради его бесценная моя любовь.
И что вы думаете? Поэт прощает другу то, что редко прощают, – похищение любимой. Для него тяжелее лишиться любви друга, чем подруги.
Тебе, мой друг, не ставлю я в вину,
Что ты владеешь тем, чем я владею.
Нет, я в одном тебя лишь упрекну,
Что пренебрег любовью ты моею.
Сначала любвеобильный поэт прощает изменившего друга, затем и склонную к изменам порочную подругу:
Ты делаешь прелестным и порок,
Пятнающий твой нежный юный цвет.
Он, словно червь, прокравшийся в цветок.
Но как богато грех твой разодет!
Какой чертог воздвигнут для грехов,
Задумавших в тебе найти приют.
На них лежит красы твоей покров,
Ни пятнышка там взоры не найдут.
Вообще сонеты просто изобилуют сексуальными символами:
Где лоно невозделанное то,
Что оттолкнуло б дивный этот плуг?
Или:
Пока краса твоя еще сильна,
Какой-нибудь сосуд наполни ею.
Или:
Не схожи так твой вид и аромат,
Что достояньем общим стал твой сад.
Как некогда Толстой, сказавший стеснительному Чехову "я был неукротим", – так Шекспир говорит о своей страсти:
Каких я только не наделал бед,
Себя вообразив на гребне счастья!
Какой в глазах сверкал безумный бред
Горячечной неукротимой страсти!
Так к травам взор я также обратил,
Твоей пресытясь сладостной любовью,
Страдая лишь одним избытком сил,
Искал я облегченья в нездоровье.
И – в заключение – философия жизни и любви Шекспира, выраженная прямой речью:
Уж лучше быть, чем только слыть дурным,
Упрекам подвергаться понапрасну.
Ведь даже радость превратиться в дым,
Когда не сам признал ее прекрасной.
Бесстыдным неприязненным глазам
Не опозорить буйной крови пламя.
Суду потомков – худших, чем я сам,
Желанных мне пороков не предам я.
Я – это я! Глумяся надо мной,
Они изобличат свои проступки.
Да, я прямой, а мой судья – кривой,
И не ему судить мои поступки.
Ведь по себе он рядит обо всех:
Все люди грешны, всеми правит грех.
Что к этому можно добавить? Разве что то, что если "Гете" означает "изливающий", "производитель", "жеребец", "самец", то имя Шекспира можно перевести и как "желание", и это совпадение поэт сам обыгрывает в 136-м сонете...
ИСТОКИ
Если бы он прочел все "источники", которые ему навязывают, то
источник собственного его творчества, засыпанный книгами, наверное,
иссяк.
Никто не знал бы теперь историй о Ромео и Джульетте, Гамлете,
Отелло, Лире и Макбете, если бы Шекспир не коснулся их волшебным
жезлом своего художественного гения.
Бокль в рассуждениях Гамлета о прахе Александра Македонского и
глине видел знакомство Шекспира с законом обмена веществ, то есть
способность художников опережать людей науки.
При анализе влияний важна не констатация втекания в творчество Шекспира разных струй, а результат вытекания, слияния, переработки, переплавки разных влияний, результат модернизации и оживления, превращения влияний в "явление Шекспир" – И вот здесь-то выясняется, что при множестве явных и неявных эфирных влияний Шекспир творил шедевры из... ничего, из пустяков, ничтожных случаев, глупостей, неудачных, пошлых, малозначительных, давно забытых пьесок.
Обладая всем на свете. Шекспир обладал и даром изобретательства, считал Томас Манн, но предпочитал находить, а не изобретать, "смиряться перед данным", так как для поэта "конкретный материал, маскарад сюжета – ничто, а душа, одухотворение – все".
Из пошлой, примитивной новеллы Чинтио, в которой описано подлое убийство мавром своей жены, совершенное в сговоре с офицером-клеветником (сообщник ударил Дездемону по животу мешком, а затем вместе с мавром они обрушили потолок, дабы скрыть преступление), Шекспир создал мифопоэтический шедевр вечной борьбы Добра и Зла. Вот что такое плагиат Шекспира... У Чинтио офицер мстит Дездемоне за отвергнутую любовь, у Шекспира Яго-Сатана, борющийся с Богом за душу человека. Такой вот плагиат...
Шекспира обвиняли в том, что он работал не столько чернилами и пером, сколько ножницами и клеем. Да, он, как правило, не изобретал сюжетов, щедро черпая их у других, но именно он преобразовывал шлаки и отходы культуры в алмазы, делал смертное бессмертным, придавал совершенные формы бесформенному, очеловечивал исторические персонажи и выводил их в вечность. По мнению Колриджа, Шекспир вообще стоял вне времени.
В творчестве Шекспира нет ничего от почвы, которая его
взрастила... Его гений – дар неба, он свободен от всего земного и
национального.
Для человека, у которого имеется эта диковина, гениальность, лишь
его собственный образ служит мерилом всякого опыта, духовного и
практического. Сходство такого рода тронет его. Но образы других
мужей, ему родственных по крови, его оттолкнут. Он в них увидит только
нелепые потуги природы предвосхитить или скопировать его самого.
Обладая даром изобретательства, Шекспир не придавал ему большого значения и редко им пользовался: "Он гораздо больше любил находить, чем изобретать... Поэта рождает не дар изобретательства, а иное – дар одухотворения".
В тех случаях, когда можно проследить прямые заимствования Шекспира, как в случае с "Промосом и Кассандрой" Джорджа Уэтстона, мы видим, что заимствования практически отсутствуют: берется остов, скелет и на него наращивается живая ткань, тонкая, ажурная, чисто шекспировская. Характеры Шекспира и оригинала соотносятся как бьющая фонтаном жизнь и земной прах.
Кто-то высказал мысль, что совершенные произведения не побуждают к творчеству и что "плохая" литература в этом отношении действует сильнее. Это, конечно, не так – Пушкин не пользовался "плохим" материалом. Правда не в том, что побуждает к творчеству, но – кого.
Джефри Буллоу составил восьмитомный свод источников, из которых Шекспир черпал свои сюжеты. Но на самом деле неисчерпаемая фантазия Шекспира многократно превышала его знания. Его не случайно сравнивали с Гомером, мифотворчество которого питало знание тысячелетий и в которого гораздо меньше втекало, чем вытекало.
Харизматическим поэтам, к каковым принадлежал Лебедь Эйвона, природные дарования могут вполне заменить книжную премудрость. Шекспир больше черпал из жизни, чем из книг, проявляя высшую проницательность и необыкновенную остроту взора. Но это вовсе не значит, что он не испытывал влияний. Просто он был самоучкой с гигантским охватом. Он не имел системы, но он имел большее – страстный интерес к жизни и подвижный, быстрый ум.
Изданная в 1914-м "Шекспировская Англия" продемонстрировала, что не было такой области жизни, которой не коснулся бы Шекспир.
Творчество Шекспира пропитывают мотивы, проходящие через поэзию двух тысячелетий, но это не значит, что он познал сокровищницу западной культуры, – это значит, что он, как радар, воспринимал эфирные влияния эпох, обладая сверхзрением и сверхслухом, улавливающим поэтические образы и космические мелодии мировой художественной мысли.
Произведения Шекспира буквально нашпигованы мифологическими образами. Кто-то подсчитал, что только в комедиях – не всех! – он 250 раз прибегает к персонажам мифологии, причем мифологические образы часто являются ведущими, ключевыми.
Бард почерпнул больше необходимых исторических сведений из Плутарха, чем множество читателей из всей библиотеки Британского музея. Перефразируя Рихарда Вагнера, можно сказать, что Шекспир сгустил мировую литературу двух тысячелетий в несколько своих драм.
Хотя в елизаветинскую эпоху Плавт, Теренций и Сенека изучались в грамматических школах, он в лучшем случае читал "Жизнеописания" Плутарха и стихи Овидия. Некоторые считали Овидия любимым поэтом Шекспира. У него он учился "искусству любви" и искусству поэзии.
Ренессанс восстанавливал дух античности, этим духом был насыщен воздух, и Шекспир не мог не дышать им, не знать о существовании переводов Чапмена и Норта. Он мог не знать Платона и платоников, но неоплатонизмом пропитана его "Буря". Он вряд ли читал Софокла и Еврипида, но Корделия – родная сестра Антигоны. Он не штудировал стоиков и Сенеку, но воспринял стоицизм как долг человека смело смотреть в глаза правде жизни. Просперо-мудрец – стоик, свободный от пагубных страстей. К Сенеке восходит и идея мира – скопища бедствий и зла, против которых человек бессилен. Исходной формой драмы для Шекспира была римская трагедия в манере Сенеки.
Сенеке Шекспир обязан "кровавыми трагедиями". Влияние наставника Нерона ощутимо в "Ричарде III", "Тите Андронике", "Генрихе VI". Однако статичности и декламации Шекспир противопоставил динамизм и полифонию. Описание приготовления яда в "Макбете" имеет аутентичные прототипы: "Медею" Сенеки и "Метаморфозы" Овидия, сама леди Макбет восходит к Клитемнестре, заклинания Медеи слышны в монологе Просперо в шекспировской Буре.
У Сенеки английские драматурги заимствовали не только темы и композиции, но принципы построения стихотворной речи, драматические приемы, "большую кровь". Призрак короля в "Гамлете" и призраки убиенных в "Ричарде III" и "Макбете" заимствованы, если не у Сенеки, то у Кида, черпавшего из того же источника.
Ключевой образ "мира-театра" взят Шекспиром у Петрония: "Totus mundus agit histrionem" {Весь мир играет как лицедей (лат.)}. И не одним Шекспиром – это любимый образ философии и литературы Возрождения (Парацельс, Бэкон, Эразм Роттердамский, Рабле, Сервантес).
Поэма "Венера и Адонис" – явная дань Метаморфозам Овидия, насыщенным дантовским духом, которые были переведены А. Голдингом.
Комедия ошибок написана в подражание Амфитриону и Менехмам Плавта, усиленным средневековыми влияниями Джона Гауэра (Аполлоний Тирский).
Фабула Сна в летнюю ночь принадлежит Шекспиру, но использует отдельные мотивы Плутарха, Овидия и Чосера.
Тимон Афинский взят у Лукиана, взят вместе с лукиановским тезисом: "жить надо в одиночку, как волки, и единственный друг мне – Тимон".
Сюжеты четырех римских трагедий ("Тимон Афинский", "Юлий Цезарь", "Антоний и Клеопатра", "Кориолан") почерпнуты из "Жизнеописаний" Плутарха, но в попытке понять и донести до зрителя веяния эпохи Цезаря и Октавиана Шекспир переосмыслил и субъективизировал историю: античные герои – прежде всего люди, к ним приложимо все человеческое, отсюда ирония, сарказм, пародия, сатира, фарс. Шекспировский Ахилл – храбрящийся трус, почти miles gloriosus. Пандар – опереточный герой, а роман Елены и Париса превращен в интригу Крессиды и Троила. У Шекспира Троянская война – история и пародия одновременно, то есть то, чем является любая война. Однако отношение к народным массам у Шекспира – чисто плутарховское: дух Кориолана адекватен отношению Плутарха к бунту и черни.
Шекспир был неплохо знаком с религиозной литературой, знал "Законы устройства церкви" Ричарда Хукера и "Разоблачение вопиющего папистского плутовства" Харснетта. А. Харт собрал многочисленные высказывания шекспировских героев, заимствованные из церковных проповедей. В шекспировских пьесах много отголосков Епископальной Библии, средневековых фольклорных и карнавальных традиций. Комические элементы пьес сродны с карнавальной эротикой балагана. Первооснова драматургических композиций Шекспира – средневековая драма на библейские темы. Шекспир полностью устранил нравоучительность моралите, сохранив библейскую всеохватность. "Буря" насыщена библейскими мотивами, чуть ли не буквально повторяющими строки "Книги Иова".
Подобно тому как коллективные мистерии Средневековья пытались охватить всю библейскую историю от сотворения мира до смерти и воскрешения Христа, так Шекспир стремился охватить всю жизнь. Оттуда же – из средневековых мистерий – персонажи-маски, персонажи-аллегории, персонификации человеческих доблестей и пороков (Власть – Лир, Долг – Кент, Лесть – Гонерилья и Регана и т.д.). Из средневековых моралите заимствованы монологи-самохарактеристики, актеры-комментаторы, поясняющие зрителю ход действия, а также – авторская риторика и вестничество. Например, в "Потопе" из Честерского цикла мистерий (XIV век) действие начинается с выхода Бога, повествующего о творении и скорбящего о человеческих грехах. Шекспир сохранил монологи-пояснения не как дань архаическим формам, а как свидетельство преемственности.