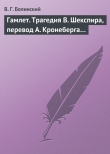Текст книги "Пророки и поэты"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
МАССА
Позвольте
Всю правду говорить – и постепенно
Прочищу я желудок грязный мира.
Шекспир
"И порицание народа и его восхваление так же нелепо, как порицание и восхваление урожая".
Ибо народ – это ВСЕ и тоже – УРОЖАЙ.
Но есть народ, состоящий из единиц, а есть другая сторона народа неразличимая масса. О ней, об этой стороне, – а у народа много сторон, речь. Мы так напреклонялись перед народом, что давно пора отдать должное этой далеко не последней его стороне-мраку, лежащему во мраке.
Одна из главных тем Шекспира – соотношение личности и массы, их взаимная ответственность, не только утверждение человека среди себе подобных, но и возможность самореализации – то, что М. Барг называл социальной ответственностью за судьбу индивида, за то, в какой мере условия позволяют человеку проявить свои "божественные потенции". Иными словами, Шекспир не просто противопоставил героя и массу, но и взаимообусловил героическое и массовое. Хотя Шекспир не знал массового общества и массового сознания, у него есть все заготовки для грядущего Киркегора.
Задолго до Киркегора упреждая бесовство массовости, отталкиваясь от мелких крестьянских бунтов и свойств городского плебса, Шекспир провидел причину разрушительности черни: свободу от культуры. В "Генрихе VI" мятежники убивают писца только за одну провинность – грамотность. Когда он на вопрос "бешеного" отвечает, что умеет читать и писать, возбужденная чернь вопит: "Он признался!" – и вешает его.
Шекспир знал духовное убожество черни и изобличал его – одна из причин неприязни стареющего Толстого к творцу "Кориолана" и "Генриха VI".
Масса у Шекспира шумна, безумна, слепа, дурно пахнет, охвачена жаждой разрушения. Слуги – либо рабы, либо ослы. Все они обезличены, вульгарны, нелепы. Вот их имена: Dull (тупица), Gostard (пустая башка), Hallow (мелкодонный). Lender (скупец), Fool (дурак).
...чернь к делам и к чести
Не более способна, чем верблюды,
Которых кормят при войсках за то,
Что тяжести всегда они таскают...
Показательно, что произносящий эти слова и пострадавший за народ Брут предается этим народом.
Хэзлит считал, что охлофобия Шекспира достигала макиавеллиевских масштабов: "Всякий, кто изучит Кориолана, избавит себя от труда читать "Размышления" Берка, "Права человека" Пейна и дебаты обеих палат со времен французской революции до наших дней".
С образами Калибана и Джека Кеда связана бунтарская разрушительность и безмозглость темных народных масс.
В восстании Кеда Шекспир изобразил поведение плебейского
демагога, комизм анархического угара массы со столь захватывающей
истинностью, как будто он был очевидцем некоторых событий нашего века,
хотя мы, не зная истории, думаем, что они не имели примера в прошлом.
Гервинус: "народное правление быстро погибает жертвою собственного неистовства и безумия".
Восстание Кеда, считал Ульрици, есть естественное следствие разрушения нравственных и религиозных основ общества.
Впервые в истории литературы Шекспир описал феномен массы: легковерие, изменчивость, разрушительность, зависимость, растерянность, непредсказуемость, спонтанность, безрассудство. Кед – непревзойденное изображение манипулирующего чернью фюрера-демагога, окруженного шутовскими фигурами "соратников", извлекающих выгоду из бедствий народа. Кед квинтэссенция предрассудков черни, типичный "мелкий бес", "каким он был во времена Шекспира, каков он сейчас и каким будет вечно".
Как только вождь мятежников приходит к власти. он становится
столь же высокомерным, как лорд самой голубой крови. Это похоже на
наши времена.
Кед – это беспощадно истинный портрет народного оратора,
профессионального агитатора, наполовину обманутого и полностью
обманывающего других, вождя бесцельной революции.
У нас никто не обратил внимание на сходство Кеда с вождями эпохи масс: то же причудливое смешение сочувствия к обездоленным и способности идти по трупам, справедливости и палачества, народности и деспотизма. Он объявляет о необходимости "свергать королей и принцев" и – становится вождем. Он уничтожает рыцарей и – производит в рыцари себя. Он обещает равенство и приказывает "пристукнуть" солдата, который назвал его "Джеком Кедом". Он страждет быть справедливым и – в пылу борьбы – приказывает беспощадно уничтожать всех...
Поль Дюпор в далеком 1828-м рассматривал смуту Кеда как пролог к якобинской диктатуре. Оказалось, сказанное Дюпором в куда большей мере приемлемо в отношении другой "великой" революции, обезглавившей третий по численности народ в мире.
Трудно выразить с большей энергией все то, что породила
революция, совершенная руками невежественной толпы, когда вчерашние
рабы сегодня сделались тиранами и подонки нации стали в ней накипью.
О том, что Калибан – народные низы, однозначно свидетельствует шекспировская характеристика, данная в диалоге Просперо и Ариэля: "Тот самый Калибан, тупой и темный, которого держу я для услуг". Ренан, следуя по стопам Шекспира, написал своего Калибан а, где герой свергает Просперо и становится правителем. Впрочем, эта идея присутствует ив Буре.
Калибан – Просперо: "Я этот остров получил по праву от матери моей, а ты меня ограбил".
Если допустить, что Просперо олицетворяет гармонию и гений
творческого разума, то Калибан, как известно, кончает тем, что ведет
на него одичавших пьянчуг, Стефано и Тринкуло.
Если Просперо – это человеческий разум, то Калибан – человеческая тупость и глупость, о которой говорится, что Бог был несправедлив, ограничив возможности человеческого ума и не ограничив пределов человеческой глупости.
Калибан – "гнусный раб, в пороках закосневший", "прирожденный дьявол", "порожденье тьмы". Он груб, зол, уродлив, похотлив, низок, ленив, невежествен, неспособен к ученью.
Презренный раб! Нет, ты доброту не желаешь усваивать, будучи
способным на все пороки. Из жалости я на себя взял труд тебя учить.
Невежественный, дикий, ты выразить не мог своих желаний и лишь мычал,
как зверь. Я научил тебя словам, дал знание вещей. Но не могло ученье
переделать твоей животной, низменной природы.
Эта фраза, произнесенная задолго до наступления эпохи Просвещения, была приговором утопиям "учителей человечества".
Нет, Калибана мне не приручить!
Он прирожденный дьявол, и напрасны
Мои труды и мягкость обращенья
Напрасно все! Становится с годами
Он лишь еще уродливей и злей.
Как и Кед, Калибан испытывает неукротимую ненависть к учености. Его не только нельзя приручить или обтесать – он сам готов укротить учителей (такая вот проницательность!).
Даже магическая власть Просперо над силами природы бессильна исправить Калибана – здесь действенна лишь сила, единственное средство, доступное его пониманию. До тех пор, пока темная масса не будет поднята до определенного уровня культуры, вместо демократии будет один лишь разгул насилия Кедов и Калибанов вот мысль, доступная Шекспиру, но так и не усвоенная саморазрушившимся посттоталитарным сознанием.
Об отношении Шекспира к плебсу свидетельствую и его "Кориолан", демофобию которого подчеркивал Брандес. Если у Макиавелли Сенат спасает Кориолана, подвергшегося нападению плебеев, для суда над ним, то у Потрясающего Копьем народные трибуны выписаны мелкими интриганами, а народ аморфной массой, способной идти за любым горлодером.
Решительный противник демократии, Кориолан спорит с сенаторами
аристократами, призывающими его склониться перед обычаем и ради того,
чтобы получить голоса плебса для избрания на должность консула,
просить об этом рядовых граждан. "Будет!" – предостерегающе и грозно
заявляет Кориолану трибун Сициний. Воинственный герой подхватывает это
словцо, чтобы приемом повтора подчеркнуть всю неприемлемость его для
аристократов:
"Будет!"
О добрый и почтенный, но безвольный
И непредусмотрительный сенат!
Как мог ты допустить, чтоб проходимцы,
Став трубным гласом черни, этой гидры,
Поток твоих решений, как запруда,
В болото направляли дерзким "Будет!"?
Коль власть у них, тогда, отцы, склонитесь
Пред ними головой недальновидной,
А если нет, то гибельную слабость
Пора отбросить. Если мудры вы,
То не уподобляйтесь недоумкам;
А если глупы, то сажайте их
С собою рядом на подушки ваши.
Вы с плебсом, видно, местом поменялись,
Раз голосом его в совете общем
Ваш голос заглушен. Избрала чернь
Сановников себе, как, скажем, этот,
Бросающий запанибрата "Будет!"
В лицо такому славному собранью,
Какого Греция не знала.
Наступит время,
Когда спадут замки с ворот сената
И станут вороны, в него ворвавшись,
Клевать орлов.
Когда сказано?..
Следуя духу Шекспира, Т. С. Элиот в своем "Кориолане" нарисовал гротескную толпу, застывшую в благочестивом экстазе: "возвести, что мне возвещать!". Эта фашистско-коммунистическая человекомасса прямо списана с шекспировского прототипа.
Но... плохо читали...
А вот Тургеневу "Кориолан" нравился именно по причине того, что "мусье Франсуа" "очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народе, о черни". Зато наши народники и наши социалисты...
ЭТИКА
Ошибается тот, кто приписывает театру Шекспира моральный
эффект.
Ницше
Хотя из драм и хроник Шекспира "можно составлять систему гражданского и хозяйственного благоразумия", вряд ли стоит видеть в художнике ритора, моралиста, наставника масс, призванного "пасти народы". Стареющий Толстой потому и не принимал собрата по перу, что не чувствовал в нем собрата по морали. Шекспир – куда больше обличитель, чем учитель. Художественность у него стоит выше моральности и благоразумия, как и должно быть в искусстве. Словами Лоренцо Шекспир восклицает:
О, к чертям
Всю философию! Она не может
Создать Джульетту, передвинуть город
Иль уничтожить этот приговор
Так что в ней пользы? Даром слов не тратить.
Шекспир гораздо ближе к Ницше, чем к Великому Пилигриму – не в отношении философии, в отношении правды. Шекспир упредил имморализм Мифотворца, но не как агитатор, а как констататор "правды короля Лира". Хотя в драмах Шекспира нарушение меры угрожает гибелью, страсть стоит выше рассудка – как в жизни... Его злодеи погибают не в результате божественного возмездия, а тонут в буре собственных страстей. Жизненность этики Шекспира и в другом – в неотделимости добра от зла: видимо, отсутствие "университетского ума" позволило ему видеть больше, чем понимать. Этическая система Шекспира – сама жизнь, а не кабинетное построение о ней. Драматургия Лебедя Эйвона – этика и философия жизни в образах.
Даже педантичный Гегель ценил в Шекспире именно отсутствие сухой назидательности и рассудочной сатиры. Правда, для него мир Шекспира был миром еще не организованного хаоса, игры человеческого своеволия и героики, не обремененной законом. Иными словами, он видел аморализм исключительно в историческом аспекте, как пройденный исторический этап. Современному искусству, поучал системотворец, нельзя следовать по стопам Шекспира: страсти и трагедии окончательно и бесповоротно уступили место закону и порядку. Бедный великий Гегель... А мы-то упрекаем в утопизме его учеников...
Шекспир был слишком хорошим балаганщиком, чтобы загонять нам проповедь в глотку, говорила М. Уэбстер. Скажу больше, Шекспир был слишком юродивым, чтобы впадать в пуританство. Моральная распущенность и моральный экстремизм – одно. Изабелла, Брут, Гамлет – свидетельства того, что фанатизм ведет к крови.
Шекспир знал краткость пути от добра до зла и в 119-м сонете прямо говорил о неисповедимых путях жизни:
Так я вернулся к счастью через зло
Богаче стать оно мне помогло.
Поэтому-то у Шекспира нет призывов бороться со злом, как нет и громких слов о "торжестве идеалов". Идеалы вообще обладают свойством "торжествовать" в руках некрофилов и идиотов. У жизнелюбивых и умных торжествуют не идеалы, а люди. Мы слишком хорошо научены тому, что идеалы всегда торжествуют за счет гибели людей.
Шекспир ощущал и передавал зло не как гуманист, а как наш современник, переживший не искусственный, а реальный культ мрака.
Мы говорим, что в этике Шекспира разуму отводится роль основной моральной силы. Откуда это? Где это сказано? У Шекспира человек – игралище страстей, а добро – не разум, а отсутствие зла. Я не знаю у Шекспира такого места, где человек продумывает доброе дело, а вот все зло у него тщательно продумано, спланировано, рассчитано. Именно разуму Шекспир отводит то место, где зарождается зло. А моральная сила Францисков Ассизских – не разум, а любовь, к Богу и к человеку. А любовь и расчет – субстанции трудно совмещаемые.
Категорически возражаю против "отвращения Шекспира к чувственному началу в человеке", скорее уж – к интеллектуальному. Шекспир в равной мере осуждает и Анджело, и Изабеллу, и скотство, и фанатизм.
ЯЗЫК
Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов
Шекспир
Шекспир воздействует живым словом... Нет наслаждения более
возвышенного и чистого, чем, закрыв глаза, слушать, как естественный и
верный голос не декламирует, а читает Шекспира. Так лучше всего
следить за суровыми нитями, из которых он ткет события. Правда, мы
создаем себе по очертаниям характеров известные образы, но о
сокровенном мы все же можем узнать лишь из последовательности слов и
речей; и здесь, как кажется, все действующие лица точно сговорились не
оставлять нас в неизвестности или в сомнении. В этом сговоре участвуют
герои и простые ратники, господа и рабы, короли и вестники; в этом
смысле второстепенные фигуры подчас проявляют себя даже деятельнее,
чем основные персонажи. Все, что веет в воздухе, когда совершаются
великие мировые события, все, что в страшные минуты таится в людских
сердцах, все, что боязливо замыкается и прячется в душе, здесь
выходит на свет свободно и непринужденно, мы узнаем правду жизни, сами
не зная, каким образом.
Мастер языка, чарующей красоты речи, Шекспир не страшится ни вульгаризмов, ни словесных изысков. Как заметил Виланд, язык, на котором Шекспир говорил, был тем языком, на котором он писал.
Ее корабль престолом лучезарным
Блистал на водах Кидна. Пламенела
Из кованого золота корма
А пурпурные были паруса
Напоены таким благоуханьем,
Что ветер, млея от любви, к ним льнул.
В лад пенью флейт, серебряные весла
Врезались в воду, что струилась вслед,
Влюбленная в прикосновенья эти.
Царицу же изобразить нет слов
Она прекраснее самой Венеры
Хотя и та прекраснее мечты,
Лежала под парчовым балдахином.
У ложа стоя, мальчики – красавцы,
Подобные смеющимся амурам,
Движеньем мерным пестрых опахал
Ей обвевали нежное лицо,
И оттого не мерк его румянец,
Но ярче разгорался...
Шекспир подмешивал свои шекспиризмы к обычному словарю в расчете
на вполне определенный эффект. Как капельно-жидкое тело можно или
уплотнить до твердого состояния, или превратить в газ, так и слова: их
можно уплотнять, конкретизировать или придавать им путем особой
звуковой возгонки легкость, воздушность.
Драйден:
Надеюсь, мне нет необходимости доказывать, что я не копировал
моего автора рабски; в последующие века слова и выражения неизбежно
изменяются; просто чудо, что его язык в значительной мере остался
таким чистым; и чудо, что тот, кто явился у нас родоначальником
драматической поэзии, не имея до себя никого, у кого он мог бы
поучиться, к тому же, как свидетельствует Бен Джонсон, даже без
образования, сумел силой своего духа (genius) достичь столь многого,
что забрал себе все похвалы, не оставив ничего тем, кто появились
после него.
Мачадо:
Необыкновенное богатство лексики, раскованность синтаксиса,
обилие косвенных, даже эллипсических выражений, в которых содержится
больше того, что говорится.
Известный лингвист М. Мюллер подсчитал, что если словарный запас Теккерея составлял 5000, Мильтона 7000 и Гюго 9000 слов, то Шекспир пользовался небывалым количеством – 20 000 – слов!
Слово Шекспира очень чувствительно к ситуации, настроению, характеру.
Важнейшую особенность стиля "Отелло" исследователи находят в том,
что возвышенная, плавная, музыкальная речь благородного мавра, после
того как Яго отравил его сознание ревностью, уступает место иному
словесному и образному строю. Речь Отелло становится отрывистой,
яростной. Возникают образы зверей, скотства, дикости. Но в финале,
когда герой сознает свою роковую ошибку и узнает, что Дездемона была
верна, его вера в любовь и человечность восстанавливается, а речь
снова обретает возвышенный и благородный характер.
Чувство слова – удивительное, неподражаемое! Не язык – словесная игра! Столь неисчерпаемого лингвистического богатства не знала последантовская европейская литература.
Каламбуры, игра ложной этимологией, эмблемы, перестановка слогов, изощренные метафоры, полисемия, обыгрываемая многозначность слова, квиблы, словесные игры, conceit, кончетти, эвфуистические параллели и антитезы, метонимия, симметрические междометия, синонимика, разнозвучия, средства уплотнения и разрежения лексики, семантическая гибкость слова, широта словаря...
Даже лучшие переводы не в состоянии передать это богатство.
Как Джойс в потоке сознания, так Шекспир в драмах не пользовался знаками препинания. Их расставили позже.
Как Джойс, Шекспир – ловец слов, искатель жемчугов слов, нанизыватель этих жемчугов в цепи и ожерелья, златокузнец отточенных фраз, искусный фехтовальщик, жонглер, эквилибрист фразами и словами. Благо, богатый полисемией и омонимией английский – прекрасная почва для квибблов, эвфемизмов, каламбуров, острот.
Читатель из трагедии, виттенбергский студент Гамлет, беседуя с
книгой, желчно ее попрекает: "Слова, слова, слова" (words, words,
words), что звучит почти как (world, world, world). Но писатель
комедий Шекспир очень любит слова, слова, слова. Сэр Фальстаф
старается отождествить хотя бы звуково "good words" (добрые слова) с
"good worts" (разросшаяся трава). И действительно, слова и словарь
великого комедиографа растут очень буйно. Костард, обращаясь к
маленькому пажу по имени Моль (мы уже с ним знакомы), говорит: "Этакое
какое-нибудь слово honorificabilitudinitatibus будет повыше тебя
ростом, малыш ("Напрасный труд любви", V, I). И временами кажется,
будто фразы действительно перерастают самих неутомимых комедийных
фразеров Шекспира. Периоды подвязываются к периодам, как лестница к
лестнице; гиперболы, раздуваясь, подобно глубоководным рыбам,
вытянутым на поверхность, готовы лопнуть; словесное бильбоке
подбрасывает и ловит омонимы; неутомимые квиббли и джоки сшибаются
лбами. Многих, и притом самых почтенных, критиков это приводило к
брюзжанию и попрекам. Так, даже терпеливейший Семьюэль Джонсон и тот
журил полуторастолетний прах Шекспира: "Игра словами для Шекспира то
же, что блуждающие огоньки для путника; они сбивают его с пути и
заводят в трясину... Игра в слова была для него роковой Клеопатрой,
ради которой он готов был забыть весь мир, ничуть при этом не жалея о
забытом".
Действительно, игра словами играет автором игры слов. Он увлечен
фразеологической пиротехникой. Потешные огни лексем, переливы гласных
и согласных, пафос восклицательных знаков и зигзаги периодов властвуют
над писателем.
Аллитерация, звуковые повторы всегда играли значительную роль в английской поэзии. До Шекспира к ней часто прибегали Чосер, Спенсер, Лили, Сидней с целью усиления интонационно-смысловой структуры стиха и экспрессивности поэтической речи. Но именно Шекспир научился ткать сложные и яркие узоры звуковых повторений, не только интересные сами по себе как формальные свидетельства поэтического мастерства, но служащие усилению поэтической выразительности и эмоционального воздействия на подсознание слушателя.
В поэтическом арсенале драматурга аллитерация играет такую
значительную роль именно потому, что она дает возможность в пределах
небольшой по размеру фразы, строки или стихотворения использовать
дополнительные средства выражения чувств, эмоций, настроения
гармонического звучания таким образом, что их сложный характер
воспринимается более рельефно, синтетически, как одно целое, и мы как
будто видим, слышим и чувствуем, о чем говорит поэт. В этом большое
художественное значение аллитерации в драматических произведениях
Шекспира.
Особенное чувство ритма и симметрии, своеобразного "перекликания"
слов достигается благодаря регулярной аллитерации, при которой
корреспондирующие звуки размещаются в интервалах с почти
математической точностью.
Интересным примером аллитерации в поэзии Шекспира является так
называемое кольцо, когда слова строки или фразы начинаются и
оканчиваются одинаковым звуком. Этим поэт создает впечатление
своеобразной звуковой "рамки" в оформлении стихотворения...
...особенно характерной чертой стиля Шекспира является поистине
калейдоскопическое разнообразие аллитерирующих звуков...
Мастер ритма и аритмии, Шекспир широко использует ритмический строй стиха для передачи настроения, порядка, хаоса, дисгармонии. Ритм и асимметрия становятся самостоятельными художественными приемами, входящими в художественный замысел, средствами визуализации внутреннего мира человека или структуры бытия.
Бог с вами! Я один теперь.
Какой злодей, какой я раб презренный!
Не диво ли: актер при тени страсти,
При вымысле пустом, был в состояньи
Своим мечтам всю душу покорить;
Его лицо от силы их бледнеет;
В глазах слеза дрожит, и млеет голос,
В чертах лица отчаянье и ужас,
И все из ничего – из-за Гекубы!
Что он Гекубе? что она ему?
Что плачет он о ней? О! Если б он,
Как я, владел призывом к страсти,
Что б сделал он? Он потопил бы сцену
В своих слезах и страшными словами
Народный слух бы поразил, преступных
В безумство бы поверг, невинных в ужас,
Незнающих привел бы он в смятенье,
Исторг бы силу из очей и слуха.
А я, презренный, малодушный раб,
Я дела чужд, в мечтаниях бесплодных
Боюсь за короля промолвить слово,
Над чьим венцом и жизнью драгоценной
Совершено проклятое злодейство.
Я трус? Кто назовет меня негодным?
Кто череп раскроит? Кто прикоснется.
До моего лица? Кто скажет мне: ты лжешь?
Кто оскорбит меня рукой иль словом?
А я обиду перенес бы. Да!
Я голубь мужеством; во мне нет желчи,
И мне обида не горька; иначе,
Уже давно раба гниющим трупом
Я воронов окрестных угостил бы.
Кровавый сластолюбец, лицемер!
Бесчувственный, продажный, подлый изверг!
Глупец, глупец! Куда как я отважен!
Сын милого, убитого отца,
На мщенье вызванный и небесами,
И тартаром, я расточаю сердце
В пустых словах, как красота за деньги;
Как женщина, весь изливаюсь в клятвах.
Нет, стыдно, стыдно! К делу, голова!
Гм! Слышал я, не раз преступным душу
Так глубоко искусство поражало,
Когда они глядели на актеров,
Что признавалися они в злодействах.
Убийство немо, но оно порою
Таинственно, но внятно говорит.
Пусть кое-что пред дядею представят
Подобное отцовскому убийству:
Я буду взор его следить, я испытаю
Всю глубину его душевной раны.
Смутился он – тогда свой путь я знаю.
Дух мог быть сатана; лукавый властен
Принять заманчивый, прекрасный образ.
Я слаб и предан грусти, может статься,
Он, сильный над скорбящею душой,
Влечет меня на вечную погибель.
Мне нужно основание потверже.
Злодею зеркалом пусть будет представленье
И совесть скажется и выдаст преступленье.
Мысль Шекспира движется совершенно иначе, чем у Бена Джонсона или
Бомонта и Флетчера. Они видят предложение или смысловой отрывок весь
целиком и затем целиком же облекают его в материальную форму. Шекспир
приступает к творчеству, извлекая "в" из "а", а "с" из "в" и т.д.,
наподобие того, как движется змея, превращающая свое тело в рычаг и
как бы все время скручивая и раскручивая собственную силу... У
Шекспира одно предложение естественно порождает другое, полностью
вплетая в него смысл.
Движение смысла, "змеинообразно" передающегося от предложения к
предложению, достигается
у Шекспира семантической гибкостью поэтического слова. Текст, разбитый на определенные матрицы драматургической речи, сочленяется также и в единства, диктуемые поэтикой словесных лейтмотивов.
Стилю Шекспира присуща афористичность. Его можно почти полностью "разобрать" на "крылатые фразы". Их – тысячи и тысячи... Всего лишь несколько примеров:
И милосердье изгнано враждою.
Зло – в добре, добро – во зле.
Сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным.
Нет ничего хорошего или плохого, это только размышление делает
его таким.
Мы в каменной тюрьме переживем все лжеученья, всех великих мира,
все смены их, прилив их и отлив.
...беда уму стать жертвой и игрушкой безрассудства. Тупая мысль
как притупленный меч.
Мир – сцена, где у каждого есть роль.
Весь мир – театр.
Любовь слепа и нас лишает глаз.
Из ничего не выйдет ничего...
СИМВОЛЫ
В поисках жанра и стиля Шекспира перебраны все мыслимые и немыслимые возможности. "Вершина" нашей шекспировской мысли: пьеса как "органичный сплав эпоса, лирики и драмы". "Эпическая масштабность действия сочетается с возвышенной лирикой, и все это проникнуто подлинным драматизмом". Все это схоластика, словесная эквилибристика, картотечный зуд. Шекспиры неразложимы по полкам, они сами себе направления и жанры. В мировой литературе есть такой жанр-Данте, и есть такой жанр-Шекспир, и есть такой жанр-гений. Вся культура делится на два жанра: первопроходцев и фонящих. Набитые книгами библиотеки – это фон, шум, гам для 100 имен-жанров. Это не значит, что фон излишен – без фона нет пиков, как без Гималаев нет Джомолунгмы. Временами в экстремистском раже мне хочется освободить 99% читающих от ущербного чтива. И лишь остыв, начинаешь понимать утопичность такой затеи, ибо, освободи эти 99% от печатного дерьма, они вообще перестанут читать – кроме глаз еще необходимы мозги...
Уолтер Уайтер еще в XVIII веке обнаружил, что в соответствие с учением Локка об ассоциации идей в любой пьесе Шекспира имеются повторяющиеся образы. Обрабатываемая тема вызывала в воображении поэта картины и символы, вновь и вновь повторяющиеся на протяжении пьесы в форме сравнений или метафор.
Кэролайн Сперджен выяснила определяющую роль словесных лейтмотивов в раскрытии образного содержания во всей его сложности. Выполняя в драматургии Шекспира множество функций, лейтмотив "составляет второй план сценического действия, его подводное течение".
Поэтика слияния образного строя поэтической речи с
драматургической структурой складывалась у Шекспира постепенно. В
ранних его пьесах "бархат фраз", "парча гипербол" и "пышные сравнения"
часто являются лишь украшением речи, а "мгновенные и сразу понятные
озарения" (Б. Л. Пастернак) метафорики его языка еще не стали
ассоциативными опорами в развитии сюжета. Но уже в хрониках начинается
процесс внедрения поэтической речи в сценическое действие. Он
осуществляется при помощи системы словесных лейтмотивов.
"Для удобства языка не всегда нужно, чтобы слова обладали точным
смыслом. Неясность тоже может оказать услугу. Она – как форма с пустой
сердцевиной: каждый может заполнить ее по собственному желанию".
Именно это свойство языковой системы – несоответствие между формой и
содержанием языковых единиц, приводящее к семантическим отношениям,
непосредственно не отраженным в звучании слов, например к полисемии,
кладется в основу речевой актуализации шекспировских словесных
лейтмотивов.
Толстой был прав, считая, что живые люди не могут говорить, как король Лир, но, видимо, он недостаточно перечитывал... Толстого...
Не следует снижать гения до внешнего правдоподобия, следует искать глубину образов, шифры, развернутые метафоры, ключи. Новая критика (Р. Вейман, Т. С. Элиот, У. Найт.Ф. Фергюсон, Л. Ч. Найтс, М. Чарни) интерпретирует образную систему Шекспира как поэтическое видение жизни. Поэтические образы позволяют, минуя анализ характеров и действия, проникнуть под покров драматических событий и постичь глубинную суть происходящего. Важно не внешнее правдоподобие, а метафорическая подоплека. Ключи к Шекспиру – его амбивалентные символы, сплетенные в удивительные узоры, составляющие эзотерический рисунок его драм.
В пьесах Шекспира действуют не персонажи, а идеи, символы, значения. Сами пьесы – символичны. Скажем, "Макбет" – картина абсолютного зла. Характеры и события вторичны по отношению к образной символике пьесы, разворачивающей страшное зрелище душевного ада, воцарившегося в мире.
Мир полон неясности, все персонажи в смятении, спрашивают,
удивляются. Читателя тоже охватывает сомнение, ибо действие лишено
логики. Пьесу окутывает мрак, и в этом мире сомнений и тьмы рождаются
странные и страшные существа...
Бетелл считал, что символизм и стремление к универсальности позволили Шекспиру пренебречь мелочами и деталями психологической обоснованности образов.
Поэзия – это символика. Постичь ее – значит расшифровать напластования символов, обнаружить ту силу, которая приводит в движение, обрекает на вечную жизнь, определяет особый дух и атмосферу творений искусства. За действительностью, событиями, образами, аллегориями великое творение таит свою символическую тайну. Символ – глубина истины, великая правда человеческого опыта, мистический знак божества.
Образная система Шекспира предвосхитила поэтику модернизма: в каждой пьесе – неповторимый образный мир, подчеркивающий тему произведения: в "Гамлете" – навязчивые картины болезни, язв, гниения, разложения, смерти, в "Макбете" – вариации образов крови, ночи, жестокости, злодейства, в "Ромео и Джульетте" – образы света, в "Короле Лире" – повторяющиеся образы человеческих мучений, боли, борьбы, бури в степи, в "Ричарде II" – сад, земля, earth-land-ground, в "Сне в летнюю ночь" – сельская природа, в "Венецианском купце" – стрела, в "Буре" – искупительное испытание, возмездие, воскрешение из мертвых, в "Зимней сказке" и "Перикле" – тайна рождения, развитие, созревание, непрерывность истории...
В "Отелло" кроме символов добра и зла, ангела (Дездемона) и дьявола (Яго) – скрытая сквозная метафора сада.
В саду своей души Отелло сломил благоухающую прекрасную розу
любви к Дездемоне и дал прорасти чертополоху. Зрители эпохи Шекспира
без комментариев и разъяснений воспринимали эти символы. Символическое
мышление, наследие средневековья, было развито в то время гораздо
больше, чем у наших современников, которым к тому же, по словам Д. С.
Лихачева, недостает философского и теологического образования.
Этот настойчиво повторяемый мотив суда, воплощенный в
инфернальных образах мистерии, определяет и сюжетно-композиционный
строй трагедии, включающий как точки наивысшего напряжения сцены суда:
суд венецианского сената над Отелло, якобы соблазнившим Дездемону, а
также три суда в финальной сцене: неправый суд Отелло над Дездемоной,
суд Отелло над самим собой и, наконец, суд – возмездие над Яго.
Злодеи Шекспира – театральные символы, заимствованные из христианской этики, дьяволы во плоти, бесы, но не наивные черти, а изощренные мастера своего дьявольского дела, достойные дети Сатаны.