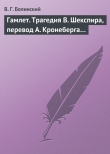Текст книги "Пророки и поэты"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
С аллегорическим путешествием души у Розенкрейца перекликается в
"Венецианском купце" эпизод с тремя ларцами: какой путь избрать
легкий, приятный, цель которого богатство, власть, почет, или трудный,
но зато прямой путь к Богу? Порция сумела доказать, что логика – дело
Ада, а человеческий ум обманчив. Песня, которую поют Лоренцо и
Джессика, имеет что-то общее с католической литургией. Антонио,
живущий только ради идеальной до степени мистицизма дружбы, своим
скорбным ликом напоминает Христа. В "Цимбелине" скрыт шифр
"гностического Христа".
И повсюду у Шекспира аллегории, притчи, символы, как в Священном
Писании; повсюду в его драмах горести, беды и испытания, чтобы достичь
неба и разгадать, что представляет собой "condition humanie"
человеческое существование.
"Зимняя сказка" – типичный религиозный миф с теологическим смыслом. Д. Г. Джеймс считал, что здесь Шекспир пытался найти выражение своему мистическому чувству, не прибегая к явным христианским аллюзиям. Тем не менее рассказ об искуплении Леонтом своего греха выдержан в христианских тонах, Гермиона постоянно ассоциируется с идеей божественной благодати, а сцена ее возвращения к Леонту насыщена христианской фразеологией.
В пьесах Шекспира много мистики, сверхъестественных сил, духов, призраков, ведьм. Отношения человека е потусторонним были для него не только художественным средством, но и "второй реальностью".
Средневековость Шекспира не в выисканных намеках на оккультные доктрины и учения средневековых мистиков Экхарта, Рюинсбрука или Таулера, не в розенкрейцеровом Братстве, не в сошедших с его страниц алхимиках, астрологах и иллюминатах – Средневековость Шекспира в его "дантизме", в опоре на христианскую эзотерию, в его этическом комплексе целомудренной любви как отражении небесной чистоты, в его поэтической мощи и космической широте, в его средневековой цельности и единстве.
Но как совместимы Средневековье и модернизм Шекспира? Самым непосредственным образом – как будущее, вырастающее из прошлого, как модернизм средневекового Данте, как гениальность, впитывающая прошлую культуру для ее трансформации в грядущую.
Естественно, Шекспир не просто средневековый человек, он – великий синтезатор. Средневековье, Ренессанс, барокко, маньеризм сплавлены в нем воедино в ренессансный модернизм с его диссонансами и парадоксами, контрастами, противоречиями, буффонадой, глубинным реализмом и фарсом, живой фантазией и холодной механикой, игрой и серьезностью, масками безумия и шутовством, абсурдом и рассудительностью, многочисленными формами самообретения и самоутраты.
Мы любим разглагольствовать о позднеренессансном Шекспире, о кризисе Ренессанса, о трагическом Ренессансе, о страшных ударах, нанесенных гуманизму, трагическом гуманизме Шекспира, окрашенном в оптимистические тона, и о прочей галиматье. Но Шекспир никогда не принадлежал какому-либо направлению – он принадлежал только Шекспиру.
Если хотите, Шекспир – не ренессансный художник, а противовес Ренессансу, и противовес, не столько преодолевший его (Дойчбайн), сколько противостоящий ему изначально. Шекспир не пересматривал гуманистическое мировоззрение, а был человеком шекспировского мировоззрения, согласно которому гармония между "я" и миром невозможна, земной мир – хаос, бессмыслица, история – игрище страстей, и лишь божественность упорядочивает мир, одновременно превращая человека в агнца, человечество – в Божье стадо. Шекспир – это не крах гуманистического взгляда на мир, а мир краха и праха, отличный от Дантового лишь пониманием того, во что превращает человека послушание Небу.
СИНТЕЗ ИЕРУСАЛИМА И АФИН
Культура иерархична – во все времена она простирается между пещерностью и музыкой небес. Каждый ищет себе нишу. Скажи мне, какую культуру ты выбираешь, и я скажу, кто ты. Наши всегда выбирали разумное, вечное гильотину французской революции, моральные сюсюканья аморального Руссо, "самое передовое учение". Примитив тяготеет к примитиву. Ему подавай строй, плац и сермяжное слово. Слово ему вполне может заменить – жизнь... Проследив исторические корни зарождающейся культуры, нетрудно предсказать, какой она станет. Наши корни – Спарта, Утопия, Стоя, Ренессанс, Просвещение, рационализм. Черты – пафос, ходульность, претенциозность, примитивное морализаторство. Короче – целомудрие, рождающее изуверство.
...У нас была страшно бедная и скудная философская антропология.
Она изначально была задана тем, что наши мыслители предпочитали
пользоваться до– статочно простым срезом философии ренессансного
гуманизма, европейского Просвещения и позитивистов XIX века. Этот
узкий срез общемировой философии как-то удивительно удачно внедрился в
русские головы, и даже отдельные вкрапления метафизики или мистики не
поколебали незыблемость основ. Коротко это можно сформулировать как
старую базаровскую позицию: человек здоров, обстоятельства больны, и
для всеобщего счастья нужно их вылечить. Это наш фундамент, наша база.
Многие явления русской культуры просто под нее подверстывались. Наши
философские представления были просто железобетонными – казалось, они
выработаны для того, чтобы существовать вечно.
И новое наше христианство тоже построено на позитивизме – лишь с
добавлением религиозных красок, которые замешаны на традиционном
русском гиперморализме, – страшной, самой по себе, вещи. Когда ты
слишком моралистичен, становишься, наоборот, недостаточно моральным. В
свое время Талейран замечательно сказал, что любое преувеличение ведет
к недостаточности. Потому, видимо, и в новом христианстве больше
морализма, чем религии. Это тоже связано со стремлением выковать
нового человека: надо как бы облучить ближнего своего новым
мировоззрением – чуть ли не в буквальном медицинском смысле, как
больного некоей общественной болезнью, – и тогда он действительно
переродится. Но моралисты забывают: от облучения могут выпасть волосы,
зубы, и тогда опять получится какой-то урод.
Я полагаю, что фанатичное следование идеалам по природе своей патологично. Наука учит, что лица с подавленными сексуальными импульсами всегда громче других бьют тревогу по поводу безнравственности людей. Еще шире: в мученичестве есть нечто от мучительства, и из мучеников получаются отличные палачи. Вся наша история – яркое свидетельство опасности свободы, исходящей от рабов. Это уже знал Шекспир. От его прозорливости не могло ускользнуть противоестественное соединение скромности и неистовой одержимости, идеала и фальши, святости и беспощадности.
Уродства мира он объяснял не социальным несовершенством, а злокозненностью людей: "кулак нам – совесть и закон нам – меч". Единственная пьеса, где активно не зло, а добро – "Буря", но и здесь присутствует Калибан. Впрочем, и активность добра Шекспир расценил вполне реалистично: как подавление страсти, стоицизм, мудрость избранников. Просперо – символ человеческого духа, освобожденного от зла плоти.
В шекспировских драмах раз за разом появляются обреченные, со щемящей болью выражающие тему гибели в испорченном, полном зла мире беззащитной правды и беспомощной чистоты. Шекспировский Тимон вовсе не мизантроп, а полный горечи гневный обличитель человека и царящего на земле зла и насилия.
Задолго до Лоуренса, Генри Миллера и Джойса Шекспир ратовал против всяких культов невинности, чистоты и самопожертвования вместо пылкого удовлетворения страсти. Разница между Западом и Востоком – это разница между Шекспиром, поющим человеческую естественность, и Толстым, бросающим Анну под поезд.
Давно подмечено, что о гуманизме чаще всего разглагольствуют жестокие люди. Коммунизм – гуманизм беспощадных. Потому-то ему и не потребовались милосердие и терпимость, что "реальными гуманистами" были Ленины и Сталины.
Естественно, все мы – гуманисты. И исключительно из гуманистических побуждений сажали, стреляли и жгли. Еще и сегодня реалистам-гуманистам кажется, что недостреляли. Долго придется разбираться в наследственности нашего гуманизма от не имеющего к нам ни малейшего отношения гуманизма Возрождения, давшего миру действительно великолепную культуру, но, видимо, там наличествовало нечто такое, что привело к нам.
Нам сегодня приходится признать, что как раз гуманизм-то очень
часто антигуманистичен. Не надо увлекаться, осторожно! Слишком большая
вера в человека может привести к уничтожению жизни на Земле. Но, с
другой стороны, нельзя это представлять примитивно: только
антигуманистическая тенденция подлинно моралистична. Нет. Когда
разочарование в человеке так глубоко, что не веришь в возможность
что-то изменить, – это уже беспросветный аморализм... И все-таки,
лучше относиться к человеку плохо: если проявятся в нем какие-то
светлые качества, то хотя бы порадоваться можно будет – что за милый
сюрприз.
Да и в целом европейская философия XX века, которую наши апостолы
или не знают, или не хотят знать, вся – недоверчива по отношению к
человеку, вся под знаком – "осторожно, люди!". В том плане
"осторожно", что раз люди, то можно и взорваться...
На Западе не спасают человека – там лучше его знают и потому
меньше от него ждут. Поэтому западная культура работает с гораздо
более умеренными величинами.
Гуманистичны не восторги перед величием Земного Бога – гуманистична правда о нем, средневековая правда о человеке-сосуде зла и добра. Нет, в Средневековье не говорили, что человек-мешок дерьма. Это поклеп на Средневековье. Учители церкви считали его звеном между небом и адом. Богом и зверем. Я потому и предпочитаю философскую антропологию "Улисса" философской антропологии закаленной стали, что у Джойса – вся полнота человеческого, а у Островского человек-штык. И в Шекспире ценю не "певца человечности, победоносно выступающего против всего, что враждебно подлинной жизни", а певца жизни...
И еще: не нужно спасать человека и человечество. Неужели нам мало опыта "спасателей"? Если уж и надо кого спасать, то не человека, а от человека, еще более – от "спасителя" и "благодетеля". А человек, если он опыт Бога, таков, каким он и должен быть, даже если опыт неудачный...
Исторический опыт, который не учит дураков, учит умных остерегаться громких слов. Все самые большие мерзости начинались с освобождения и спасения. Никто больше Гитлера не любил немецкий народ, никто больше Ленина не желал счастья русскому. Вот почему я всегда – не только сегодня – бежал гуманистов, патриотов, поборников разума и борцов за счастье на земле.
Шекспир велик не ренессансным гуманизмом, даже не "глубоко шекспировской этикой любви, близкой к евангельскому учению и к современной психологии". Шекспир велик демонстрацией пустоты фарисейской праведности, фальшивой святости и сочувствием природному человеку. После сказанного легко понять реплику Бернарда Шоу, брошенную им почти век назад:
Мир не терпит, когда о нем размышляют те, кому известно, что он
собой представляет.
Собирая осколки уничтоженной нами для себя культуры, я не хотел бы сам быть записанным в погромщики.
Да, я недолюбливаю культуры, так или иначе способствовавшие возникновению Единственно Верного Учения. Но только за это. Мне претит вычленение из человеческой культуры ее частей, тем более их противопоставление. Но слишком свежи раны... Они саднят... А боль – плохое подспорье, прости меня, читатель...
Состояние боли не способствует объективности. Но кому она нужна, эта объективность?! Да и какая может быть объективность, если сознание всех нас десятилетиями утюжилось танковыми гусеницами тоталитаризма. Так что не ждите здесь свободы Гарена – довольствуйтесь Гариным, пытавшимся от гусениц увернуться...
"Непроницаемый барьер отделяет Ренессанс от Средневековья" – это ведь тоже следы гусениц. На самом деле коренных различий двух культур не было! Ренессансная парадигма естественным образом вытекала из средневековой, гуманизм носил явный христианский и церковный характер, а светской эту культуру можно назвать лишь постольку, поскольку она утратила монастырский и монашеский характер. Но ведь Данте и Джотто тоже не были клириками.
Ренессанс – это позднее Средневековье, разве что ускорившее свой ход. Светский характер Возрождения – наша ложь о нем, гуманизм – дитя христианской этики, христианской эстетики, христианской традиции, христианского видения мира. Ренессанс прорастал из христианского мистицизма и эсхатологии, коренясь в глубокой вере в "вечный отблеск божества". Конечно, если религиозные смуты представлять классовыми боями, нетрудно узреть в Ренессансе отрицание не только религии, но и монархии, феодализма и всей многовековой культуры человечества, р-р-р-революционную ломку в духе военных путчей современности. Но не было ломки, не было! Был медленный рост, было усиление человеческого мотива, был, наконец, возврат к Риму. Но эта обращенность к античности – не более чем расширение культуры и поиск ее корней.
В "Истории гуманизма" нахожу: несмотря на всю склонность к античности, нет ни одной фразы гуманиста, которая оскорбила бы правоверность, по крайней мере до Фичино и Пико, которые за свою ересь были сразу же осуждены. Религия Ренессанса – синтез христианства и античности, считал Николаи. Да и сам Ренессанс, в конечном итоге, отрекся от себя "ради любви божественной, раскинувшей руки на кресте, дабы принять нас в свое лоно".
Мышление гуманистов Возрождения было синкретично, рационализм и наука соседствовали в нем с авторитетом Библии, тезисы Священного Писания подтверждались идеями античных схолархов. Гуманисты не отвергали христианство ради античности, но согласовывали их – черта, все более утрачиваемая XVII-м и последующими веками.
От Средневековья же ренессансный гуманизм унаследовал созерцательность, мистичность, призывы к умеренности, благочестие. То, что мы называем уступками Средневековью, было естественной компонентой мировоззрения Валлы и Альберти, Петрарки и Фичино, и отрывать это от них – значит разрушать структуру их мышления.
Нечто не возникает из ничто: "чудо" Возрождения – естественный продукт "темных веков". Поэзия вагантов, труверов и трубадуров подготовила Данте и Петрарку, Дате и Петрарка – поэзию XV-XVI веков. Роман Розы, направленный против невежества, лицемерия и деспотизма, был прелюдией к Ланселоту, Тристану и Лису. В соборах отправляли не только церковные службы, но устраивали представления и маскарады. Лирика Рютбефа вела к Вийону. Бурная интеллектуальная жизнь XV и XVI веков лишь была следствием взрыва, именуемого Фома Аквинский, Данте или Джотто. За Петраркой, мадоннами Рафаэля, архитектоникой Палладия, за поэзией Попа и собором Св. Павла скрывается Возрождение христианское, плодами которого были Шартрский собор, легенда о короле Артуре, философия Аквината и житие св. Франциска. Именно поэтому Возрождение и дало высокие образцы религиозной поэзии, нашедшие отдаленный отблеск в трагедиях Шекспира или "Мудрости" Верлена.
В Возрождении, в недрах сознания его гениев полноценно жили "пережитки" той греховности человека, против которых они восстали. Любовь в своем исступлении, писал Леонардо, настолько безобразна, что человеческая раса погибла бы, la natura si perderebbe, если бы те, которые занимаются ею, могли узреть себя. Это – не фраза, это – искреннее презрение, подтвержденное множеством рисунков, этих действительно шокирующих копий полового акта, свидетельствующих не только о христианском отвращении к человеку-животному, но и о механицизме, в котором чувства, идеалы, красота выступают лишь как условия раздражения определенного мускула.
Ренессанс был подготовлен и выпестован широкими кругами средневековых интеллектуалов, деятелей "свободных искусств", теологов, рыцарей, поэтов, хронистов. Тысячи и тысячи профессоров и студентов независимых университетских корпораций, философствующих монахов, вагантов, шсюрионов, юристов, врачей, схоластоввот та почва, на которой взрастало новое мышление и грядущая интеллигенция, включавшая в себя государя Лоренцо Медичи, цехового мастера Боттичелли, университетского профессора Полициано, графа Пико делла Мирандола, клирика Эрмолао Барбаро, издателя Альдо Мануцио.
Происхождением своим Возрождение обязано меценатству Медичи и папскому трону и называется даже "Медицейским". Глава церкви не просто покровительствовал гуманистам, но постоянно стремился превратить итальянское Возрождение в придворное духовное движение, о чем свидетельствует знаменитая книга Кастильоне и почетные должности Лоренцо Баллы и других гуманистов при папском дворе. Леонардо Бруни был папским секретарем, Верджерио – канцлером Падуи при синьорах Каррара, Бонинконтри – наемником Сфорцы и придворным астрологом. Что их объединяло? Чем они отличались от интеллигентов Средневековья? Расширением цеховых и сословных границ? Небывалым ростом человеческих связей? Подчеркиванием личностности и индивидуализма? Да, но в куда большей мере – культурой, свободой, аристократизмом.
Творение Медичи и нескольких избранных умов, sapients, Возрождение сознательно отворачивалось от толпы, черни, плебса. Гуманисты связывали элитарность со знанием античности: те, кто изучал антику, автоматически оказывался лучшей частью человечества независимо от сословия, к которому принадлежал, остальные автоматически отбрасывались в разряд vulgus, plebs, multitude.
Modus vivendi гуманизма: избранность, но открытость. Хотя гуманисты считали, что интеллектуальная элита престижна, почетна и обращена ко всем, но также и одобряема всеми, флорентийский народ взирал на нее с равнодушием или же недовольством, как во все времена народ относился к исключительности и избранности.
Элитарность ренессансного гуманизма состояла в герметизме и эзотеризме "Гептаплуса" Пико делла Мирандола, в "темных" текстах Фичино и его афоризме "Божественные вещи непозволительно открывать черни", в латинском языке книг, в недостижимых глубинах Данте и Босха.
Но не только! Вспомним ренессансное искусство с его поразительными "вольностями". Языческое изображение человека, напряженность и гармония, свобода толкования "святых образов", пиршественное богатство плоти, мощь и многообразие изобразительных средств...
Но не только! Разве не Возрождение с его жизнеутверждающим индивидуалистическим началом имело в своем итоге Штирнера и Ницше?
Я смотрю на то, справедливо ли это для меня, вне меня нет права.
Если это справедливо для меня, то это справедливо вообще.
И если бы что-нибудь было несправедливо по отношению ко всему
миру, а по отношению ко мне справедливо, то я хотел бы этого, то я не
считался бы с миром. Так делает всякий, кто ценит себя; всякий,
поскольку он – эгоист, ибо власть идет впереди права, – и с "полным
правом".
Позже Бердяев, имея в виду эволюцию "единственного", скажет: "От безграничности и безудержности индивидуализма индивидуальность погибает. Мы видим действительный результат всего гуманистического процесса истории: гуманизм переходит в антигуманизм".
Единственное, что существенно отличает Возрождение от Средневековья, это ницшеанство Ренессанса – передача части прерогатив Бога в руки человека. Фрэнсис Бэкон сформулировал это афоризмом: "Человек – мастер своей судьбы". Суть человеческой природы, считал ренессансный человек Яго, в себялюбии, в получении пользы лишь для себя.
Ведь совесть слово, созданное трусом, чтоб сильных напугать и
остеречь. Кулак нам – совесть, и наше право – меч...
Это – результат Ренессанса. Так кончилась фетишизация личности, как позже – обожествление массы...
Возрождение – это мост: мост между плюрализмом и экстремизмом. Синкретизм здесь еще соседствует с утопическими представлениями, множественность человека с его достоинством. Человек, говорил Петрарка, слишком бренное и слишком высокомерное животное, слишком высоко возводящий постройку на хрупких основаниях. Августин здесь еще соседствовал с Сократом, а не изгонялся из человековедения. Подлинная жизнь моральна, поучали гуманисты, но человек зол... Человек здесь все еще расположен между землей и небом. Дьяволом и Богом.
Ренессанс – культура перехода, мост, связующее звено, прорастание зерен, завершение.
Ренессанс "как таковой" – лишь неповторимая возможность диалога;
все конкретно-определенное в сфере его мысли и творчества, собственно,
неренессансно, будь то христианство, "словесность", платонизм,
герметизм, аверроизм. Все это, взятое в отдельности, принадлежит
прошлому или будущему. Собственная содержательность эпохи негативна,
как Бог у Дионисия Ареопагита и Пико делла Мирандоллы. Ренессансна
только встреча неренессансных культур в индивиде, свободном по
отношению к каждой из них.
Синтезом здесь становится тот самый индивид, в котором культуры
сталкиваются.
Одной идеи терпимости в поисках истины, высказанной Валлой в сочинении "О наслаждении", вполне достаточно, дабы забыть все проявления нетерпимости деятелей кватроченто. Но идея идеей, а была ли эта культура действительно полифоничной? Была! И вот тому свидетельство Бруни:
Ибо хотя я и думаю, что нет доводов, которые опровергли бы меня,
но я жажду быть опровергнутым, дабы смягчить мою душевную муку и
недуг.
Истина, признанная победительницей, всего лишь лучшая, но не единственная. Одного этого довольно, чтобы считать эту культуру великой.
Без открытости и терпимости, без того ощущения неисчерпаемого
плюрализма истины, которое так хорошо и сознательно воплотилось в
пиковском "мире философов", гуманистический диалог как дружеский спор
разных культурных позиций был бы немыслим, во всяком случае в XV в.
Ludum serium сразу превратилось бы в столкновение лбами. Тогда запахло
бы теми кострами, на которых савонароловские "плаксы" сжигали
ренессансные картины и книги, или тем костром, на котором впоследствии
сожгли самого Савонаролу.
Мы связываем ренессансный гуманизм со свободой, но он ближе к суровому аскетизму монашества. Когда Поджо Браччолини описывает Никколо Никколи баденские нравы, это пишет клирик, а не артист. Баденские купальни и красотки для флорентийца – иной мир, иная планета.
Ренессансный гуманизм – головной. К нему восходят все те
абстрактные виды гуманизма, для которых филология важнее
одного-единственного человека, "слезинки ребеночка". Это гуманизм
торжественно-серьезный, полностью поглощенный великими вещами.
Возрождение – "серьезная игра", ритуал, стиль жизни. Дух Ренессанса очень далек от легкомыслия, говорил Хейзинга. – Жизненная игра в подражание античности велась со священной серьезностью.
Гуманизм мифологичен, но за его сценой прячется живая жизнь. Такова Венера Боттичелли: сакральность и природность, божественность и женственность, небо и плоть. Постепенно миф и игровая культура отступят под напором цивилизации, но XIV-XV века – игра, игра детей, повзрослевших детей. Ренессанс – конец детства.
Ренессанс и эстетизм – синонимы. Гуманизм – ранний эстетизм. Ритуалы общения, жизненные установки, образ жизни – это ранние отзвуки Шопенгауэра или Уайльда, в наивном или высокопарном варианте.
Вообще же Ренессанс эклектичен. Он взял гораздо больше, чем дал. Возможно, это самая непроизводительная из культур.
Ренессанс в такой же мере позднее Средневековье, в какой – раннее Просвещение; в этом его плюсы и его минусы.
Раннее христианство, гностики, мистики, отцы церкви возвышали истину души, деятели Возрождения – внешние истины. Типичным выразителем эпохи являлся Марсилио Фичино, в котором бедность осознанных идей компенсируется богатством творческой фантазии. Ренессансный гуманизм – конец искренности и начало лжи.
Мы полагаем, что мышление однородно, то есть однотипно, то есть конформно. Но мышление дифференцировано, иерархично, персонально. Каждая эпоха имеет свою парадигму, свой тип мышления, свое видение мира, свое содержание. Античное мышление мифологично, ренессансное – эстетично и филологично. Мышление подвижно, текуче, изменчиво. Как в воду, в него нельзя ступить дважды. Мы уже никогда не сможем мыслить, как Сократ. В этом ценность, богатство и многообразие мышления. Сумма культур – сумма мышлений.
Понять Ренессанс – значит понять его мышление: стиль, структуру, содержание, язык – не то, что думали гуманисты, но – как. Самое трудное в понимании иных культур – постижение образа мышления.
Они бранили средневековых философов, особенно схоластических
"реалистов". Но так как они сами ставили знание слов выше знания
вещей, то вся их философия не поднималась выше словесности,
вербализма, который представлял не более, как вырождение
схоластического номинализма, но схоластики были, по крайней мере,
строго логичны, а гуманисты "перескакивали Von Buch zu Buch, von Blatt
zu Blatt".
Разве не гуманисты отбросили живой язык ради мертвого языка древности? Разве не они снисходительно относились к величайшему перлу культуры, "Божественной Комедии"?
Возрождение – это возрождение античной aviditas litterarum, жажды и жадности словесности, stupor et extasis scientiae, восторженной поглощенности наукой, интеллектуальной неистовости. Стиль был важнее нравов, слово шло впереди мысли. Отсюда – средневековые ссоры из-за слов и толкований. Эпоха языка и памяти... Слово, риторика, красноречие давали все – вплоть до папского престола. Это было не столько производство знания, сколько его поглощение. Гуманисты очень много брали и не очень щедро отдавали. Они действительно возрождали, а не рождали. Они много учились, ценили время, были усердны и жаждали мудрости, но во всем этом и за всем этим скрывалась тень монастыря.
Ренессанс – это культура слова, ставшею синонимом культуры. Помимо добродетели, писал Кастильоне, истинное и главное украшение души каждого человека составляет словесность. Я знаю только двух богов: Христа и словесность, вторил ему Э. Барбаро. Ренессанс – это филологичная форма мышления, не столько заимствовавшая материал из опошленной схоластами современности, сколько черпающая его из древности.
Отмежевываясь от схоластики, ренессансная мысль широко пользовалась ее приемами, а полемика Пико делла Мирандола и Эрмолао Барбаро о соотношении истины и красноречия, философии и риторики – типичный схоластический диспут двух монахов. Филологическая форма ренессансного стиля мышления обрекала его на измельчание и вырождение, которое заметно уже в конце XV века.
Ольшки считал, что элоквенция и эрудиция, предметы гордости гуманистов, – просто исторический балласт, мешавший подготовке строгого и дисциплинированного мышления. Книжность и искусственность этой культуры общеизвестны. Даже если гражданский гуманизм кватроченто не сводится к чистейшей "цицероновской риторике", дидактика и риторство – ее важнейшие составные элементы. Ренессанс не знает разноголосия – в лучшем случае диалог. Верджерио – исключение. Защита Пико схоластики – не только литературный прием или ирония, но очень важный символ, не понятый до сих пор.
Впрочем, не будем упрощать. Возрождение – не только гуманизм Фичино, Полициано и Пико делла Мирандола с их "бесконечной истиной и добротой", но иМакиавелли, утверждавший, что люди по природе своекорыстны, жадны, трусливы и жестоки, что порядок – это насилие, способное обуздать хаос, но и – Боден с его исторической правдой, но и – Босх с его символической правдой о человеке и мире.
Развитие европейского общества не оправдало надежд гуманистов.
Вторая фаза развития ренессансной философии состояла в самокритике,
признании нереальности надежд, в стремлении преодолеть иллюзии, хотя
бы и благородные, в намерении утвердить трезвый взгляд на реальность.
И не только вторая. Умозрительная ренессансная вера в Человека и в неограниченные возможности его самоусовершенствования разрушалась in statu nascendi, в момент возникновения – религиозными и гражданскими войнами, тираниями, насилием, зломыслием, беспощадностью человека. "Разлагается все: государство, общество, семья, отдельный человек".
Мы связываем инквизицию со Средневековьем, но инквизиция-это Возрождение, эпоха кровавых казней и бесчеловечных пыток, эпидемий, нищеты, дикости, грязи, мракобесия.
Гуманистические иллюзии шли рука об руку с трагическим мироощущением: Босх, Брейгель, Ронсар, Донн, Гонгора, Крешоу, Торквато Тассо – с ощущением неустойчивости бытия, его катастрофичности, гибельности, апокалиптичности.
Моя Селальба, мне примнился ад:
вскипали тучи, ветры бушевали,
свои основы башни целовали,
и недра извергали алый смрад.
Душевные страдания, преследующий человека рок, дисгармония, внутреннее напряжение, трагическое чувство одиночества, разрыв цельности бытия – вот доминирующее ощущение постренессансной барочной эпохи, главным отличием которой по сравнению со Средневековьем является утрата цельности, противоречивость, расчлененность – и бытия, и внутреннего мира человека. Как писал А. Хаузер, отныне критерием психологической достоверности стало отсутствие цельности и полноты, чувство несоответствия, утрата моральных ориентиров и отсутствие новых критериев поведения.
Трактат Поджо Браччолини "Об алчности" – великолепный пример беспристрастности ренессансного человековедения. Гуманисты не скрывали человеческих слабостей, им это было ни к чему, они еще не строили утопий.
Нет, Ренессанс – отнюдь не безусловный оптимизм и безоглядная жизнерадостность. Ведь Плеяда – тоже Ренессанс, возможно, высшая его точка, а у Ронсара и Дю Белле – не только откровенное следование Маруллу и Катуллу, не только шалости любви, но – протяжный стон...
А мне зима, а мне сума,
И волчий вой сведет с ума.
Я – тот, что отстает от стада.
Глухой Ронсар, доживший до старости и полностью испивший сосуды прижизненной славы и испепеляющих поношений; рано ушедший Дю Белле, создавший новую поэтику; первый авангардист Жодель, предвосхитивший разрыв с действительностью Жана Жене и мрачный безутешный пессимизм искусства абсурда; схожее с религиозным экстазом поэтическое безумие вышедшей из коллежа Кокре Бригады: Ронсар, Дю Белле, Жодель, Баиф, Белло, Дора, Пелетье, Денизо, Лаперюз, Мюре, Дезотель, Тиар...
Впрочем, Плеяда – условная универсалия. Общность эстетики и мировидения вовсе не означала стилистической, тематической или иной унификации объединенных ею поэтов. Само понятие индивидуальности (la personnalite, specifique, caracteristique) было впервые осознано как первостепенное для искусства. Отсюда замена принципа "индивидуальное невыразимо" на "только индивидуальное есть поэтическое". Вообще единство поэтов – литературный миф, ибо поэт – лишь тот, кто дерзновенно неповторим. Хотя после экспериментов Парнаса Мореас призывал к возврату к Ронсару, Плеяде и греколатинскому принципу Машо и Вийона, в поэзии нет возвратов, как у Плеяды не было следования древним, как не было уплощения жизни до примитивов оптимизма и пессимизма.