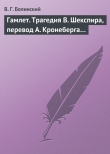Текст книги "Пророки и поэты"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
На репетициях за столом мы постоянно возвращались мысленно к
Беккету. Мир, окружающий Лира, так же как и мир в пьесах Беккета,
постоянно грозит распасться. Декорациями у нас служили листы металла
различной геометрической формы, порыжелые, изъеденные ржавчиной...
Кроме этой ржавчины... на сцене нет ничего – одно только пустое
пространство: огромные белые задники, открывающие пустоту панорамы.
Это не столько Шекспир в стиле Беккета, сколько Беккет в стиле
Шекспира: в беспощадном "Короле Лире" Брук видит ключ к пониманию
мрачной оголенности пьес Беккета.
И сам Питер Брук, поставивший "Годо", признавал, что замысел его "Короля Лира" родился под влиянием Беккета. Атмосфера этого спектакля мрачный мир театра абсурда.
Если рассматривать "Короля Лира" в свете предложенной Коттом
концепции гротеска, то удовольствие, получаемое нами от пьесы, тоже
будет определяться тем, что мы узнаем неизменные условия нашего бытия
в нелепом, шутовском поведении людей перед лицом чего-то безмолвного,
каковым является отсутствие Бога.
Ян Котт приводит слова слепого Глостера, опустившегося на колени
– как он думает – глубокой пропасти:
O боги!
Я самовольно покидаю жизнь,
Бросаю бремя горестей без спросу.
Когда б я дольше мог снести тоску
Без тяжбы с вашей непреложной волей,
Я б дал светильне жизни догореть
В свой час самой.
Эти слова Котт комментирует следующим образом:
"Самоубийство Глостера имеет смысл только в том случае, если боги
существуют. Это протест против незаслуженных мучений и против царящей
в мире несправедливости. Ясно, что этот протест к кому-то обращен и не
чужд апокалиптического мироощущения. Как бы ни были жестоки боги, они
должны принять во внимание этот акт самоубийства. Он зачтется при
последнем подведении счетов между богами и людьми. Самоубийство
Глостера обретает значимость только при соотнесении его с абсолютным.
Но если нет богов, нет миропорядка, основанного на нравственности
(Достоевский!), то самоубийство Глостера ничто не меняет и ничто не
решает". Поэтому Шекспир заставляет Глостера после патетического
обращения к несуществующим богам упасть, подобно клоуну, плашмя, лицом
вниз, на голые доски сцены. Самоубийство не удается. "Вся эта
пантомима гротескна и абсурдна. Но ведь гротескна и абсурдна от начала
до конца вся ситуация. Это не что иное, как ожидание Годо, который не
приходит".
Падение Глостера на доски сцены, напоминающее падение клоуна на
арене цирка, вызывает реакцию, которая, будучи воспринята сквозь
призму представления об отсутствии некогда сущего бога, и есть, по
словам Котта, последнее прибежище метафизики... в предлагаемой Коттом
интерпретации сохраняется трансцендентность метафизического начала.
Эта интерпретация требует от нас, чтобы мы исходили из того, что сцена
у Шекспира, так же как и у Беккета, представляет человечество в
окружающей его "инакосущности" (если можно воспользоваться выражением,
употребленным Стейнером в его книге "Гибель трагедии") и что для
получения удовольствия от подобного сценического изображения нашего
бытия мы должны сознательно отказаться от того, чтобы в этой
"инакосущности" видеть совокупность слившихся в массе личностей,
которые и творят историю.
И Шекспир, и Беккет воспринимали жизнь как гротеск, абсурд, бессмыслицу, катастрофу. Место Бога у Беккета заняли "плоды разума" безликие и враждебные человеку механизмы, та западня, которую человек устроил себе сам и в которую сам попал. Извечная бессмыслица бытия – вот что делает Шекспира нашим современником, писал Котт.
Конфликт между двумя взглядами на историю, между трагическим и
гротескным восприятием жизни – это в то же время присущий самой жизни
конфликт между надеждой на разрешение противоречия, существующего
между действиями и духовными ценностями и отсутствием такой надежды.
Этот извечный конфликт приобретает особенно жестокий характер в
периоды общественного распада. Ведь именно в эти периоды, утверждает
Котт, утрачивается вера в осмысленность бытия – вера в Бога, вера в
моральные категории добра и зла, вера в значимость истории: в
результате исчезает и трагическое мировосприятие. Отсюда проистекает
сходство между Шекспиром и Беккетом: в творчестве обоих преобладает
восприятие жизни как чего-то гротескного, абсурдного. Как в
шекспировском "Короле Лире", так и в "Конце игры" Беккета мир
современности распадается – и мир Ренессанса, и наш собственный мир.
Искусство – окно в жизнь, следовательно, правда, сколь бы горькой она ни была. Еще оно – глубина жизни, ее недра, снятые покровы, обнаженные нервы, шоковые состояния. В конце концов самые болевые тексты – не фарсы абсурда, а материалы Нюрнбергского процесса, документальные рассказы Шаламова, Разгона, Гинзбург, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, "Тучка" Приставкина, "Одлян" Габышева, "Стройбат" Каледина, публицистика наших дней... Ну, а театр абсурда – это лишь фарс, гротеск, издевательская ирония, сатира, антиидеологический сарказм. Ионеско потому и испытывал неприязнь к Брехту, что считал последнего создателем откровенно идеологического театра.
Фарс – основная драматическая форма драматургии абсурда, призванная оттенить трагичность содержания. Ионеско так и говорил: "Комизм с наибольшей полнотой выражает абсурдность и безнадежную безысходность мира".
Здесь все гипертрофировано до гротеска, до чудовищных масштабов. Все выворочено наизнанку и снова-таки многократно увеличено – дабы слепой узрел и бесчувственный содрогнулся. В отличие от традиций черного романа, исследующего конкретные проявления человеческой патологии, драма абсурда сосредоточена на истоках, причинах, сущностях – метафизике абсурда.
Далее – субъективизм, ибо субъективизм общечеловечен. Мы говорим: пристрастие – дурной советчик, они говорят: личность делает письменность произведением искусства, моя позиция превращает меня в художника или в диктатора. Ничто в мире столь не объективно, как человеческий субъективизм!
– Зачем нужен абсурд?
– Затем, что не – абсурд, то есть идеология, пропаганда, "великое учение", кончают тем, что образуют силы угнетения, против которых художник должен бороться.
Драма абсурда – не идеологический, а магический театр, созданный фантазией художника. Только художник, не связанный никакими догматическими системами, реализующий свои глубинные чувствования, верования, фантазии, открывает "безумные" истины – тем более подлинные, чем вымышленнее кажутся они с первого взгляда.
Произведение искусства представляет ценность благодаря силе
своего вымысла, ибо оно есть вымысел прежде всего, оно есть
конструкция воображения.
Только изобретая мир, мы его открываем.
Нет, это не человеконенавистническое искусство, это пристальное исследование природы человеконенавистничества. Если следовать логике вчерашней нашей критики, то тогда и медицина есть членовредительство – ведь приходится-таки отпиливать гангренозные конечности. Здесь же – еще сложней: речь идет об обнажении нервов, чистке язв, шоковой терапии, трепанации даже не черепа – человеческого духа.
Нет, абсурд – не капитуляция духа, не роковой шаг искусства. Абсурд глубинная сущность бытия, философски осмысленная экзистенциализмом, неслыханный скандал разума, затмевающий скандалы Шекспира, Флобера, Толстого, Ибсена, Гамсуна, Джойса, трагедия познания жизни, крушение человека, уже не связанного "истинной верой".
Вся человеческая культура была предостережением, предсказанием, пророчеством века мировых войн и континентального холокоста. И вдруг скважины, разрабатываемые Паскалем, Киркегором, Шопенгауэром, Достоевским, Кафкой, зафонтанировали, разлившись широкой рекой: страх, боль, отчаяние мощным потоком влились в искусство.
Ярость, отчаяние, нарастающая безысходность, паралич настоящего и грядущего, неустроенность бытия, ложь, обман, фанатизм, злоба, ненависть, варварство, насилие, постоянное чувство тревоги, боязнь ответственности, бегство от свободы, безальтернативность, опустошенность, душевная усталость, беззащитность, бессмысленность борьбы, обреченность бунта, бесплодность усилия, отсутствие святынь, тотальная виновность, равнодушие, одиночество, растерянность и разобщенность, взаимная ненависть, жуткое шутовство "прекрасного нового мира", бессмыслица хоровода паяцев, безумие цивилизации и прогресса, необъятность человеческого подполья – таковы темы Жарри, Витрака, Беккета, Ионеско, Арто, Адамова, Жене, Симпсона, Пинтера (Дэвида Бэррона), Олби, Копита, Гавела, Грасса, Вайса, Хильдерсхаймера, Аррабаля, Базатти, Борхеса, Хершельмана, Сесиль Арио, Франсуазы Саган, Элен Пармелен, Русселя, Кокто, Толлера, Барта, Хандке. Керуака, Джексона, Макдональдса, Вольпони, Музиля, Шницлера, Альтенберга, Верфеля, Броха, Рота, Захера-Мазоха, Крееля, Осборна, Уэскера, Уильямса, Болта. Пауэлла, Оле, Хеллера, Додерера, Жироду, Ануя, Камю, Салакру.
Драма абсурда становилась всечеловеческой и внешциональной. Трагические догадки, смертельные озарения; отдельные печальные мотивы, пронизывающие культуру, утратили отрывочность, частность, эпизодичность и обратились в мировоззрение, парадигму эпохи. Мы должны быть осторожны – всюду расставлены злые стальные капканы – предостерегал Осборн. Жизнь грязнит все, зло побеждает, счастье непостижимо, прошлое непреодолимо, любовь поругана, мученичество бесплодно – диктует своими образами Ануй. Человеческие существа не могут жить в мире чистого разума. Отсюда наша безысходная неудовлетворенность. Нет подлинно приемлемого мира, заключал Болт. Экстремистский, фанатичный, бессмысленный мир выворачивался наизнанку, дабы все узрели его самые мрачные закоулки: выворачивался не только в драме или романе, но в поэзии (Гофмансталь, Рильке, Газенклевер, Голль, Паунд, Элиот, Бонфуа, Тзара, Р. Шар, Мишо, Хьюз, Гоццано, Кораццино, Говони), в музыке (Малер, Стравинский, Шенберг, Веберн, Берг, Ксенакис, Лигети, Шнитке, Штокхаузен, Булез, Кагель,. Шнебель, Варез, Кейдж), в живописи (Пикассо, Беклин, Клее, Брак, Дали, Танги, Миро, Мунк, Мейднер, Бекман, Энсор), кинематографе (Бунюэль, Бергман, Феллини, Антониони, Коппола, Кубрик).
Всю жизнь моей навязчивой идеей была боль, которую я писал бессчетно, признавался Дали. Пикассо всю жизнь терзался человеческой бесчеловечностью: "Герника" и "Похищение сабиянок" – символы попрания себе подобных, уничтожения женщин и детей на фоне великолепного залитого солнцем ландшафта и греческого храма, высоко вознесшегося над схваткой монументом тщеты культуры. А "Умершая мать" Мунка? А "Семь смертных грехов" и "Пляска смерти" Кубина?.. А...
А "Ожидание" Шенберга? – "Земля – область юдоли, а не увеселительный трактир"... А музыкальные парафразы боли "Девятой симфонии" Малера? "Земная жизнь" – драматическая притча о страданиях мира: о гибнущем ребенке, молящем о хлебе. "Траурный марш" в манере Калло – музыкальная стихия лжи и лицемерия, почти свифтовская пародия на маскарад жизни. Экзистенциальная философия Второй симфонии c-moll Малера всецело посвящена проблеме ценности человеческой жизни: "Почему ты жил? почему ты страдал? неужели все это только огромная страшная шутка?" Затем – после крушения и ломки – "Девятая симфония" с ее кантатой скорби – "Застольной песнью о горестях земли"... Исступленная тема валторн, трагическая экспрессия деревянных духовых и арфы...
В "Симфонии псалмов" Стравинского сломленный катастрофами человек отказывается от себя самого, отдаваясь на волю космосу. А в "Похождениях повесы" даже стилистика полностью отвечает канонам драматургии абсурда.
В кинематографе тему боли разрабатывали философские притчи Бергмана, апокалиптические фильмы Бунюэля, годаровские "Карабинеры" и "Уик-энд", "Blow up" Антониони, "Гибель богов" Висконти... "Боль не обязательно должна быть символом, она может быть поиском формы", – писал Бергман.
Просто такое впечатление, будто все вокруг портится, становится
страшнее. Портится погода, портятся люди, страшнее становятся машины,
страшнее войны. Все то, что не имеет названия, расползается по миру, и
остановить это не удается.
Темы Бергмана – в названиях его фильмов: "Жажда", "Молчание", "Стыд"... "Приговор? – Обычный – одиночество"...
Одиночество-преступление и одиночество-наказание. Тот, кто отказался разделить чужие страдания, – преступник и жертва одновременно. Ведь что такое одиночество? Почти что смерть, нет, хуже смерти! Не фатальная неизбежность, а дорога, которую выбирают.
Темы фильмов классиков пост-Освенцима вполне естественны: пляска абсурда, плоды человеческого фанатизма, растление человека-массы, массовые расстрелы, гомосексуальные оргии штурмовиков Рема, насилие, насилие, насилие...
Главная мысль "Стыда" – трансформация добропорядочных людей в фашистов, нацистская компонента личности каждого... Эстер и Анна в "Молчании" символы бездуховности, безмолвия беспробудно спящего духа, блуждания человека из пустоты в пустоту.
Бунюэлевская благородная Веридиана не в силах справедливостью и добротой сдержать разнузданную стихию. Новые йеху насилуют новую святую, но, в отличие от героинь античных трагедий, она не умирает, а идет в услужение скотству – такова истина новой действительности.
Гозенпуды говорят: драма абсурда – асоциальна, алогична, антиреалистична. Зло ("Голод и нищета", "Балкон", "В ожидании Годо") асоциально? Беззаконие государства и закона ("Пешком по воздуху", "Профессор Таранн", "День рождения") нереалистичны? Несбыточность мечты ("Сторож", "Убийца по призванию") алогична? Человеческое бессилие и унижение ("Все против всех", "Большие и малые маневры", "Горничные"), невозможность счастья, умирание любви, рост взаимного отчуждения и непонимания людей ("Вторжение", "Сторож", "Амадей"), порабощение человека машиной, чрезмерность вещей, шозизм ("Пинг-понг", "Новый жилец"), демагогия вождей ("Убийца по призванию"), бессмысленность слов и речей ("Стулья") асоциально, алогично, нереалистично?
Да, в драме абсурда никто не способен понять никого. да, здесь каждый говорит на своем языке и непроницаем для другого. Да, герои слепы и глухи и не желают ни услышать, ни прозреть. Да, каждый и все живут ненормально. Потому что это иной – иррациональный, подсознательный, катакомбный, подпольный мир. Потому что искусство – не упрощение и не лакировка жизни, а осознание ее сложности, парадоксальности, хаотичности. Потому что драма это снятие покровов, обнажение все более глубоких слоев души, постижение первозданных начал. Свобода выбора, высота духа, мораль, красота, разум-все это в век торжества тоталитаризма, насилия и концлагерей стало поверхностным слоем, шкурой, шелухой, ширмой, прикрытием. Сущностью же оказалось зверство, растерзание, растаптывание, уничтожение человеческого.
Даже язык драм абсурда бесчеловечен: бессвязный монолог не слышащих друг друга марионеток, осколочный праязык первобытных подсознательных кличей и воплей – без логики, без оценок, без оттенков, без смысла, без ответа... Так мычат идиоты, пьяницы и вожди.
Владимир. Они все говорят сразу.
Эстрагон. Каждый про себя.
Это язык-маска. Невыразимое способен выразить лишь язык метафизический, язык, лежащий по ту сторону логики и ходульных слов.
Сделать метафизику из членораздельного языка – это заставить язык
выражать то, что обычно он не выражает; это значит пользоваться им
по-новому, исключительным и непривычным образом; это значит придать
ему силу физического потрясения.
Язык-заклинание. Слова-интонации, только их и обозначающие. Драматург-манипулятор словами, которые парализуют.
Это язык не коммуникации, а разобщения, отчуждения, окостенения. Мертвая, нечленораздельная речь, льющаяся потоком, – хочешь театр абсурда, хочешь телешоу наших съездов. Последние и выглядят как пьесы абсурда, с той разницей, что наши Поццы, Хаммы и Кловы вещают не из гробов, а из гербовых залов.
Нет, даже языковое сравнение не в нашу пользу: за мычанием Суховых деградация, пустота, раздавленные мозги, за внешней бессвязностью речи Владимира и Эстрагона – предельная выразительность слова и жеста; за тотальным обезличиванием – яркая индивидуализация персонажей-марионеток; за кажущимся безмыслием – многозначность нутряного мира.
Затемненность, неоднозначность, неопределенность символов – всего лишь слепок реальности в ее последних глубинах. Даже бессвязность – тот срез глубинного бытия, где царит хаос.
Важнейшая черта искусства – преемственность, наследование, обогащение. Это относится и к его содержанию, и к его форме. Развитие литературы от сократического диалога и мениппеи к полифоническому роману-мифу шло по пути все большей плюрализации человека и непрерывного обновления форм. Беккетовские пьесы – лишь вариации на античные темы. На драматургии Ионеско сказалось влияние тибетской Книги мертвых, Упанишад, древнеиндийских религиозно-философских систем, греческих трагиков, обериутов. Сама драматургия абсурда стала возможной потому, что уже были Аристофан и Лукиан, Рабле и Свифт, Мольер и Шекспир, Гамсун и Метерлинк, Джойс и Кафка. Все, о чем хотели сказать Ионеско и Беккет, в другое время и другими словами сказано историками, философами и поэтами. Как некогда А. Бретон усмотрел в "Песнях Мальдорора" "кипение порождающей плазмы", растопившей старый мир для того, чтобы из этого огня возник новый, в творчестве Беккета изображен синтезированный культурой коллапс, угрожающий человечеству, если оно не найдет в себе силы побороть абсурдность собственного бытия, блестяще выраженную Беккетом в романе "Меллон умирает":
Право же, это не имеет никакого значения – был ли я рожден или
нет, жил или не жил, мертв или еще только умираю. Я буду продолжать
делать все то, что делал всегда, не зная при этом, что именно делаю,
кто я таков, где нахожусь и существую ли вообще.
Искусство веками имело дело не с людьми, а с мифами, масками, символами человека, если хотите, – с вымыслами о нем. Даже ироничный Аристофан и желчный Свифт идеализировали человека, даже Шекспир ограничивался внешними проявлениями человеческой природы...
Нет, человек не сводим к абсурду или злу, но жизнь слишком безумна для того, чтобы пренебрегать негативами бытия и непредсказуемостью человеческих толп. Драматургия абсурда продолжила традиции черного романа, трагедии ужасов, ярким представителем которой был Джон Уэбстер ("Белый дьявол", "Трагедия герцогини Мальфи"), в еще большей степени унаследовала мироощущение творца "Возроптавшего улья" и гениального автора "Эликсира дьявола".
Так же как Замятин упредил Оруэлла, так и первая пьеса абсурда была написана там, где она и должна была быть написанной, – в России, и тогда, когда было самое время писать ее, – после революции. Я имею в виду Елизавету Бам Даниила Хармса. А разве дикие выходки обериутов не были предчувствием грядущего абсурда жизни, а Хлебников, Введенский и тот же Хармс не пророчествовали о жестокости, прологом которой была "великая" революция?
Даже новые формы драм абсурда рождались из безумия мира: апокалипсиса революций и войн, концентрационных лагерей, газовых камер, массовых злодеяний, геноцида, садизма, дьявольского лицемерия и лжи. Конечно, мир не исчерпывался абсурдом и не сводился к нему, но l'homme traque – такая же реальность, как homo sapiens, а палачи – как жертвы, в свою очередь слишком легко становящиеся палачами.
Свифтовские времена рождали Свифтов, наши – Беккетов и Ионеско. Ибо, как говаривал господин Беренже, когда жизнь становится страшным кошмаром, даже если внешне вполне респектабельна, литература должна быть более жестокой и ужасной, чем жизнь. Ибо слишком хорошо известно, что случается, когда носороги уже стадами вытаптывают землю, и все поражены эпидемией риносерита, а литераторы при этом не вопят от боли, а поют осанну этим тупым животным и их вожакам...
Состоялся бы Беккет, не служи он секретарем у Джойса? Был бы Гавел без Чапека и Мирослава Крлежи? Впрочем, последний упредил и самого Ионеско, продемонстрировав разлагающее воздействие диктатуры на души людей. Был бы театр абсурда без языкового изобретательства, деформации слова, жестокого каламбура Жарри. Жарри писал для марионеток – отсюда условность, надреальность, шок. Был бы театр абсурда, не существуй рядом театр жестокости, театр невозможного, потрясающего, очищающего потрясенностью. То, что здесь именуется болью, Арто именовал жестокостью, неистовым потрясением всего организма, соборным катарсисом, коллективной истерией.
Возвращая драму к истокам театра, то есть к иррациональной сути бытия и подсознательным импульсам человека, Арто добивался экстатических состояний, физического ощущения пустоты бытия, непосредственного постижения мифологем философии существования: "через кожу мы введем метафизическое в мозг". Людям не нужна видимость жизни, они жаждут проникнуть в ее суть:
Правдивое изображение снов, в которых их тяга к преступлению,
навязчивые эротические мысли, варварство, химеры, утопический смысл
жизни и вещей, даже их каннибализм прорываются не в виде иллюзий и
предложений, а в их внутренней сути.
Гениальность как форма безумия; безумие как адекватная реакция на наш мир...
Драма абсурда – естественный следующий шаг модернистского искусства: от изображения вещей – к символам эйдосов, идей. Джойс и Пиранделло подготовили его эстетически, Ортега-и-Гассет философски – мифологемой искусства как внутренней эмиграции. Честь открытия этого искусства в области драматургии принадлежит автору "Шести персонажей"... – первой драмы идей в буквальном смысле слова. Здесь роли действительно стали символами, знаками, обозначениями, персонажи исчезли – их заменили образы, извлеченные из сокровенных пещер сознания, со дна человеческих бездн. Как в древних сакральных текстах, Годо ничего не объясняет (deutet), а только обозначает (bedeutet), ибо в мифе все беспричинно и вневременно.
У Кафки боль – начало всех отношений, но даже здесь она не тождественна беспросветности. У идущих за ним тема "с миром что-то случилось" непрерывно усиливается, и на смену гомеопатии приходит шоковая терапия "так жить нельзя"...
Пиранделло, Джойс, Кафка лишь начали порывать с эстетикой реализма, Беккет полностью отказался от нее. С него начинается эстетика символа-знака, голой сущности, сигнала, чистой информации, абстракции. Это – экстракт, крутая пятая эссенция Рабле, ее трудно потреблять в неразбавленном виде.
Психологизма больше нет, как нет и индивидуальности. Вместо него остается лишь голый итог идеологического воздействия – манкурт со вставными мозгами. То, что для Фрейда было промежуточной истиной, для Беккета стало истиной конечной: своеобразия больше нет, есть бездушные автоматические объективные идеи – персонажи драм абсурда.
Все пути ведут нас к одному и тому же феномену: бегству от человеческой личности к ее эйдосу, к ее чистой идее. От изображения вещей художник переходит к изображению идей.
Сам Беккет формулировал задачу своего искусства следующим образом:
Материал, с которым я работаю, – бессилие, незнание. Я веду
разведку в той зоне существования, которую художники всегда оставляли
в стороне, как нечто, заведомо несовместимое с искусством.
Нашим искусствоведам в штатском хотелось бы представить Беккета как измельчавшего Джойса или выродившегося Кафку, как некогда сгоряча сказал Вигорелли. А он – равный им колосс, "самый глубокомысленный писатель", "единственный, кто решается прямо смотреть в лицо наиболее важным проблемам современности".
Когда открываешь для себя Беккета, никак нельзя отрицать силы
получаемого впечатления, не смею сказать – обогащения, потому что речь
идет об осознании абсолютной нищеты, которое он нам дает. Нищеты,
нашего единственного достояния и богатства. Неисчерпаемой,
ослепительной нищеты.
Некогда доктор философии Серенус Цейтблом говорил о шедевре Леверкюна, который звучит как плач Бога над почившим своим миром, как горестное восклицание Творца: "Я этого не хотел!"
Здесь, думается мне, достигнуты предельные акценты печали,
последнее отчаяние отождествилось со своим выражением, и... я не хочу
этого говорить, боясь оскорбить несообщительную замкнутость,
неизлечимую боль творения Леверкюна разговором о том, что до последней
своей ноты оно несет с собой другое утешение, не то, что человеку дано
"поведать, что он страждет. Нет, суровая музыкальная поэма до конца не
допускает такого утешения или просветления! Но, с другой стороны,
разве же парадоксу искусства не соответствует религиозный парадокс
(когда из глубочайшего нечестия, пусть только как едва слышимый
вопрос, пробивается росток надежды)? Это уже надежда по ту сторону
безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство надежды, а
чудо, которое превыше веры.
Великая в своей безысходности боль трагедий Беккета, питаемая высшим вдохновением, есть этот плач Бога, плач по человечеству, плач, неспособный ни облегчить его бесконечные муки, ни придать им смысл.
Беккет – это и есть развернутое предостережение леверкюновского черта, а его вопль отчаяния – крик отъединенного, отчужденного, одинокого человека, утратившего связи с миром. Но не цинизм отчаяния и не самоглумление одиночки, как интерпретируют доктора с лампасами, а демонстрация того, во что способно обратить нормального человека ненормальное общество.
Шоки непонятного, которые восполняют художественную технику в
эпоху утраты ею смысла, претерпевают превращение. Они освещают
бессмысленный мир. Ему приносит себя в жертву новая музыка. Всю тьму и
вину мира она принимает в себя. Все ее счастье в том, чтобы познать
несчастье; вся ее красота в том, чтобы отказаться от видимости
прекрасного. Никто не имеет с ней ничего общего – индивиды так же
мало, как и коллективы. Она затихает никем не услышанная, без эхо.
Такова, кстати, музыка Холлигера к беккетовскому "Come and Go".
В творчестве Беккета, как ранее у Белого, Джойса, Музиля, сама сущность выступает против своего существования, заявляя ему решительный протест. Чистое, идеальное "я" есть антипод личности, как время – антипод вечности. Это – и высшее торжество и гибель, ибо овладеть собой – значит себя уничтожить. Максимум сознания – конец света, считал Валери.
Мир Беккета – оцепенение и автоматизм. Почти все его герои неподвижны. "Они всегда в одном месте, месте их страданий".
Мир его героев замкнут не символическими цилиндрами или урнами, в которых они обитают, а одномерностью духа человека-массы. Беккету удалось атомизировать толпу и показать, что все ее свойства присущи каждому атому в отдельности. Его герои и есть конформистские атомы-символы, элементы абсурда.
Нет, не драма абсурда, а крик устами своей раны, боль бытия, шекспириана эпохи прогресса и "больших скачков".
Нет, не писатели отравляют жизнь – они ее уже находят отравленной, писал Г. Белль. Беккет ничего не придумывал – подводил итоги увиденному.
"В ожидании Годо" – драма символов, миф об упадке, о тщете бытия, о вырождении, об опасности и бессмысленности действия в эпоху восторжествовавшего прогресса: "Не будем ничего делать. Это безопаснее". Мир одномерного человека примитивен и убог, его ценности абсурдны, сам он безумец. Налицо оцепенение и автоматизм, либо жестокий энтузиазм разрушения – две крайности убожества.
Да, действительно, значительную часть отпущенного нам времени мы
сидим и ждем; но это происходит отнюдь не в метафизическом мраке, где
прячутся "они". "Они" борются против нас, а мы боремся с "ними". По
отношению к другим мы сами – это и есть "они".
На смену залитым солнечным светом подмосткам шекспировских
времен, окруженным со всех сторон тесным кольцом зрителей, на смену
тем насыщенным энергией столкновения характеров, которые ясно и
наглядно вскрывали главные пружины действия, пришла мрачная и темная
сцена, на которой царит бездействие, и на которую взирают и которую
подчиняют себе силы, незримо присутствующие за кулисами, а публика
стала "болотом" – так называет ее беккетовский Владимир, подходя к
рампе и глядя в зрительный зал.
Когда ожидают Годо, то подразумевается, что он может прийти.
Ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм,
способный волновать сердца только в случае, если тот, кто скорбит об
отсутствии Бога, убежден, что некогда Бог существовал, только в
случае, если бессмысленность религии воспринимается как утрата того,
что было в прошлом реальностью.
"В ожидании Годо" – это пьеса, отрицающая историю. В отличие от
"Короля Лира" у нее нет определенного места действия. Сразу же по
окончании спектакля эту пьесу можно показать опять и повторять сколько
угодно раз подряд: ведь нет никакой разницы между ее началом и концом.
Постановка "Годо" П. Холлом в 1955-м вызвала бурю шекспировской мощи. Симптоматично, что затем последовала постановка "Троила и Крессиды": Шекспира по Беккету...
...во внешнем облике спектакля, подчеркивающем пыльность,
пустынность жизни, в этом песке, который впитывает кровь воинов,
гибнущих из-за бессмысленной распри, то есть абсурдно, неразумно, – в
этом "пустом пространстве" чувствуется родство с абсурдистской
драматургией... И идея смерти, олицетворенной в образе Пандара, смерти
как единственного выхода из создавшегося положения, тоже близка
разработке этой темы у Беккета. Более того, драматургия абсурда,
безусловно обновившая внешний облик театра и драмы на Западе, могла
стать причиной того, что "Троил и Крессида" была около 1960 г. наконец
оценена и понята публикой. Хотя бы с точки зрения жанра. Недаром Д.
Стайен в своей книге "Мрачная комедия: развитие современной комической
трагедии" пишет в том числе и о "Троиле и Крессиде": "Колебания
тональности от трагедии до шутовства пронизывают ткань пьесы. Хотя они
не усиливают потенциальный трагизм, но наделяют пьесу тем особым
привкусом горечи, с которым мы ее всегда связываем". Именно эта
жанровая гибридность или многогранность свойственна пьесам С. Беккета:
они не веселы, ибо мы сталкиваемся с человеческим несовершенством,
слабостью, но для трагедии слишком ничтожен сам материал. Нечто
подобное имеет место и в "Троиле и Крессиде"...
Неудивительно, что именно эта пьеса стала в XX веке полигоном сценических экспериментов – вплоть до "ничейной земли" X. Пинтера, сродной "Бесплодной земле" Элиота или "Waste Land" В. Вулф. Питер Холл в 1960-м и Джон Бартон в 1968-м ставили "Троила и Крессиду" в духе театра абсурда нечто среднее между фарсом и трагедией, призванное усилить "последние разочарования Шекспира". В постановке "Троила и Крессиды" Терри Хендса Троя напоминала бункеры времен второй мировой войны, а герои носили шинели и каски. Война показана во всей своей гнусности и грязи. "Но постановка... говорит не столько о мерзости войны, сколько о мерзости рода человеческого, для которого война является естественным состоянием".