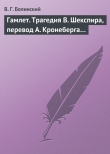Текст книги "Пророки и поэты"
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
О постановке Бартона писали:
Режиссера интересуют не отдельные персонажи, а общая атмосфера
разложения, вызванного бессмысленной и жестокой войной, атмосфера
варварских оргий, цинизма главарей... девальвации моральных ценностей.
Культ секса, культ наслаждения господствовал в атмосфере
спектакля... разбой и разврат господствуют в мире, и победа достается
бездушному и бесчестному.
В печально знаменитой постановке 1968 г. Дж. Бартон выделил в
пьесе чувство яростного пессимизма.
То же говорили об инсценировке П. Холла: он дал нам почувствовать всю горечь Шекспира.
ШЕКСПИР И ЭЛИОТ
Наша проблема – преодолеть влияние Шекспира.
Пытаясь писать драматическую поэзию, я обнаружил, что в
каком бы размере я ни работал, стоило моему вниманию
ослабеть, как, "проснувшись", я видел, что написал плохие
шекспировские белые стихи.
Элиот
"Преодолеть" Шекспира поэту, впитавшему мировую культуру, было невозможно. Почти вся его поэзия-реакция на Шекспира, перекличка с ним, обращение к барочной эпохе, уже утратившей иллюзии, но еще не потерявшей веру. Т. С. Элиот считал, что Шекспиру повезло со временем, а ему самому нет: не осталось и этой опоры. Век Шекспира жил поэзией, век ХХ-й – окопами и концлагерями. В поисках истоков, приведших к армагеддону, Элиот обратился к Реформации, Ренессансу и Просвещению, с которых все началось... Шекспир, Донн, Драйден были для него концом великой культуры, после которых начался распад. Именно поэтому он и искал опору в искусстве XVII века, что видел там духовную реальность "религиозного мифа", утраченную "цивилизацией".
Т.С. Элиот был не только величайшим поэтом-пророком, но и литературным критиком, шекспирологом, культурологом, перу которого принадлежат выдающиеся исследования. Как поэт, он испытывал непреодолимое влияние Стратфордского волшебника. Шекспир был для него медиумом, усиливающей антенной, воспринимающей ритмы космоса. В Донне и Шекспире он видел прежде всего средневековых христианских поэтов, поделивших мир. Он отдавал предпочтение Донну как поэту с более мудрым отношением к тайне жизни. У Донна была за спиной высшая философия Аквината, а у Шекспира"беспорядочная" философия Ренессанса, лоскуты скептического либерализма Монтеня, цинизма Макиавелли, романтического эгоизма Сенеки с его концепцией героя – воплощения духовной гордости.
Элиот столь высоко ценил Средневековье, что даже в Монтене видел свойственное Ренессансу начало хаоса и падения ценностей – "осколки систем". Поэтому, считал Старый Опоссум, Шекспир не мог быть, как Данте, духовным пастырем. Все ищущие у него философию навязывают ему свою. Более того, сам Шекспир живописал "грех гордости", соучаствуя процессу, ведущему к "полым людям" и "бесплодной земле": отправная точка пути к Пруфрокам – Гамлет, отказавшийся от смирения и погрязший в рефлексии. "И даже Гамлет, который вызвал значительную кутерьму и смерть, по крайней мере, трех невинных людей... умирает вполне довольный собой".
Гамлет, Отелло, Кориолан – плоды ренессансного культа личности, чреватого страданиями, несчастьями и смертью. Даже пред лицом небытия Отелло отказывается от смирения и напоминает о том, что "оказал услуги Венеции". Для героев Шекспира смерть – не переход в мир иной, но трагический вызов судьбе, чреватый ужасами XX века.
Это ни в коей мере не значит, что Гамлет – неудача Шекспира. Нет! "Гамлет" – трудный орешек.
Гете делал... из Гамлета Вертера, Колридж... Колриджа, вероятно,
никто из них, когда писал о Гамлете, не помнил, что его первая задача
– изучить произведение искусства.
Элиот критиковал Гамлета как руссоиста и гордеца. Он считал, что поздний Шекспир намного превосходит раннего в демонстрации последствий "греха гордости". В этом отношении "Кориолан" выше "Гамлета". В "Бесплодной земле" Элиот вспоминает Кориолана, расплачивающегося за отсутствие смирения.
Элиот сам задумал одноименную поэму "в духе времени", в которой намеревался изобразить диктатора-бога, кумира толпы, строящего "новую религию" из психологии человека-массы, однако вместо нее написал лишь стихотворение "Триумфальный марш".
Позднего Шекспира Элиот ставил выше Донна. Ему импонировало чувство глубинной сложности и дисгармоничности мира, "проявление божественной мудрости" барочного мировидения Страстного Пилигрима. В творениях "поздних елизаветинцев" он находил все то, что испытывал сам: смятенный взгляд на мир как море зла и безумия, признание вездесущего страдания, предчувствие гибели цивилизации.
Сознание смерти во всех ее формах – от смерти человека до
дезинтеграции и смерти цивилизациитаковы темы творчества Шекспира,
Вебстера, Донна, нашедшие отражение в творчестве Элиота. Считая, что
только христианская идея – познание божественной необходимости может
освободить человека от страха смерти и болезненного ощущения мирового
хаоса, он видит в позднем елизаветинском искусстве выражение не только
ужаса бытия, но и духовно-религиозного начала. Так, поздний Шекспир
для него не трагический гуманист, а по сути – поэт, ищущий в смятении
перед ужасом бытия укрытия в христианских добродетелях, как, например,
в "Кориолане".
Поэзия и драма самого Элиота во многом имела барочный характер,
передавая ощущение жизни как чего-то нереального, сна. Соответственно
и в творчестве Шекспира Элиот избирал созвучные моменты. Так, эпиграф
для своего стихотворения "Геронтион" (1920) он взял из известного
монолога герцога в "комедии" "Мера за меру", где тот убеждает
осужденного на смерть Клавдио, что смерть реальнее призрачной и
иллюзорной жизни. Драматический же монолог Геронтиона передает всю
суетность бытия людей, отказавшихся от веры в метафизическую сущность
мира. Исходя из аналогичной "истины" "Меры за меру", Элиот развивает
ее путем дезинтеграции елизаветинского драматического монолога, что
выражает современный водоворот утраченной реальности и смысла.
Как и Шекспир, Элиот говорил своей эпохе о тех язвах, что разъедают ее, о том, сколь многое в современной жизни – просто смерть. В "Пруфроке", этой язвительной оде эвримену, иронически обыгрывается имя Гамлета:
Нет! Я не Гамлет и не мог им стать;
Я из друзей и слуг его...
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный
По временам, пожалуй, шут.
Что хотел сказать Элиот? Что сила эпохи – в пруфроках...
Как мыслитель, как метафизик, Учитель Бэббит относился к тем, чей взгляд обращен назад. То, что мы видим, и то, что знаем, делит нас на две группы: верящих в будущее и почитающих прошлое. Не имея оснований доверять грядущему, Элиот выражал недоверие и к так называемому прогрессу. "Элиот обращается к прошлому как к эталону, при сравнении с которым настоящее оказывалось осужденным". В сущности, это была боязнь неконтролируемой истории, страх перед потрясениями революции – революции, обещающей золотые горы и дающей человеческую мясорубку.
Элиот не скрывал элитарности взглядов: сохранение культуры зависит от сравнительно узкого круга интеллигенции, способной выразить себя.
Всегда должен быть небольшой авангард людей, восприимчивых к
поэзии, которые независимы и опережают свое время. Развитие культуры
не означает, что все поднимаются на верхнюю ступень. Оно означает
поддержание такой элиты, за которой следует основной, более пассивный
отряд читателей, отстающих от нее не более чем на одно поколение.
В самом высоком смысле слова Элиот – гражданин мира. Гражданин мира по воспитанию, по мироощущению, по поэтике, по культурному чувству. Главная тема его эссеистики – идея единства мировой культуры.
Само по себе искусство никогда не совершенствуется, а только
видоизменяется материал, который оно использует. Поэт должен
осознавать, что европейская мысль, национальный образ мыслей постоянно
изменяется и развивается, вбирая on route весь предшествующий опыт, не
отвергая ни Шекспира, ни Гомера, ни наскальные изображения Мадленских
рисовальщиков. Это развитие (возможно – совершенствование, безусловно
– усложненность) не означает прогресс.
Различие между настоящим и прошлым заключается в том, что
осознание настоящего есть знание прошлого лучшим образом и в большей
степени, чем может продемонстрировать даже само прошлое.
Ни одна нация, ни один язык не смогли бы достичь того, что имеют,
если бы то же искусство не процветало в соседних странах и в других
языках. Мы не сможем понять ни одну из европейских литератур, не узнав
как следует другие. Изучая историю европейской поэзии, видишь, как
тесно переплетаются нити взаимных влияний.
Для здоровой европейской культуры требуются два условия: культура
каждой страны должна быть неповторимой, и различные культуры должны
понимать свою взаимосвязанность.
Элиот понимал поэзию как живое единство всех когда-либо созданных стихов. Культура – это открытость: открытость влияниям, иным мнениям, внешним и внутренним воздействиям.
Идеи, с которыми вы не соглашались, мнения, которые вы отвергли,
были так же важны, как и те, что вы сразу принимали близко к сердцу.
Вы изучали их без предубеждения, веря, что почерпнете в них новые
знания. Иначе говоря, мы считали само собой разумеющимся наличие
интереса к идеям как таковым, чувство восторга, испытываемое в
свободной игре интеллекта. И дело, которым мы занимались, состояло не
столько в том, чтобы определенные идеи возобладали, сколько в том,
чтобы интеллектуальная активность поддерживалась на высочайшем уровне.
Как и Шекспир, Элиот был противником любой абсолютизации, как и Шекспир, был плюралистом и интуитивистом, как и Шекспир, повторил то, что, по его словам, сделал Лебедь Эйвона: выстроил свои стихи в единую поэму, некую непрерывную форму, успевшую созреть и продолжающую разрастаться.
Самый метафизический поэт,
Поэт жизни и страха, любви и времени,
Ускользающих от обретенья,
Тоскливых правд – струй ненастья,
Трагического таинства,
Имя которому мудрость.
Если ты подойдешь
Голым полем не слишком близко,
не слишком близко,
Летней полночью ты услышишь
Слабые звуки дудок и барабана
И увидишь танцующих у костра
Сочетанье мужчины и женщины
В танце, провозглашающем брак,
Достойное и приятное таинство.
Парами, как подобает в супружестве,
Держат друг друга за руки или запястья,
Что означает согласие.
Кружатся вкруг огня,
Прыгают через костер или ведут хоровод,
По-сельски степенно или по-сельски смешливо
Вздымают и опускают тяжелые башмаки,
Башмак-земля, башмак-перегной,
Покой в земле нашедших покой,
Питающих поле. В извечном ритме,
Ритме танца и ритме жизни,
Ритме года и звездного неба,
Ритме удоев и урожаев,
Ритме соитий мужа с женой
И случки животных. В извечном ритме
Башмаки подымаются и опускаются.
Еды и питья. Смрада и смерти.
СЦЕНА
– Шекспир дрянь! Так скучно, тупо. Вестэндские
антрепренеры бегают от шекспировских актеров, они всегда без
работы, и один наш критик сказал, что Шекспир – могила
таланта.
– Неужели, – сказал я.
Комиссаржевский
В XX веке в шекспироведение влилась естественная, но неожиданная струя: театр, главным образом английский, стал важным способом шекспировской "диагностики" мира и сценическим воплощением новейших шекспироведческих идей {См. работу А. Бартошевича "Шекспир в английском театре между двумя войнами".}. Стоило Д.Д. Уилсону выпустить "Что происходит в "Гамлете"", как многие режиссеры очертя голову бросились в сценические эксперименты по воплощению его идей.
Под впечатлением книги "Что происходит в "Гамлете"" были
поставлены спектакли в стратфордском Мемориальном и лондонском
Вестминстерском театрах. Джон Гилгуд использовал ряд идей Довера
Уилсона в своем нью-йоркском "Гамлете" 1936 г.
Лоренса Оливье, как и Гилгуда, более всего занимал один мотив
книги – толкование темы инцеста в "Гамлете", очень мало, лишь косвенно
связанное со взглядами фрейдистской школы.
"Экстремист" и антитрадиционалист Грей, декларируя авторское право режиссера на собственную интерпретацию, ставил "Венецианского купца" как вселенский заговор циников-макиавеллистов, а – "Генриха VIII" – как гротеск на человеческую несвободу. Обе идеи были преподаны в эксцентрическом виде пародии, свойственной переходным эпохам утраты величия.
Шекспировские спектакли Грея бросали вызов ученой
благовоспитанной публике Кембриджа. Почтенные профессора, сидевшие в
первых рядах кресел, пугались и негодовали, когда чуть ли не над
самыми их головами летала на гигантских качелях "прекрасная владычица
Бельмонта" графиня Порция из "Венецианского купца". То, что ничуть не
удивило бы зрителей театра Мейерхольда или Пискатора, повергало одних
обитателей университетского города в священный ужас, других в
святотатственный восторг. Публика, занимавшая дорогие места, сочиняла
петиции протеста в местные газеты, студенческая "галерка" (в данном
случае последние ряды партера) ликовала.
В финале пророчества о великом будущем Англии произносились с
нарочито фальшивым пафосом, а грим маленькой Елизаветы изображал злую
карикатуру на прославленную английскую королеву. Сцена с металлической
конструкцией начинала бешено вертеться, "как аттракцион в Луна-парке",
и актеры с криком бросали в публику куклу-копию Елизаветы, вызывая в
зале рев восторга и возмущения. Покушаясь на Шекспира, поруганию
предавали официальную историю Великобритании, главное жеосмеивали и
отвергали традиционный взгляд на историю как на свободное поле
деятельности великих людей, которые оказывались на сцене не более чем
картами из колоды, – всем вершил слепой грандиозный механизм,
сверкавший как новенький самолет Так в пародийных бесчинствах Грея
отразился один из трагических вопросов европейского сознания.
"Потерянное поколение" пыталось отыскать в Шекспире собственные язвительность и горечь. Шоупосрамить в его лице викторианский театр, модернисты – продемонстрировать, что "дом Шекспира – наши дни, а не XVI и XVII века".
"Писатели "потерянного поколения", отвергая цинизм "новой
деловитости", проклинали и предавший их старый мир. Но в самой ярости
их инвектив слышалась тоска по спокойной прочности былого.
Гамлет был для "рассерженных" "сердитым молодым человеком двадцатых годов". Горечь и сарказм этого Гамлета отразили климат послевоенного разочарования, писал Гилгуд, чувства которого в 30-х совпадали с чувствами Гамлета.
Его Гамлет был отчаянно подавленный и разочарованный юноша, в
одиночестве восставший против мира зла, в противоречии с самим собой,
и под конец принимающий свою судьбу – пусть будет.
Тридцатые годы почти отказались от Шекспира "в современных одеждах", возвратившись к допозитивистскому Шекспиру, к Колриджу, к "вечной" компоненте шекспировского. Аверкромби вновь возвестил о конце "веселых двадцатых" и о возврате к "вечному Шекспиру". Сборник статей Джеймса Эйгета открывался статьей "Назад к девяностым", полной щемящей тоски по невозвратимому викторианству и ностальгии по безопасной устойчивой жизни. "Вишневый сад" Чехова стал любимой пьесой англичан, и Шекспира стали ставить "по Чехову". Бард стал необходим не только как символ "добрых старых времен", но и как символ великой Англии: "Ты наш, суть Англии в тебе".
В 1936-м Ф. Комиссаржевский, поглощенный идеей философской режиссуры, ставил "Короля Лира".
Как в постановке "Бури", которую он осуществил в
послереволюционной России, в "Короле Лире" он стремился говорить о
судьбе человека, взятой на предельном уровне обобщения.
Действие шекспировской трагедии Комиссаржевский (как всегда, он
был и художником спектакля) поместил в абстрактное пространство,
освобожденное от признаков эпохи и деталей быта; не древняя Англия, не
эпоха Возрождения, но вся Вселенная – поле битвы человечества с силами
божественного произвола, место тяжбы человека с небесами. "Он
передавал космический характер одиночества Лира и поднимал пьесу в
разреженную атмосферу, где трагедия приобретает очистительное
воздействие", – писал Т. Кемп, критик "Бирмингем пост". Сценическая
конструкция представляла собой геометризированную систему плоскостей и
лестниц – "метафизическую пирамиду", по определению критика, мир,
возвращенный к мифическим первоэлементам, к библейской
первоначальности; его цвета просты и светоносны: пурпур ступеней и
золото огромных труб, в которые, подобно архангелам, трубят герольды.
Как в мифе, где сошествие в преисподнюю оказывается прологом к
воскресению, падение Лира оборачивалось восхождением к небу – по
пурпурным ступеням. Кульминация – неподвижный Лир и слепой Глостер на
вершине скалы, достигающей небес, странный, отливающий разными
красками свет, несущиеся зеленые и черные облака: "люди, сражающиеся с
судьбой на вершине мира", скрежет, полыхание и дым битвы далеко внизу.
Прежде чем дать свет в зрительный зал, Комиссаржевский выдерживал
долгую паузу: ему нужно было, чтобы публика глубже ощутила
метафизическое значение исхода драмы – конца времен.
Обнаженный мифологизм несколько вагнерианского толка объединяет
стратфордского "Короля Лира" с "новокритическими" толкованиями
шекспировской драмы, получившими распространение в Англии в 30-е годы,
в особенности с "символистической" интерпретацией Шекспира в работах
Дж. Уилсона Найта. Речь идет не о прямом воздействии "новых критиков"
на режиссера – нужно плохо знать Комиссаржевского, чтобы допустить
подобную мысль. "Король Лир" 1936 г. и сочинения Дж. Уилсона Найта и
его единомышленников принадлежали к одной полосе в истории европейской
культуры...
30-е годы дали английской сцене три наиболее значительные
постановки "шотландской трагедии" Шекспира. Одна была осуществлена
Тайроном Гатри в первый период его руководства "Олд Вик" (сезон
1933-1934 гг.), другая – Федором Комиссаржевским в Стратфорде (1933),
третья – Майклом Сен-Дени в "Олд Вик" (1937) – там-то и играл Оливье.
Тайрон Гатри считал фрейдистские трактовки Шекспира самыми интересными и убедительными по части объяснения главной загадки "Гамлета". Его Гамлет был типичным выразителем "комплекса Эдипа". Темой "Венецианского купца" стала гомосексуальная любовь и ревность Антонио к его другу Бассано.
Решившись ставить в "Олд Вик" "Отелло" (1937), Гатри и Оливье
нанесли визит доктору Джонсу, и тот объяснил им, что ненависть Яго к
Отелло на самом деле – сублимированная форма противоестественной
страсти. Реплика Отелло "Теперь ты мой лейтенант" и особенно ответ Яго
"Я ваш навеки" должны были приобрести на сцене особенное
значениескрытое здесь выходило наружу.
Майкл Сен-Дени создал на сцене "Олд Вик" метафизический мир зла,
растворенного в воздухе. В его "Макбете" властвовали силы,
сверхъестественные и архаические: ведьмы в варварских масках, в
одеяниях красных, "как огонь над их кипящим котлом", под резкие звуки
дикарской музыки творили свой древний обряд на фоне декораций цвета
запекшейся крови. "Чувство сверхъестественного не покидало сцену".
Герои жили в атмосфере сюрреалистического кошмара, судорожные движения
и вскрики сменялись мертвой неподвижностью и молчанием. Архаический
Север соединялся на сцене с варварским Востоком. Критики писали о
"нордической сибелиусовской мрачности" спектакля и о монгольских
скулах и раскосых глазах Макбета – Оливье. Макбет – орудие мистических
сил бытия, он ничего не мог изменить и ни за что не отвечал. Однако
сознание вины его мучило с самого начала, казалось, что он с ним
родился. Монолог с кинжалом звучал как "последний отчаянный крик
человеческого существа, чья судьба уже предначертана звездами". Его
преследовали дурные сны, "он был более безумен, чем Гамлет", но до
конца сохранял мрачную доблесть солдата, который заранее знает о
дурном исходе, но бьется до конца с упорством безнадежности. Финал был
лишен победных кликов и фанфар, на сцене постепенно темнело – мир
медленно погружался в небытие.
Дух отчаяния, наполнявший спектакль "Олд Вик", нес в себе
предвестие трагического настроения, которое скоро стало господствующим
в английском искусстве. 1938 год вошел в историю британской культуры
как время крушения надежд.
Крэговские искания связаны с усилением символизма Шекспира, с выявлением шекспировской сокровенности, с метерлинковской интерпретацией драматургии. Крэг считал, что современность расширила Шекспира от частного события до глобального масштаба, что только шекспировский размах способен раскрыть трагедийность человека, что артист должен стать сценическим символом человека.
Маска – в понимании Крэга – призвана была защитить артиста от
натурализма, застраховать его творчество от наводнения эмоций. Он
делает из человека сверхмарионетку и предлагает комедианту игру
символическую, ибо сам-то он, комедиант, по сути дела не что иное, как
сценический символ человека.
Создавая концепцию Ubermarionette, Крэг имел в виду не актера-марионетку, а нечто подобное "чистой поэзии" – абсолютного артиста, клейстовского актера-демиурга. Клейсту принадлежала идея грации "танцующей куклы", грации как бесконечного сознания, как божественной подвижности, грации, которая "в наиболее чистом виде обнаруживается в марионетке или в Боге".
Крэг не уподоблял актера "механическому плясунчику", но усиливал режиссерский элемент свободы как подчинения. Возможно, идея сверхмарионетки частично подпитывалась ницшеанским сверхчеловеком – не в смысле беспредельного расширения человеческого, а снова-таки в отношении "божественного" в человеке. В сверхмарионетке важна первая часть слова: актер как творец, творческая воля, поэтический дар.
Крэг считал актера высшим существом, вместе с тем он видел в нем
совершеннейший инструмент, способный в одно и то же время и
подчиниться строжайшей дисциплине – и быть самостоятельным творцом на
сцене, настоящим художником... Сверхмарионетка – это актер плюс огонь
и минус эгоизм; огонь как божественный, так и демонический, но в обоих
случаях очень чистый, без дыма и копоти.
Крэг жаждал подчинить сцену движению души, сделать ее инструментом духа, зеркалом подсознания. Его интересовала не фабула, а сокровенный смысл.
Смысл того, что Крэг называл "moving-scene", состоял в намерении
режиссера передать поток трагического сознания.
Формулой спектакля Крэга и Станиславского должно было стать
противоречивое единство замкнутости и расчлененности, разорванности
связей и в то же время неумолимой взаимосвязанности, взаимозависимости
времени, героя и общества, человека и мира, Гамлета и человечества.
Ширмы, мгновенные изменения сцены, разные углы видения, внезапные скачки действия, другие изобретения Крэга преследовали цель передать текучесть идеи, динамичность символа, движение мысли, трагичность времени. "Едва ли не самое важное в трагедии – великое, ускоренное трагическое время".
В своей полифонической сценографии Крэг делал ставку на "внутреннего человека" Шекспира: он пытался показать "невидимое" и "бестелесное", то, что воспринималось не разумом, а интуицией.
Пластические идеи Крэга не были реализованы МХАТом не по причине различия эстетических принципов Станиславского и Крэга, а по причине разгула тоталитаризма, отвергающего не только эстетику, но прежде всего "внутреннего человека". После постановки Крэга наши писали, что никакие ухищрения и заумь Гордона Крэга не смогли сокрушить Качалова и художественный театр. "Режиссерский замысел Крэга разбился об актерский талант Качалова...".
Вот так...
Что же касается П. Брука, то эволюция его искусства в– плане
сценографии пошла по несколько иному пути – в направлении к идее
"пустого пространства". В спектаклях режиссера "Марад-Сад" П. Вайса
(1964) и политическом представлении – хэппенинге "US" (1966) получают
воплощение некоторые мотивы театра жестокости Антонина Арто и
используются элементы игровой сценографии, которая в эти годы активно
возрождается на подмостках мировой сцены. Обращение именно к этой
тенденции современного искусства сценографии было для режиссера
внутренне органично и глубоко обусловлено исходной для всего его
творчества традицией шекспировского театра.
П. Брук пишет в своей книге "Пустое пространство": "Мы осознали,
что отсутствие декораций в елизаветинском театре было одним из
величайших достижений... Шекспировские пьесы написаны для непрерывного
показа... кинематографическая структура сменяющих друг друга коротких
сцен, многосюжетность – все это часть всеобъемлющей формы. Эта форма
выявляется только динамически... Елизаветинская сцена... это была
нейтральная открытая платформа, просто площадка с несколькими дверями,
и она давала возможность драматургу без всяких усилий пропускать
зрителя через нескончаемую цепь разнообразных иллюзий, вмещающих в
себя, если бы он этого захотел, весь мир".
Лир Скофилда в бруковской постановке – средоточие зла. Он взял на себя тягчайшую ношу заблуждений и ошибок нации, но он же – виновник несчастий, нищеты, слез, творец и покровитель насилия и беззаконий. Всевластие этого мрачного нелюдима не дает ему ни удовлетворения, ни покоя. Он разучился улыбаться, он знает, что ничего нельзя изменить в этом мире. Он уверен, что страх, лесть, рабская угодливость вечны. Вокруг – одни рабы, беспрекословность и безмолвие. На нем лежит печать кровавых злодеяний времени, бесконечных междоусобиц и войн. "С самых начальных эпизодов спектакля Лир Скофилда – могучий правитель, но правитель глубоко и безнадежно несчастный, трагически одинокий".
Естественно, это не Лир Шекспира, как и вся атмосфера – не шекспировская... Но вот что странно: оказывается, в текст шекспировской драмы легко вписывается современность всякого "проклятого мира":
Любовь остывает, слабеет дружба, везде братоубийственная рознь. В
городах мятежи, в деревнях раздоры, во дворцах измены, и рушится
семейная связь между родителями и детьми...
Но еще удивительней проницательность Великого Вила, описывающего, с какой легкостью верят люди во все дурное, злобное, противоестественное. Люди так привыкли к фальши, что безоговорочно верят лжи. Живущие среди лицемерия и насилия утратили способность различать зло и добро, врагов и друзей. В мире утраченных ценностей царят произвол и жуть...
Шекспир – настоящая родина для актера и главный экзамен для него. Сдать этот экзамен на отлично за прошедшие века смогли лишь несколько десятков человек. Среди них – Оливье, Скофилд, Кембл, Ли, Эшкрофт, Сара Сиддонс, в России – Остужев, Качалов, М. Чехов, Михоэлс...
Оливье играл Шекспира с "постоянной готовностью сломать себе шею": он падал с лестницы вниз головой, но главное – занимался самосожжением на сцене... "Герой Оливье искал опасности, чтобы избавиться от грызущих его комплексов". Оливье пытался вскрыть, восстановить замысел, намерение Шекспира, вникнуть в суть секрета вечной его современности, заразить зрителя шекспировской мыслью.
Мы говорим, что современному актеру трудно подняться до уровня Шекспира, но как же поднимались до этого уровня актеры "Глобуса"?
Как удалось Шекспиру поднять своих актеров на эту высоту, пока
еще остается для нас загадкой; достоверно известно только, что
способности наших актеров терпят фиаско перед поставленной Шекспиром
задачей. Остается предположить, что свойственная современным
английским актерам своеобразная гротескная аффектация, как мы называли
ее выше, – это остаток одной из природных национальных особенностей
англичан...
Шекспир, несомненно, заимствовал свой стиль из инстинкта
мимического искусства: если, ставя свои драмы, он был связан иногда
большим, иногда меньшим дарованием своих актеров, они все в какой – то
мере должны были быть Шекспирами, как и сам он в любой момент
полностью становился изображаемым персонажем, и у нас есть основание
для того, чтобы предполагать, что в исполнении пьес гений Шекспира
можно различить не только как его тень, лежащую на театре.
ШЕКСПИР В РОССИИ
Шекспир пришел в Россию одновременно с Данте – в пушкинские времена и с пушкинской помощью. Попытки обнаружить его влияния в XVIII веке – не более чем демонстрация лозунга "партия прикажет – выполним". Да, имя Шекспира мимоходом упоминают Сумароков, Колмаков, Плещеев, Радищев, Карамзин, Муравьев, Тимковский, но что это за влияния?
Мильтон и Шекеспир, хотя непросвещенный...
Или:
Шекеспир, английский трагик и комик, в котором и очень худова и
чрезвычайно хорошева очень много.
У Сумарокова и М. Н. Муравьева – краткие перепевы вольтеровских поношений в адрес Шекспира: "величественный вздор", "Шекеспир неправильного вида", "беспрестанное смешение подлого с величественным", "неверное изображение древних нравов". Сумароковский Гамлет – жалкая копия, "перекроенная по французской мерке". "Шекспировские пьесы" императрицы Екатерины – еще более жалкая дилетантская поделка, невнятный бред...
Тому, насколько "многочисленны и многообразны" шекспировские источники в России XVIII века, есть одно любопытное свидетельство: сколько беглых упоминаний – столько разных написаний имени: Шакспир, Шекспер, Шекеспир, Шакеспир, Шакеспер, Сакеаспеар, Чекспер, Шакеспеар, Чексбир, Шакехспарь, Шхакеспир... Если это есть подтверждение многочисленности и многообразия, пусть будет так...
Пушкин, Пэшкин, Пшушпкин, Пушкен, Пушкэн, Пушкиин, Пушкеан, Пэшкин, Пишкин, Пишкиин, Пишкеан...
Греми, ужасный гром, шумите, ветры, ныне,
Ваш изливайте гнев во мрачной сей пустыне...
Хотя первое упоминание имени Шекспира в русской печати датируется 1748 годом, чтобы понять случайность сумароковского цитирования, достаточно принять во внимание, что в XVIII веке "преизрядные" комедии приписывали в России двум авторам – Гамлету и Отелону... Даже в 1825 году рецензент "Шекспировских духов" Кюхельбекер просил "взять в соображение, как мало известен у нас Шекспир". Даже в 30-е годы, когда ссылки на Шекспира "вошли в моду". Гоголь иронизировал:
...рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно
начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в
моду говорить, – итак, подавай нам Шекспира! Говорит он: "С сей точки
начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как
автор наш соответствовал Шекспиру", а между тем разбираемая книга
чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с
Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений
самого рецензента.
Да, первые переводы Шакеспера опубликованы в конце XVIII века. Симптоматично, что первым пришел к нам "Ричард III" (1783), как нельзя более соответствующий истории и духу страны. Не говоря о низчайшем качестве перевода, для характеристики уровня знаний о Шекспире достаточно упомянуть надпись на титуле: "трагедия господина Шакеспера, жившего в XVI веке и умершего 1576 года".
В XVIII веке о Шекспире слышали единицы. Издавая в 1787-м перевод "Юлия Цезаря", Н. М. Карамзин писал, что читающая публика слабо знакома с английской литературой. Первый перевод "Ромео и Юлии" сделан в России в 1790-м В. Померанцевым, "Макбета" – в 1802-м А. И. Тургеневым. Жуковский рекомендовал А. И. Тургеневу исключить из русского "Макбета" лучшие места о "пузырях земли" – фантастические сцены с ведьмами. Добросовестный автор перевода признавал, что работа ему не удалась: "он вообще слаб". Сознавая несопоставимость своего и шекспировского "Макбета", переводчик не нашел лучшего средства, как уничтожить перевод.