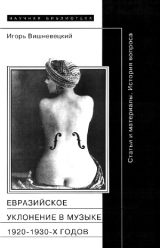
Текст книги "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Автор книги: Игорь Вишневецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
от 17 августа 1947 г. из Парижа. Оригинал – в VDC, Box 119.
Сувчинский фактически отказывается от прежней евразийской программы и пытается склонить своего адресата
к переходу к «европейскому мироощущению и миросозерцанию».
Ниже приводится расшифровка письма.

14 августа 1947
Дорогой
Владимир Александрович,
Очень был рад Твоему письму. Все, что Ты пишешь о себе, – очень интересно, верно и убедительно. Несмотря на все Твои успехи – и в Твоей жизни сказался факт, что мы, в конце концов, – «апатриды». Вспоминаю латинское изречение: «Nec sine te, пес tecum vivere possum[us]» [*]*
Слегка измененная цитата из эпиграммы Марциала:
Difficilis facilis, iucundus acerbus es idem:nec tecum possum vivere nec sine te.Трудно с тобой и легко, и приятен ты мне и противен:жить я с тобой не могу и без тебя не могу.(Пер. с лат. Ф. А. Петровского)
[Закрыть]. Конечно, жить «апатридами» можно, но все-таки чего-то очень важного в нас не хватает, и, несмотря на всевозможные таланты и нашу приспособляемость, – мы все-таки поколение людей «ущербленных». Это сознание ни в коем случае меня лично не деморализует, оно только усложняет мою линию поведения, т. к. в самом конечном случае – я никогда противРоссии не буду, и мне кажется, что эта установка должна быть принята всеми бывшими русскими «de bonne volonté» [*]*
По доброй воле (фр.).
[Закрыть], в противном случае повторится мерзость немецкой коллаборации. Мы можем, должны и обязаны полемизировать с художественным убожеством современной советской «эстетики», должны ругаться, но… до известного предела. Т. к. я в войну все-таки не верю – то у нас времени достаточно, чтобы заставить (хотя бы на 1 %) себя услышать. (Между прочим, я на днях получил из Москвы серию очень трогательных фотографий С. С. Прокофьева с его новой женой…)

Мне кажется, что в политическом отношении европейскоесознание должно быть нейтральным (между Россией и Америкой), т. е. не зависимымот обеих систем. И эта установка должна будет иметь большое влияние на все стороны культурнойжизни. Все это я Тебе пишу для того, чтобы Тебе стала яснее моя радость, что Ты решаешь делать «ставку на Европу». По всем данным – Америка все-таки разлагает людей, и в какой-то момент нужно спасаться и срочно возвращаться к европейскому мироощущению и миросозерцанию. Я очень жалею, что не знаком с большинством Твоих сочинений, но это дело поправимое. Что касается Твоих 2-х имен – то, представь себе, я бы эту «двуединость» – сохранил. Я уверен, что Твое русское происхождение и «русскость» Твоего имени – еще тебе послужат. Кроме того, во имя Дягилева и его очень своеобразного патриотизма (что не помешало ему быть «все-национальным»!) – я бы, на Твоем месте, на Твое имя не посягал.

Другие работы Сувчинского, а также письма, в настоящее издание не вошедшиеРоссия – несмотря ни на что – феномен Европейский; во всяком случае, это нам надлежит ее вернуть в эту систему, и Твой русский «обертон» усилит Твое положение. Я бы на Твоем месте обратил внимание на Прагу; по многим причинам этот музыкальный пункт очень важен.
В Праге сейчас имеется прекраснейший дирижер Кубелик. Я с ним познакомился в прошлом году, и он мне ужасно понравился. Судя по телефонному молчанию – Fourmér [*]*
Лицо неустановленное.
[Закрыть]в Париже нет.Что касается меня, то я, не закончив дела (корректуры книги, организацию «Quinzaine de Musique Antiochienne [?]» [*]*
Двух недель антиохийской [?] музыки (фр.).
[Закрыть]), на днях уезжаю. Надоело все!Обнимаю ТебяТвой П. Сувчинский
Souvtchinsky Pierre. Introduction: Domaine de la Musique Russe // Musique Russe/études réunis par Pierre Souvtchinsky. – Paris: Presses Universitaire de France, 1953. – T. 1. – P. 1–26.
Re(lire) Souvtchinski [sic!] (1892–1985) / Texts choises par Eric Humbertclaude. – Paris, 1990.
Из переписки П. Сувчинского и Б. Пастернака (1927); Переписка П. Сувчинского и Б. Пастернака (1957–1959) // Козовой Вадим. Поэт в катастрофе. – М.: Гнозис; Paris: Institut d’études slaves, 1994. – (Bibliothèque russe de l’Institut d’études slaves, t. 95). – C. 185–286.
Петр Сувчинский и его время / Редактор-составитель Алла Бретаницкая: Консультант Вадим Козовой. – М.: Композитор, 1999.
Souvtchinsky Pierre. Un siècle de musique russe: 1830–1930; Glinka, Moussorgsky, Tchaïkowsky, Strawinsky; Et autres écrits, Strawinsky, Berg, Messiaen et Boulez / Édition réalisée et présentée par Frank Langlois; Préface de Pierre Boulez. – Arles: Actes sud – Association Pierre Souvtchinsky, 2004.
3. Игорь Стравинский
Ромен Роллан. О Стравинском(Из дневников военных лет) (1914–1917)
26 сентября [1914 г.] – Был у меня Игорь Стравинский. Сидел долго (мы провели, беседуя с ним, три часа в саду отеля «Мозер»). Стравинскому около тридцати лет: он небольшого роста, слабый на вид, с желтым, худым и усталым лицом, с узким лысеющим лбом, редкими волосами и прищуренными, за стеклами пенсне, глазами, мясистым носом и толстыми губами [*]*
В этой записи, как и в записи от 25 июля 1916 г., Роллан возвращается к вопросу о внешности Стравинского (вне сомнения, болезненной теме для самого композитора). Даже ближайшие друзья Стравинского не упускали случая съязвить. Дягилев как-то заметил Дукельскому в присутствии самого Стравинского: «Композиторы редко выглядят хорошо; ни Стравинскому, ни Прокофьеву конкурса красоты не выиграть» (DUKE, 1955: 114). А Жан Кокто, по словам Николая Набокова, сравнивал Стравинского за дирижерским пультом с «поднявшимся муравьем, разыгрывающим роль из басни Лафонтена». Впрочем, тот же Набоков свидетельствовал, что и в семидесятилетием почти композиторе его поражало – следствие многолетних спортивных занятий – «тело, абсолютно лишенное жира, удивительно молодое, ловкое и эластичное» (NABOKOV, 1951: 194).
[Закрыть]. Его лицо непропорционально длинно по отношению ко лбу. Он умен и очень прост в общении. По-французски говорит свободно, лишь изредка подыскивая слова; все, что он говорит, своеобразно и продуманно (не знаю, искренне или фальшиво). В первой части наш разговор коснулся политических вопросов. Стравинский заявил, что Германия не варварская страна, а одряхлевшая и вырождающаяся. Он приписывает России роль прекрасной и мощной варварской страны, беременной зародышами новых идей, способных оплодотворить мировую мысль. Он считает, что подготовляющаяся революция по окончании войны свергнет царскую династию и создаст славянские соединенные штаты. Впрочем, он частично приписывает жестокости царизма немцам, внедрившимся в России, которые держат в руках главные рычаги управления и администрации. Поведение немецкой интеллигенции внушает ему безграничное отвращение. У Гауптмана и Штрауса, говорит он, лакейские души. Он превозносит старую русскую культуру, которая остается неизвестной Западу, художественные и литературные памятники, находящиеся в северных и восточных городах. Он также защищает казаков от обвинений в жестокости…
Затем мы стали говорить о музыке.
Я рассказал о впечатлении, произведенном на меня исполнением «Весны священной», и о противоречиях, обнаруженных мной между этой музыкой и опубликованной программой, между музыкальной формой и актерским жестом. Он согласился, что театральное представление, по крайней мере в таком виде, в каком оно существует в настоящее время, снижает ценность музыки, эмоцию или выразительные средства, замыкая их в слишком конкретном образе. В то же время он высоко расценивает спектакли, где сочетаются жест и движение (род ритмической гимнастики, более художественный, чем ритмика Жака Далькроза), широкий и обобщающий, большие линии в движении. Ему не нравятся слишком богатые и слишком оригинальные декорации и костюмы, отвлекающие ум от музыкального восприятия. Художник, с его точки зрения, – враг музыканта. Мечта Вагнера о совершенном произведении искусства, где сочетались бы все виды искусства, несбыточна. Там, где есть музыка, она должна быть неограниченной владычицей. Нельзя быть одновременно слугою двух господ. Устраните краску. Краска слишком могущественная сама по себе, это целое царство. Музыка – особо. «Что касается меня лично, – говорит Стравинский, – то я вдохновляюсь красками, чтобы писать музыку. Но когда она написана, она должна довольствоваться самой собой, у нее есть свои собственные оттенки. Оставим только освещение, более разнообразное, чем теперь, и соответствующие звуковой модуляции жесты и ритмы». Стравинский пишет теперь очень короткую сюиту для оркестра и голоса – «Dicts» (жанр русской старинной народной поэзии, подбор слов, почти лишенных смысла, связанных между собой только образными и звуковыми ассоциациями: их называют в России «игра перед играми»). Он забавляется внезапными переходами от одного образа к другому, совершенно противоположному и неожиданному. Он пишет ежедневно, не зависимо от того, пришло вдохновение или нет. Ничто не может сравниться с радостью первого замысла, когда идея, еще животрепещущая, отделяется от твоего существа. «Это – почти садистское наслаждение», – говорит он. Когда она начинает выражаться на бумаге, радость уменьшается. А когда произведение готово, оно не существует больше для автора. Оно начинает тогда самостоятельное существование, жизнь, в которой участвует публика, аудитория или читатели, воссоздающие его в свою очередь. Эта эволюция длится часто веками, но никому произведение не становится таким чужим, как своему первоначальному творцу.
Его суждения о музыке и музыкантах отличаются непримиримостью [634]634
Но суждения его не непоколебимы, так как известно, что спустя несколько лет он превозносил гений Баха, которого когда-то критиковал.
[Закрыть]и безапелляционностью. Он не любит почти ни одного из выдающихся мастеров: ни Иоганна Себастьяна Баха, ни Бетховена. Зато он наслаждается Моцартом, прекрасные оттенки которого не потускнели с веками. Из истых немцев (так как Моцарт, по его мнению, больше чем наполовину итальянец) он любит только Вебера, который, впрочем, тоже проникнут итальянщиной. Из своих соотечественников он ценит Мусоргского и (немножко) Римского-Корсакова, который был расположен к нему. Его аудитория во Франции и отчасти в Англии. Он мне сказал, что в искусстве, как и во всем, любит только весну, новую жизнь. Зрелость ему не нравится, ибо это начало заката. Поэтому совершенство, по его мнению, – низшая ступень жизнеспособности. И классиками он считает не тех, кто посвящал себя целиком созданию новой формы, а тех, кто работал над организацией форм, созданных другими. Уходя, он мне вручил письмо следующего содержания:
Дорогой собрат!
Спешу ответить на ваш благородный призыв к протесту против неслыханного варварства немецких орд. Варварство! Верно ли это определение? Что такое варвар? Мне кажется, что варвар является носителем культуры другой концепции, чем наша. И хотя она совсем иная, чем наша, все же это обстоятельство не исключает того, что в ней заключается такая же огромная ценность, как и в нашей культуре. Но современную Германию нельзя рассматривать как носительницу новой культуры. Это страна, являющаяся частью Старого Света. Ее культура так же стара, как и культура других западноевропейских народов. Именно поэтому я осмеливаюсь утверждать, что народ, который в мирное время воздвигает ряд памятников, подобных Siegesallee в Берлине, а во время войны насылает орды, разрушающие такие города, как Лувен, и такие памятники старины, как собор Реймса, является народом, который нельзя отнести ни к варварам, ни к цивилизованным народам. Ведь трудно предположить, что таким путем Германия предполагает омолодиться. Если это так, то следовало начать с памятников Берлина. Поэтому в общих интересах всех народов, ощущающих еще необходимость дышать воздухом своей здоровой старой культуры, стать на сторону врагов Германии и избавиться раз и навсегда от нетерпимости этой колоссальной и неуклюжей Германии, которой угрожают роковые симптомы морального разложения. Примите, дорогой собрат, выражение моего глубокого восхищения и самой большой симпатии художника.
Игорь Стравинский
P. S. Среди страшных и грандиозных событий этих дней, свидетелями которых мы являемся, я почерпал новую поддержку в вашем призыве: «В единении – сила». Кларан, 26–30 сентября.
23 января [1915 г.]. Концерт русской музыки под управлением Ансерме. «Антар» Римского[-Корсакова], хоры и пляски из «Князя Игоря» Бородина, «Петрушка» Стравинского, который присутствует на репетициях. Мне кажется, чувственное и мечтательное обаяние Римского, оцепенение, к которому приводит одержимость ласковыми рисунками и монотонными ритмами, [а также] всплески насилия и неистового опьянения, рассеянная, яростная и бурлескная истерия Стравинского прекрасно согласуются с великим безумием нашей эпохи, и в целом они его предвещают. Эстетическая ценность такой русской музыки не вызывает сомнений. Она огромна, больше, чем у других композиторов того же времени (за исключением Дебюсси). Однако в ней не найдешь не только моральной ценности, но и силы разума, порядка, мира, гармоничного и гуманного действия. Ее величайшая социальная энергия – в интенсивности ее ритма. Он постоянно ведет к опьянению, захватывающему дух исполнителей и слушателей и увлекающему их в свой вихрь. В какие-то моменты русская пианистка (г-жа Шериджян-Шаре), исполняющая партию в «Петрушке», не отдавая себе в том отчета, выглядит как вакханка. Но именно это ритмическое опьянение и ведет народы Европы на смерть и убийства…
25 июля 1916 г. На корабле из Туна в Интерлакен встретил Игоря Стравинского. Я его сначала не узнал, это он ко мне подошел. Он с женой и двумя или тремя очень шумными детьми… Разговаривает со мной, не отпуская, от Шпица до Интерлакена. Поверхностный и неистовый в своих суждениях, как и в музыке. Впрочем, живой и умный, но в лучах своего прожектора: пронизающий луч света, а вокруг полная тьма. В наше время интеллектуальной односторонности он сверходносторонен. Только что вернулся из путешествия по Испании и весь полон ею. Он еще недостаточно ее узнал. Ничто в Европе не произвело на него столь глубокого впечатления. Он не был нигде, кроме Кастильи. Странным образом он сравнивает ее со своей родной страной, особенно (это первое, о чем он говорит) из-за гостеприимности жителей. (Признаюсь, я этого не заметил.) Насколько понимаю, ему нравится их грубоватое и естественное произношение, не испорченное цивилизацией. Мы оба восхищаемся народными песнями [*]*
С 26 мая по 9 июня 1916 г. труппа Русских балетов, а вместе с нею и Стравинский, была в Мадриде (Кастильей именуется центральная область Испании вокруг столицы). Известно, что впоследствии он ездил в Испанию с целью собирания музыкального материала для балета. На этот раз Стравинский побывал на юге – в Андалусии, о музыке которой (представляющей собой сплав европейских и арабских традиций) говорил в 1921 г. очень похожие вещи:
Между народной музыкой Испании, особенно андалузской, и русской народной музыкой я вижу глубинную связь, которая, без сомнения, обнаруживается в их общих ориентальных истоках. Некоторые андалузские песни напоминают мне мелодии наших русских областей и будят во мне атавистические воспоминания. В андалузской музыке нет ничего латинского. Им досталось в наследство от восточной культуры богатое чувство ритма.
(СТРАВИНСКИЙ, 1988: 33) Стравинский в конце концов отказался от обработки собранного материала, и испанская народная музыка прозвучала в балете «Cuadro flamenco» (1921) в исконном виде.
[Закрыть]. У Стравинского целая коллекция их, записанная на граммофонных пластинках, поскольку нашей нотной записи недостаточно, чтобы передать все эти интервалы. Стравинский видит в них идеал музыки, музыку спонтанную и «бесполезную», музыку, которая не пытается ничего выразить, которая рвется из души, которая каждый раз новая для каждой новой души. Терпеть не может всякую классику, музеи, консерваторию, оперу и т. д. Как один из моих персонажей, он сказал бы: «Смерть мертвецам!» Тут он переходит к своему равнодушию к Италии, которую тут же провозглашает абсолютно неинтересной. Был только в Риме. «Остальное я представляю… – говорит он. – Я не хочу этого видеть!» Ездил в Мадрид на концерт, где исполнялись его произведения, и был представлен королю, который, по-видимому, не разделяет его чувств к Италии. В конце беседы заговорили о войне, которую Стравинский естественно считает совершенно здоровым явлением. (Почему он не примет в ней участия?) Считает ее прекрасным примером нравственной гимнастики, которая разделяет народы, судом Бога (великого крокодила), что уничтожает слабых и возвышает сильных. Считает ее необходимой для прогресса человечества. Думает, впрочем, что в России она немало послужит делу свободы. Все, что там есть хорошего и живого, сейчас в траншеях; и свобода выйдет. Однако он отнюдь не сторонник республики. Политические формы его не интересуют. Как и я, считает, что республика может быть реакционным режимом, подобно тому как монархия может быть либеральным режимом; и нынешний пример Франции кажется ему убедительным. Он живет в Морже и едет в Интерлакен, которого он не видел уже десять лет. Двадцать один год назад его привезли сюда с больными легкими, и он поправлял здесь здоровье. Здоровье, по-видимому, относительное, судя по его исхудавшей личине печального еврея [*]*
Вопрос о возможном «еврействе» Стравинского был поднят в конце 1930-х национал-социалистической пропагандой, на что, собственно, и намекала издевательская подпись под его портретом на геббельсовской экспозиции «Вырожденческая музыка» (Дюссельдорф, 1938), предлагавшая посетителям самим убедиться в признаках неарийской «дегенерации» на его лице. В ответ на травлю и желая обеспечить свободное исполнение своих сочинений в Германии, Стравинский потребовал официальных извинений от министерства иностранных дел рейха (STRAVINSKY, 1982–1985, III: 267 [основной текст и сноска]), однако добился только признания «благожелательного нейтралитета» (Там же: 270) и того, что германский рейх перед частными лицами не извиняется. О всех подробностях происходящего он оповещал директора и совладельца немецкого издательства «Сыновья Б. Шотта (В. Schotts Suhne)» Вилли Штрекера, который еще 29 марта 1933 г. предупреждал Стравинского, что его имя уже включено в «список еврейских композиторов», а о нем самом национал-социалисты говорят как об «иудео-большевике», и предложил на случай, если ситуация станет критической, составить соответствующее опровержение (Там же: 236, сноска), о котором тут же сообщал композитору, что публиковать такое было бы «ниже достоинства» Стравинского (письмо Стравинскому от 18 апреля 1933 г. – Там же). Помеченные 14 апреля 1933 г. «генеалогические детали» о славянском – православном и католическом – происхождении предков Стравинского были опубликованы только в 1985 г. и завершаются изложением уже известного нам политического кредо композитора: «Я не вернулся в Россию. Что мне там делать? Я презираю весь этот марксизм, коммунизм, отвратительного советского монстра, а также весь либерализм, демократизм, атеизм и т. д. Я презираю их до такой степени и настолько безгранично, что любая моя связь со Страной Советов была бы бессмыслицей» (Там же: 236). Однако и составив подобный документ, Стравинский прекрасно понимал, что его лично ждало дальше, и сделал все, чтобы в 1939 г. вырваться – уже после начала военных действий в Европе – в Северную Америку и навсегда остаться там.
[Закрыть]с огромным костистым носом, удлиненным лицом, редкими волосами и большим биноклем, от которого глаза кажутся круглыми.
[Февраль 1917 г.] В Сьерре в отеле художник из кантона Во, эстет, националист, некто Обержонуа. Я его не знаю, но он меня ненавидит и говорит, что «меня надо расстрелять». К нему на несколько дней приезжает Стравинский, несколько дней подряд сидит за ужином через несколько столиков от меня и уезжает из Сьерры, так и не поздоровавшись.
Основные книги СтравинскогоИсточник текста записи от 26 сентября 1914 г. и последующего письма Стравинского РОЛЛАН, 1935. [637]637
Конъектуры по: ROLLAND, 1952: 59–62. Переиздано по РОЛЛАН 1935 без восстановления пропусков, но с подробными комментариями составителя В. П. Варунца в: СТРАВИНСКИЙ, 1988: 22–25. Записи от 23 января 1915 г., 25 июля 1916 г. и февраля 1917 г. публикуются в русском переводе впервые. Французский оригинал в ROLLAND, 1952: 236–237, 852–853, 1065. Перевод дневниковой записи от 26 сентября 1914 г. и письма Стравинского принадлежит М. Рожницыной-Гандэ, опущенное место о казаках восстановлено нами по французскому оригиналу, как и принадлежащая Роллану разбивка на абзацы; перевод остальных записей сделан Е. С. Островской.
[Закрыть]
Strawinsky Igor[, Nouvel Walter], Chroniques de ma vie: avec six dessins hors texte. – 2 t. – Paris: Denoël et Steele, 1935.
Stravisnky Igor. Pushkin / Tr. from the French manuscript by Gregory Golubeff. – [n. p.,] 1940.
Strawinsky Igor[, Souvtchinsky Pierre et Roland-Manuel], Poétique musicale sous forme de six leçons. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1942.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Memories and Commentaries. – Garden City, N.Y., Doubleday, 1958.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Conversations with Igor Stravinsky. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1959.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Expositions and Developments. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1962.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Dialogues and a Diary. – Garden City, N.Y.: Doubleday, 1963.
Стравинский Игорь. Хроника моей жизни / Пер. с фр.: Л. B. Яковлева-Шапорина; Ред. переводов: А. М. Шадрин; Статья и общая ред.: В. М. Богданов-Березовский. – Л: Государственное музыкальное издательство, 1963.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Themes and Episodes. – New York: Alfred F. Knopf, 1966.
Stravinsky Igor, Craft Robert. Retrospectives and Conclusion. – New York: Alfred F. Knopf, 1969.
И. Ф. Стравинский: Статьи и материалы / Сост.: Л. C. Дьячкова; Общая ред.: Б. М. Ярустовский. – М.: Советский композитор, 1973, (Книга содержит разделы: Советские музыканты о Стравинском. – Стравинский о себе, об искусстве, о музыкантах. – Статьи и исследования о музыке Стравинского. – Письма И. Ф. Стравинского.)
Stravinsky Igor. Selected Correspondence / Edited and with Commentaries by Robert Craft. – 3 v. – New York: Knopf (Distributed by Random House), 1982–1985.
Dearest Bubushkin: The Correspondence of Vera and Igor Stravinsky, 1921–1954, with Excerpts from Vera Stravinsky’s Diaries, 1922–1971 / Edited by Robert Craft and Vera Stravisnky. – New York, N.Y: Thames and Hudson, 1985.
И. Стравинский: Публицист и собеседник / Сост., текст, редакция, коммент., закл. статья и указатели: В. П. Варунц. – М.: Советский композитор, 1988.
Correspondance Ernest Ansermet – Igor Strawinsky (1914–1967): éd. complète / Éd. par Claude Tappolet. – T. 1–3. – Genève: Georg, 1990–1992.
Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. (четвертый том не вышел из-за смерти составителя) / Сост., текст, ред. и коммент.: В. П. Варунц. – М.: Композитор, 1998–2003.
Стравинский Игорь. Хроника. Поэтика / Сост., коммент., вступ. статья: С. И. Савенко; Пер.: Э. А. Ашпис, Е. Д. Кривицкая, Л. В. Яковлева-Шапорина. – М.: РОССПЭН, 2004. – (Российские пропилеи).
4. Владимир Дукельский
Дягилев и его работа (1927)Мы обманываем самих себя, когда постоянны; мы верней верного, когда изменяем. Верность бесцельна, если не окрашена изменой.
Это лишний раз подтверждено жизнью и деятельностью Сергея Павловича Дягилева.
Созданный им балет есть вместилище им пройденных или проходимых увлечений; здесь, как и в самом человеке, столкнулись и тем не менее ужились противоположные и даже враждебные друг другу элементы. В его работе – беспрерывная смена кажется единственным принципом: приятие, затем отбрасывание временно нужных ингредиентов, каждодневная переоценка ценностей. Это не снобизм и не прихоть; здесь нет и речи о парении над искусством, а истинное претворение и отражение его в едва ли не единственном верном зеркале.
«Ты единственный человек, умеющий мой товар лицом показать», – писал однажды Чайковский Николаю Рубинштейну. С подобными словами мог бы обратиться к Дягилеву каждый из «показанных» им музыкантов и художников.
Приступая к обзору работы С.П., я испытываю странное чувство неловкости перед, казалось бы, несуществующей, но весьма ощутимой цензурой; цензура эта заключается в своеобразном своде понятий, выработанных в недавние дни теми китами, на которых стоит Париж. Разделяя творчество современников на «des choses bien» [*]*
Из (разряда) хороших вещей (фр.).
[Закрыть]и «des choses mal» [*]*
Из (разряда) плохих вещей (фр.).
[Закрыть], они объяснений по большей части не дают, но возражений не допускают. Тем труднее искренность. Люди непрестанно искренние – величайшая загадка; мудрая простота Дягилева в его подчеркнутой замкнутости. Иначе нельзя человеку, вся жизнь которого в тайных поисках неоткрытых Америк.
Париж летом 1924 [года] и встреча с Дягилевым были началом моей музыкальной жизни – знаю, я не один, способный на такое признание; и поэтому да не покажется неблагодарностью мое удивление неизменной ориентации С.П. на Париж. Париж, где что ни улица, то законодательство, что ни угол, то Моисей.
Призыв к порядку, о котором когда-то твердил Кокто, ничего не упорядочил; все осталось по-прежнему, с той разницей, что ни законы, ни законодатели никому уже больше не нужны.
Дягилев в начале своей работы насаждал так называемое русское искусство: это было в пору «Игоря», «Шехеразады», «Клеопатры» [*]*
Дягилев показал парижанам сначала не всю оперу Бородина, а лишь половецкие сцены и пляски (II акт) «Князя Игоря» – в мае 1909 г. Балет «Клеопатра» на музыку Антона Аренского с музыкальными дополнениями из Глазунова, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Сергея Танеева и Николая Черепнина – самого Аренского Дягилев не ставил особенно высоко – был дан следом, в начале июня 1909 г. Наконец, «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова была поставлена в Париже через год, в июне 1910 г.
[Закрыть]. Очевидность этих вещей – та самая очевидность, которая теперь кажется почти грубостью, – прорезала глаза у незрячих и заставила их сложить руки в молитвенном трансе. Русский балет! Как многочисленны люди, которые и в 1928 году хотели бы видеть только дюжину разнокалиберных Шехерезад.
Тем не менее огромность совершенного в те дни несомненна; вывези Дягилев стереотипные заветы Петипа, к которым порой прибегает теперь, Европа осталась бы равнодушной. Яркость, подчеркнутость, «крупитчатость» Корсакова, Бородина и их сценических толкователей – Бенуа, Бакста и Фокина – были одной из немногих шапок, которыми хотя на время закидали мы Запад.
Пробив окно в Европу, Дягилев от блестящей реконструкции перешел к настоящему и могучему строительству. Главным его сотрудником в этот своего рода «золотой» век балета был, конечно, Стравинский. Я не пишу музыкального этюда, иначе самое упоминание этого имени заставило бы меня пространно изложить свой взгляд на взаимосоотношение этапов его гигантской деятельности. Пока ограничусь тем, что скажу – в балете Дягилева поворот от основного задания определился лишь с «Весной священной» (1913); и «Жар-птица», и «Петрушка» были неслыханно-ослепительным завершением поры «внешнего» русизма, которая ведет свой род от Балакирева и Корсакова, а не Глинки и Чайковского.
Итак, первый период балета (1909–1913) означен давлением личной силы Дягилева, сумевшего (за исключением двух вышеназванных вещей Стравинского) поразить и потрясти Европу ей уже сравнительно знакомым материалом («Шехеразада», «Игорь»). Десятилетие 1913–1923 – отмечено таким же давлением личности Стравинского: стихийная мощь «Весны», через «Лисичку» (шедевр, до сих пор не оцененный) приведшая к титаническому самоутверждению «Свадебки», свела чары зрелища «театрального» к предельному минимуму. Кто, в самом деле, помнит ничтожную работу Рериха для «Весны» или несравненно высшую по качеству, но ассимилированную соседством Стравинского, постановку «Свадебки» Гончаровой?
Не так в балетах того же времени, заказанных другим композиторам; выбор последних был, по большей части, неудачен (Штейнберг, Шмит, Штраус, Рейнальдо Ган) [*]*
Максимилиан Штейнберг написал для Дягилева балет «Метаморфозы», из которых после проволочек в июне 1914 г. был поставлен только фрагмент «Мидас», да и то потому, что Штейнбергу протежировал Лев Бакст, которого Дягилев исключительно ценил как художника-оформителя («Мидаса» тем не менее оформлял Добужинский). Флоран Шмит, тот самый счастливый соперник Стравинского на выборах 1936 г. в Академию изящных искусств Франции, был автором поставленного у Дягилева в июне 1913 г., сразу вслед за «Весной священной», балета «Трагедия Саломеи». В данном случае Дягилев обеспечил новое сценическое оформление (Сергея Судейкина) и хореографию (Бориса Романова); первое исполнение «Трагедии Саломеи» состоялось в Париже еще в 1907 г. Строго говоря, Рихарду Штраусу Дягилев заказывал только один балет – «Легенду об Иосифе» (поставлен в мае 1914 г.), но в октябре 1916 г. во время гастрольного турне по США Вацлав Нижинский поставил еще один балет – на музыку симфонической поэмы Штрауса «Тиль Уленшпигель» (1894–1895). Наконец, участие Рейнальдо Гана (или Хана) в дягилевской антрепризе ограничилось балетом «Голубой бог» (поставлен в мае 1912 г.).
[Закрыть]или, за исключением превосходной «Треуголки» де Файя, представлял из себя главным образом музыкальное восстановление – Чимароза, Скарлатти, Россини – и давал большой простор хореографической и живописной выдумке [642]642
Сюда не следует причислять сотворчество Перголези и Стравинского в «Пульчинелле»; успешность реставрации не мешала здесь проявлению характерных черт реставратора.
[Закрыть].
Эта эпоха ознаменована рассветом Мясина (в работе Нижинского, мне кажется, играло крупную роль его личное обаяние как танцовщика) и художников Матисса, Дерэна и Пикассо. Сверхнациональное значение Стравинского указало на необязательность русских работников; отсюда отчасти пошла та «интернационализация» балета, которая вывела одних на свежий воздух и нестерпимо колет глаза другим.
Вначале сотрудничество «иностранцев» казалось эфемерным: ни большой Дебюсси, ни маленький Равель не оставили значительного следа на деятельности Дягилева. Постановка «Парада» Сати, значение которого сильно преувеличено, была триумфом Пикассо и откровением для молодых французских музыкантов, только что познавших прелести Music Hall’а и подстрекаемых нравоучениями Кокто.
Мы должны быть тем не менее благодарны Сати и Кокто, т. к. лукавые их семена дали, вопреки ожиданиям, благодатные всходы. Циническая, но острая и жизнерадостная резкость Орика («Les Fâcheux», «Les Matelots», гораздо тусклее в «La Pastorale») [*]*
Речь идет о поставленных у Дягилева балетах Жоржа Орика «Докучные» (премьера в январе 1924 г.), «Матросы» (июнь 1925 г.) и «Пастораль» (май 1926 г.). «Докучных» Дукельский особенно ценил, о чем см. в его статье «Модернизм против современности» в настоящем томе. Сохранился четырехручный клавир «Докучных» (Париж, изд. Heugel, 1923) с дарственной надписью автора Дукельскому: «А Dima, се petit souvenir, avec lʼamitié de Georges Auric, ler juillet 1925 (Диме этот маленький подарок, с дружбой от Жоржа Орика, 1 июля 1925 г.)» (собрание вдовы Дукельского Кэй Дюк Ингаллс, г. Санта-Фе, США).
[Закрыть]и приятная свежесть Пуленка («Les Biches») [*]*
Балет с хором Франсиса Пуленка «Лани» (1923), этакая игривая анти-«Свадебка», был поставлен у Дягилева в январе 1924 г. Дальнейшее участие Пуленка в дягилевской антрепризе ограничилось лондонской премьерой «Свадебки» Стравинского, во время которой он – вместе с Дукельским, Ориком и Риети – исполнял партию одного из четырех роялей. Об этом эпизоде см. в тексте монографического исследования.
[Закрыть]были еще одним ударом сгнившему постимпрессионизму (ублюдки Дебюсси) в гораздо большей степени, нежели намеренно простецкое кувырканье Сати. Успех молодых французов породил (чего следовало ожидать) новую и серьезную опасность: он открыл дорогу фальшивой легкости, бесцельному и, в сущности, сухому и рассудочному легкомыслию. Страсть к искусству «веселому и приятному» показалась после сокрушающей хватки Стравинского упадком и разложением. Запоздалая молодость обернулась преждевременной старостью.
Беда в том, что под этим мировоззрением не оказалось фундамента; мелодического дарования Пуленка не хватило для вещей иного калибра, а едкость и неуклюжее остроумие Орика вскоре выродились в потуги на несвойственную ему «белизну» («Pastorale»). Я искренно надеюсь, что обоим возможен поворот отсюда, но куда? Ни Пуленк, ни Орик этого пока не решили.
Привлекательная ловкость их сотрудников (Laurencin, Pruna) [*]*
Речь идет о художниках француженке Мари Лорансен, музе Аполлинера, оформившей постановку «Ланей», и испанце Педро Прюна (или Пруна), оформившем для антрепризы Дягилева «Матросов», «Пастораль» и балет Лорда Бернерса «Торжество Нептуна».
[Закрыть]пленяла публику, зараженную особым послевоенным снобизмом: снобизм этот породил готовый рецепт парижского успеха, что облегчило работу ряда молодых композиторов (Ламберт, Согэ, отчасти Риети, Лорд Бернерс) [*]*
Английский композитор Констант Ламберт был приведен к Дягилеву Дукельским и Уолтоном (о чем см.: DUKE, 1955: 172). Как сообщает Дукельский, первоначальное название балета Ламберта было «Адам и Ева», но Дягилев согласился на постановку только при изменении названия на «Ромео и Джульетта», сам вписав новое название в принесенные ему ноты (Там же: 173; ср. ДУКЕЛЬСКИЙ, 1945–1947, II: 86); премьера состоялась в мае 1926 г. Единственный балет француза Анри Согэ, поставленный у Дягилева, – «Кошка» (в апреле 1927 г.). К моменту написания статьи у Дягилева был поставлен балет родившегося в Александрии итальянца, впоследствии американского композитора Витторио Риети «Барабау» (в декабре 1925 г.), позднее к нему прибавился «Бал» (премьера в мае 1929 г.). Лорд Бернерс (Джеральд-Хью Тирвитт-Уилсон) – английский композитор-дилетант, писатель и художник, более всего известный полупародийной музыкой, сочинил для Дягилева балет «Торжество Нептуна» (премьера в декабре 1926 г.). По позднейшему свидетельству Дукельского, Дягилев «единственным приличным английским музыкантом считал… лорда Бернерса» (Там же). Подводя спустя два десятилетия итог общему направлению работавших для Дягилева в середине 1920-х годов композиторов, Дукельский утверждал:
Музыка «Шестерки» (вернее, «Тройки», т. к. ни Онеггер, ни способная Тайфер, ни безвестный Дюрэ Дягилева не интересовали) и их друзей – Риети, лорда Бернерса и Анри Согэ – выявляла суть времени, очередной танец на вулкане, без пяти минут «пир во время чумы». «Барабау» Риети или «Кошка» Согэ характеризуют эпоху не хуже, нежели шумановский «Карнавал» – романтику Жан-Поль Рихтера и Гофмана.
(Там же: 85)
[Закрыть].
Я не отрицаю достоинств двух последних; их техническое мастерство, находчивость и в особенности театральное чутье неоспоримы. И все же эта музыка, жонглирующая общепризнанными ценностями, музыка «себе на уме» – весела ненастоящим весельем, горит поддельным огнем. Это становится ясным при слушании, например, невозможно монотонной, в своей тупой смешливости, партитуры «Ромео» Ламберта, наиболее слабого балета этого направления.
Однообразие музыкальных приемов (постоянная «четырехдольность» Риети) в последнее время возведено в настоящий культ, но ни на какое «возрождение» не указывает.
Хореография Нижинского (особенно в «Ромео») [*]*
Дукельский ошибается: хореография «Ромео и Джульетты» Константа Ламберта в целом принадлежала не Вацлаву Нижинскому, а его сестре Брониславе, антракт же был поставлен Баланчиным.
[Закрыть]сознательно отразила в своей рассчитанной беспомощности – и небрежности – всю шаткость – а временами и прелесть – поставленных его вещей. Несмотря на сказанное, в пройденной «веселой» полосе есть истинный и большой смысл; этот смысл в уравновешивании составных частей балета как театрального зрелища.
Незначительность, иной раз просто незаметность, музыкального остова (Согэ), при наличии «театральных» способностей у композитора, раскрывает, как это ни странно, широкие горизонты хореографу. Вот в чем непреодолимая слабость балета: взгляните на сравнительную скудость выдумки в движениях, соответствующих гениальнейшим моментам «Свадебки»! И рядом как убедительны и ярки головоломные измышления Баланчивадзе, вызванные элементарными тактами Согэ. Вывод, казалось бы, один: и акробатизм Баланчивадзе [*]*
К моменту публикации статьи Георгием Баланчивадзе (более известным под сценическим псевдонимом Баланчин) были поставлены у Дягилева следующие балеты: «Барабау» Витторио Риети, «Пастораль» Жоржа Орика, «Триумф Нептуна» лорда Бернерса, «Кошка» Анри Согэ, отдельные номера в «Пире» (февраль 1925 г., на музыку Глазунова, Аренского, Мусоргского, Сати, Делиба, Николая Черепнина), «Асамблее» (март 1925 г., на музыку Гуно, Лядова, Скрябина, Орика, Рубинштейна), антракт в «Ромео и Джульетте» Константа Ламберта.
[Закрыть], и хореографический контрапункт Мясина («Salade») [*]*
Под «Салатом» Мясина, которого Дукельский очень ценил как хореографа, подразумевается хореография одноименного балета Дариуса Мийо, поставленного в мае 1924 г. и спектаклем труппы Дягилева не являвшегося. Мясин был постановщиком единственного балета Дукельского, шедшего у Дягилева, – стилизованно мифологического «Зефира и Флоры» (премьера – в апреле 1925 г.). В середине 1930-х композитор и хореограф упорно работали над прямо противоположным «Зефиру» по духу современным политическим балетом «Общественный сад», успеха в США и Западной Европе (Англии, Франции, Испании) не имевшим и в репертуаре, несмотря на музыкальные и сценические переделки, не удержавшимся.
[Закрыть]замкнуты в самих себя, независимы от музыки. Хорошо все-таки помнить, что замечательны те вещи, где музыка перетягивает, а не дополняет остальное.
Это напоминание кажется особенно своевременным в примере последнего (в прошлом сезоне) творения Дягилева, сдвинувшего всю жизнь балета с того, что грозило стать мертвой точкой. Я говорю о «Стальном скоке» Прокофьева [650]650
«Шут» мною намеренно здесь опущен. Я знаком лишь с музыкой этого балета, и отсутствие его в дягилевском репертуаре создает невозможность всякого отзыва с моей стороны.
[Закрыть].
Не побоимся сказать, что со времени «Свадебки» не было ничего равного этой вещи по силе и по чисто качественной значительности. На первом же представлении стало ясно – отсюда возвращаться к МУЗЫЧКЕ («musiquette») немыслимо [*]*
Именно эти слова Дукельского, сказанные на премьере «Стального скока» Прокофьеву, послужили причиной довольно характерного скандала, разразившегося за кулисами:
На премьере «Стального скока» Кокто услыхал мой экстатический монолог, обращенный к Прокофьеву, вызванный не триумфально-советским сюжетом, а буйным размахом музыки балета, и уловил лишь одно слово, презрительно брошенное: «Musiquette Parisisenne [парижская музычка – И.В.]». Жан сразу понял, в чем дело, лицо его исказилось, и, крикнув: «Dima, les Parisiens t’envoient de la merde! [примерный перевод: Дима, парижане смешивают тебя с говном]» (лучше не переводить), ударил меня по лицу. Пощечина была слабоватая, но настолько неожиданная, что я растерялся и не успел ответить пощечиной же; Кокто немедленно исчез, а Дягилев, всерьез напуганный, схватил меня за лацкан фрака и прошипел: «Не смейте драться здесь, в моем театре; у меня и без этого достаточно неприятностей с властями… Нас всех могут депортировать. Понятно?!» В коридоре я снова наткнулся на Кокто, сопровождаемого верными сподвижниками: «Rends-moi ma gifle, Dima, – ответь мне пощечиной», – истерически вопил он. Памятуя предостережение Дягилева, я вызвал Кокто на дуэль. Этот вызов он игнорировал, продолжая выкрикивать что-то маловразумительное.
(ДУКЕЛЬСКИЙ, 1968: 265) Сходным образом описана ситуация в дневнике Прокофьева (запись от 7 июня 1927 г.):
Возвращаемся, когда началось. Кохно и Дукельский объясняют стычку о мюзик-холле с Кокто (все уже это видели в мюзик-холле – наоборот, это нисколько не мюзик-холл, а ваша попытка ввести мюзик-холл кончилась, ибо публика приветствует это). Дукельский почти счастлив. Я смущен. Иду к Дягилеву. Второе появление Кокто, его вид, просьба о пощечине. Я готов ударить. Дягилев выводит. Пайчадзе и Сувчинский нас охраняют.
(ПРОКОФЬЕВ, 2002, II: 566) Наконец, есть и третье свидетельство о событиях, изложенное со слов участников Николаем Слонимским:
…мы видим молодого композитора, дающего отпор резким словам отрицания, исходящим – по адресу восхищающего его Прокофьева – от художественного Пико делла Мирандолы. Свидетелей тому неудачному, что последовало дальше – «Les Français vous donnent de la…» – нет. Опущенное слово, сказанное при том на повышенных тонах, богаче по коннотациям словарного значения. Слово сопровождается пощечиной. Молодой музыкант слишком ошарашен, чтобы среагировать тут же. Драгоценный момент упущен, но музыкант мгновенно приходит в себя и вручает визитку противнику, будучи совсем не в курсе того, что последний смертельным оружием как раз и не владеет. Беспорядочные слухи достигают Дягилева, который предается эгоистичному отчаянию на предмет возможных последствий, умоляет, отдает распоряжения. Противник в это время собирает за пределами театра, где произошел инцидент, вздорную толпу, предводительствуемую его другом-моряком. Он играет на ксенофобии – слово, вполне знакомое французской прессе того времени. События надвигаются… Для дуэли отобраны два секунданта, но француз-противник, в мазохистском приступе извращенных чувств, возжелал своеобразного воздаяния. Русский навещает противника на следующее утро и, когда тот, бледный и трясущийся, появляется на пороге, платит ему пощечиной. Следует примирение, за которое француз без удержи благодарит. Двое вновь становятся добрыми знакомыми, как и прежде, не очень близкими.
Эпизод разыгран в лучших традициях романтической школы. Он словно предназначен для сцены, ибо француз в настоящем случае, в добавление к другим своим занятиям, – еще и способный драматург.
В наши времена подлинных биографий и сорванных масок он мог бы озаглавить свою пьесу «Владимир Дукельский».
(SLONIMSKY, 2004, I: 183) Сохранились два жеманных письма Кокто к Кохно (от 8 и 13 июня 1927 г.), оправдывающих его поведение на премьере (в конце второго Кокто восклицает «Бедный Ленин!»; письма опубликованы в: KOCHNO, 1970: 265), а также неизданное письмо Дукельского Дягилеву от 10 июня 1927 г., в котором композитор спрашивает совета у импресарио, как ему дальше быть с Кокто, и, между прочим, предупреждает: «Нечего и говорить, что при встрече с Cocteau я сочту своим долгом его избить» (BnF, Bibliothèque-musée de lʼOpéra, Fonds Kochno, Pièce 31). Дягилев отреагировал на скандал очень жестко: общение с французским писателем, автором либретто нескольких поставленных в его антрепризе балетов, было прервано навсегда, а сотрудникам Дягилева настоятельно рекомендовалось избегать Кокто. Последний, таким образом, лишился очень существенной сферы влияния. Стравинский требованию Дягилева не последовал: впрочем, его отношения с былым покровителем стали к этому времени весьма прохладными, да и к растущему успеху Прокофьева Стравинский относился крайне ревниво. Пришедший позже остальных в Русские балеты и не знавший о том, что же произошло на премьере «Стального скока», Николай Набоков был тем не менее моментально оповещен о «черном списке» нежелательных лиц:
«В мои времена он возглавлялся Жаном Кокто, с которым Дягилев поссорился…»
(NABOKOV, 1951: 93–94)
[Закрыть].
Много говорилось о бессознательности, беспочвенности (я не привожу более сильных выражений) музыки Прокофьева; пусть так – именно эта органическая непосредственность, отсутствие всякой ДИДАКТИКИ и предвзятости есть залог громадной потенции его дарования. Динамический размах, порой неистовый разбег, при редком богатстве методики (а не мелизмов) – не привлекательнее ли это того пиетического педантизма, что под различными масками просачивается в современную музыку?
Леонид Мясин в «Стальном скоке» нашел наконец применение своей последней, слегка назойливой («семафорной») манере и в финале дал ряд незабываемых построений, что вкупе с удачной работой Якулова лишь подчеркнуло эпическую мощь прокофьевской музыкальной речи.
Сергей Павлович Дягилев – самый «весенний» человек на земле; от весны и измены, и уклонения. Но эта последняя весна – настоящая.
Закончим этот обзор надеждой на дальнейшие сюрпризы такого же рода и порадуемся выглянувшему (пора!) из-за тюка модных товаров лицу России.
1927. Лондон
Первая публикация – ДУКЕЛЬСКИЙ, 1928. [652]652
Как свидетельствует записка Дукельского Прокофьеву от 14 декабря 1927 г. из Лондона, окончательная версия статьи была послана в тот же день в Париж и, судя по помете Прокофьева на записке Дукельского, получена адресатом на следующий день, 15 декабря (ксерокопия записки с пометой Прокофьева – в SPA). Дукельский обращался к Прокофьеву со следующей просьбой: «…благоволите препроводить Петру Петровичу [Сувчинскому]. Надеюсь, останетесь довольны исправленной редакцией» (в ту пору оба композитора еще были на «вы»), В силу задержки, вызванной внесением исправлений, на которых, очевидно, настаивал Прокофьев, статья не отмечена в оглавлении третьих «Верст» и идет уже после библиографического раздела сборника. Примечание от редакции гласит: «Статья ввиду ее позднего поступления не могла быть помещена в соответствующем разделе».
О содержании одного места, исключенного из окончательного текста статьи, можно судить по дневниковой записи Прокофьева (Лондон, 7 декабря 1927 г.):
«Дукельский читает статью по заказу Сувчинского о Дягилеве. Многое метко. О мощах, к которым прикладывается Дягилев».
(ПРОКОФЬЕВ, 2002, II: 610)
[Закрыть]







