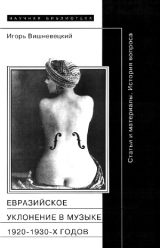
Текст книги "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Автор книги: Игорь Вишневецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 35 страниц)
В аристократической, блестящей, но поверхностной обстановке петербургской музыкальной жизни, где царил итальянский вкус, Глинка почувствовал себя русским. Пришедший после него Мусоргский фанатично поверил в идею русской музыкальной самобытности и развернул эту идею до предельной возможности. Радикализм Мусоргского разрушил внутреннее единство и спаянность национальной группы, которая, потеряв Мусоргского, утратила и свое значение. После смерти Мусоргского роль ее была кончена. В ней обнаружились противоречия с основной идеей и тяготения в сторону приспособления к профессиональному движению общеевропейского толка. Связь с Глинкой в дальнейшем теряется. Его имя становится только почтенной традицией, ни к чему не обязывающей. Мусоргский кончил жизнь в полном одиночестве, и если его музыку и оценили несколько очень близких к нему людей, то идеи его и принципы остались совершенно не понятыми никем. После смерти долгие годы с ним ведется глухая, но упорная борьба в академических кругах. Это период очень выраженного музыкального профессионализма и рутины в консерваториях и вырождения национального движения в академизм. Подлинное творчество Мусоргского в эту эпоху уже изъято из музыкальной жизни, образ искажен, и музыка его становится известной только в том оформлении, которое ей придал Римский-Корсаков.
Между тем дух музыки Мусоргского проникает в Европу. Благодаря Дебюсси, Равелю и школе импрессионистов, он становится символом французского музыкального возрождения. Это подготовляет путь к раскрытию и изучению его подлинных музыкальных текстов в России во время революции.
* * *
Параллельно только что очерченной перспективе созрела и возникла другая: Глинка – Чайковский. Но был еще один композитор, который в хронологическом порядке находится между Глинкой и Мусоргским. Это – Даргомыжский. Он остался композитором чисто местного, провинциального значения, несмотря на свои большие достоинства. Но он оказал несомненное влияние на Мусоргского, положив начало тому музыкальному натурализму, который получил потом патетическое выражение в созданном Мусоргским романтическом реализме.
Возвышенный стиль Глинки начинает снижаться у Даргомыжского. У него впервые появляются черты русского гротеска и шуточные интонации, полународные, полугородские. Он создатель комического жанра и едкой карикатуры в русской музыке. Он первый записал лирические интонации мещанского и среднебуржуазного типа и ввел в музыку образы, родственные Акакию Акакиевичу. Глинка был всегда очень пластичен в выражении чувств. Даргомыжский нарушал все пропорции и стремился к напряженно-насыщенной экспрессии. Он был как бы прообразом современного экспрессионизма, его русским предтечей. Интонации его мелоса получают свое питание в самой жизни. Он их извлекает из окружающей его обстановки в большей мере, чем находит в канонических музыкальных формах, как это было у Глинки. Скачок от Глинки к Даргомыжскому, от «Руслана» к «Каменному гостю» огромный. От Даргомыжского уже прямой путь к Мусоргскому. Романсы Даргомыжского – по существу как бы зерна целых музыкальных драм, а реализм Мусоргского – развитие стиля Даргомыжского. Даргомыжский же впервые начал связывать интонацию речевую с интонацией музыкальной.
По странному капризу истории этот почти забытый композитор нашел своего продолжателя в лице Прокофьева, композитора с много более широким диапазоном, силой выражения, во всеоружии современных средств. Такие балеты, как «Шут» и «Стальной скок», его фортепианные «Сарказмы», «Мимолетности» и даже оперная его техника вплоть до «Войны и мира» по остро очерченным интонациям, по четкости упрощенного и жесткого рисунка, близкого к гравюре или офорту, – родственны Даргомыжскому.
* * *
Мусоргский и Чайковский – антиподы. Они были и лично в антагонизме и не любили друг друга. Оба жили в одно и то же время, но столь различно его пережили. Если сравнить страшный портрет Мусоргского, написанный Репиным за несколько дней до смерти композитора, с любым из портретов Чайковского – какой контраст! Между тем мы знаем, что жизнь Чайковского была совсем не так уж благополучна, какой она кажется по внешнему, весьма благопристойному его облику, по образу его жизни и по методичному и упорядоченному строю его мыслей. Но Чайковский умел по-своему бороться с жизнью и со своей судьбой. Его безразличное отношение к внешнему миру, ко всему, что было вне его личного опыта, постоянная, упорная сосредоточенность исключительно на самом себе создали для него удушливое состояние одиночества. У Мусоргского было обратное, у него не было внутренней борьбы с самим собой. Его драма была не личной, а в столкновении с миром, с людьми, с обществом. Мусоргский был новатором по самому существу своей натуры. Ему нужно было изменить самый порядок идей и вещей в мире и установить новую связь между искусством и людьми. Чайковскому же всякая идея «новаторства» была антипатична и чужда. Чайковскому ничего не нужно было менять в мире, ни в области социальной, ни в духовной или эстетической, кроме линии своей личной судьбы. В сущности, его идеал – полное обывательское благополучие. Его меланхолия – чисто личного порядка, плод его острого эмоционального субъективизма, одиночества и оторванности от мира. И если он поднимается в своем творчестве до трагического пессимизма, то только в силу своего огромного творческого темперамента, который возвышает его над самим собой и преображает личную психологию, поднимая ее на уровень возвышенных идей и общечеловеческих чувств. Техника Чайковского всегда академична и всецело подчинена существовавшим в его время общим формальным правилам. Прочно установленные принципы ремесла держали его неукротимый темперамент в постоянном подчинении и служили для него средством самозащиты от себя самого. Для него важна не реальность, а лишь его личные ощущения. «Онегин» Чайковского уже не пушкинский. Здесь не живая и органическая связь с Пушкиным, как у Глинки, а только воспоминание о Пушкине сквозь призму [18]80-х годов [*]*
Ошибка Лурье. Лирические сцены «Евгений Онегин» были написаны Чайковским в 1877–1878 гг.
[Закрыть]. И если «Онегин» Пушкина кажется нам сыном Байрона, то у Чайковского они даже не в родстве. Создавая своего «Онегина», Чайковский словно бежит от своего времени в прошлое, поэтому эта опера, может быть, одно из самых светлых и «очищенных» его произведений. Она не насыщена пессимизмом и страстным изнеможением, как большая часть его музыки.
Чайковского влекла песенная сфера. Он отдал ей большую дань, написав ряд опер и множество романсов. Но, несмотря на количество и качество всего созданного им в этой области, его подлинная сфера – инструментальная. Чайковский был по преимуществу инструментальным композитором, создателем русского симфонизма, почти не существовавшего до него и в котором он стал мастером, не превзойденным до сих пор. Здесь основная сущность его творчества, в то время как Мусоргский был композитором оперным. Дело не в том, что Мусоргский почти не сочинял инструментальной музыки, а поглощен был песенной. Существенно, что Мусоргский создавал свои звуковые образы, объективируя их, выражая их в их собственной природе и независимо от себя самого; Чайковский же даже в песенной сфере всегда оставался лишь самим собой. И в театральных формах он создавал лишь иллюзию образа; поет в этих образах всегда сам Чайковский, надевая маску действующего лица. Вместо английского рожка или кларнета мы видим Лизу, Германна, Онегина, Татьяну; но голос слышен всегда все тот же, его собственный голос. У него редки живые образы и неличные интонации (няня в «Онегине»). Они удаются Чайковскому только тогда, когда он лично не взволнован текстом, когда слова его не «уносят». Даже в вокальных ансамблях почти всегда сохраняется тот же характер субъективной интонации. Только его хоры поражают тем, что являются для Чайковского выражением чего-то объективного: самой жизни, рока, обреченности [*]*
Ср. с тем, что писал в 1961 г. о Чайковском Сувчинский:
«Конечно, музыкальный гений Чайковского был достаточно ярким и могучим, чтобы увлекать его, – возможно, чаще, чем хотелось бы ему самому, – к порывам вдохновения и поискам чисто музыкального порядка. Но по большей части его искания сводились к находкам и открытиям второстепенной важности, почти не затрагивая общеэстетических проблем, в которых он не выходил за пределы прочно устоявшегося академизма, нимало не тревожась по поводу музыкальной формы или языка. <…> Несчастье Чайковского состояло в том, что мир его чувств и переживаний, его нервное жизнелюбие были самыми обыкновенными, заурядными, бедными в духовном отношении, совершенно не способными подняться над житейскими буднями; а между тем его жизнелюбие необычайно сильно ощущается во всей его жизни и творчестве. Но эти чувства и переживания были „как у всех“; и досадно, кроме того, что им непременно надо было „выплескиваться“ наружу, становиться, без каких бы то ни было препон, достоянием всех и каждого».
(СУВЧИНСКИЙ,1999: 397–398)
[Закрыть].
С Чайковским кончился «пир» Мусоргского, Глинки, Бородина. Вместо былого богатства, расточительности и великолепия музыкальных сокровищ у Чайковского видишь уже очень прочно установленную профессиональную технику и ремесло. Как профессионал, он активен во всех областях композиции и пишет очень много в сравнительно короткий срок жизни. В его работе есть уже расчет, экономия средств и материала. Но если техника Чайковского рационалистична, он не рационализирует музыку. Какое же, в самом деле, рационализирование в спальне графини (в «Пиковой даме») с жутким хором приживалок, приготовляющих туалет графини так, как если бы он был погребальным, и напоминающих шекспировских парок? И какой рационализм во всей этой атмосфере смертной жути, которая как тень ходит за ним по пятам и всегда присутствует в его музыке? Все преувеличенная экспрессия и патологическая патетика в его музыке, откуда она? От невозможности выхода, ухода от себя. На примере Чайковского мы видим, что «верность самому себе» не всегда отрадное состояние. Форма у него не оригинальна, и все же – как это ни парадоксально – это не помешало Чайковскому создать музыку большого стиля. Но в этой музыке нет «кафарсиса», как говорят греки. Единственная возможность освобождения для него только в песенном самоуничтожении. Песенное изнеможение, надрыв, подъем, опять изнеможение и опять надрыв… И вместе с этим торжественный официальный стиль, соответствовавший стилю России конца его жизни, эпохи Александра III: ее прочности, непоколебимости ее устоев и норм закона.
Как и Глинка, Чайковский глубоко русский композитор, чего никак не хотели понять в Париже. Каким образом совершается его национальное становление – это его творческая тайна, тайна его темперамента, тембра его голоса, который ни с чем не смешаешь. Его расслышишь через разноголосицу всей музыки в мире. Связь с Глинкой у Чайковского интимная, семейного порядка. Она на линии приближения обоих к Западу, в то время как у Мусоргского связь с Глинкой была на линии удаления от Запада.
Любопытно, что симфонии Бетховена совершенно не задели инструментального стиля Чайковского, этого величайшего из симфонистов после Бетховена. Он отличается от Бетховена отсутствием динамической мысли, из которой вырастает бетховенский симфонизм. Чайковский пользуется готовыми формулами и, как только падает его эмоциональная насыщенность, заполняет пустоты риторикой, приближаясь к Шуману и Мендельсону.
Когда его не грызет тоска и меланхолия, он как бы «прогуливается в толпе», среди народа, образ которого он передает почему-то всегда веселым и пляшущим, или же бродит по петербургским салонам и балам, оттуда его вальсообразные ритмы. Его инструментальная форма растет всегда только из эмоционального насыщения, из «дыхания», и чувство пропорции определяется в большей мере эмоциональной экспрессией, чем самой звуковой материей. На вершине своего эмоционального подъема он доходит до состояния исступления и восторга, который можно бы назвать «интеллигентским радением», хотя эти два понятия как будто бы с трудом связываются (Мусоргский создавал радение народное). Это состояние радения – сфера сближения Чайковского с массами и его воздействия на них. Утратив эту силу воздействия в период модернизма, его музыка снова обрела ее уже после революции, хотя массы интеллигенции были уже нового типа.
* * *
Русский модернизм в музыке, как и в поэзии, получил явно символическую окраску, так как русское искусство всегда было ближе к миру идей, чем к миру конкретностей. Скрябин стал едва ли не самым ярким выразителем этого движения. Он ушел от национальной идеологии в искусстве без оглядки, опьяненный новым миром, открывшимся в начале XX столетия.
Скрябин был, конечно, очень значительным явлением в русской культуре. Прошло полвека с тех пор, как с него начался последний период русской музыкальной истории, кажется, еще столь недавней. В перспективе минувших десятилетий многое стало сейчас гораздо яснее, чем прежде. Скрябин не упал с луны в русскую музыку, как это казалось и до сих пор еще кажется многим [*]*
Возможно, аллюзия на свидетельство Бальмонта, которое Лурье, без сомнения, читал:
«Вскоре [т. е. в 1913 г. – И. В.] <…> я приехал в Москву и здесь увидел Скрябина. Эта встреча навсегда сохранится в моей душе, как видение ослепительной музыкальности. Это было видение поющих падающих лун».
(БАЛЬМОНТ, 1917: 22–23)
[Закрыть]. Он был субстанционально связан с русской музыкой, с ее традицией, и уж, конечно, он был проявлением русского духа. При жизни вокруг него создался культ, и молодежь видела в его музыке осуществление своих чаяний. Потом о нем забыли. Реакция наступила чуть ли не сейчас же после его смерти и зачеркнула его имя на долгое время. Реакция эта создалась на почве смены культурных планов, смены идеологий, смены эпох. После декадентских и символических теорий и идей конца XIX и начала XX века, после расцвета крайнего индивидуализма пришли война и революция, которые опрокинули культ эгоцентрической личности в искусстве и в жизни и поставили снова проблему коллектива и сближения искусства с народом. О Скрябине создалось мнение как о большой неудаче и падении. Но бывают «неудачи», которые значительнее многих удач.
Для Скрябина, так же как и для Мусоргского, музыка была не самоцелью, а только средством общения с людьми, осуществления – для Мусоргского – идей внемузыкальных; для Скрябина – сверхмузыкальных. Но в то время как для Мусоргского музыка была связью с народом в простом и прямом смысле, в самой жизни, для Скрябина не было «народа» в простом значении этого слова. Его путь вел от интимного личного плана к общему, или же, как говорили на жаргоне символистов, от келейного начала к соборному. Связь между индивидуальным и коллективным осуществлялась путем внутренним, в живом опыте, а не внешним соединением. Это был путь духовный и почти религиозный. Он не стал религиозным в подлинном смысле, и Скрябин не нашел настоящей внутренней свободы и целостной истины. Поэтому и произошло его падение. Он не сумел уйти от эгоцентрического постижения мира, и его «коллектив», его «соборность» состояли для него только из «посвященных».
Апокалиптическая философия, эсхатология, эзотеризм – все это было разлито в воздухе во всем мире в эту эпоху «предчувствий» и «предугадываний». Скрябин стал жертвой своего времени. Он выразил в своем творчестве только процесс «предварительный» в отыскании новой связи между миром и людьми, к которой каждый раз наново ведет опыт подлинного артиста. Не случайно его творчество оборвалось на едва начатом произведении, которое он называл «Предварительным действием».
Вполне возможно, что, если бы жизнь Скрябина не оборвалась так трагически в самом расцвете его сил, история современной музыки была бы совершенно иной. Его эгоцентризмом были поиски через себя, но не для себя. Вместо Бога он подставлял самого себя, то есть артиста; вместо истины – искусство. Вагнер до него делал то же самое. Но Вагнер создал германский миф. Скрябин же не успел создать свой миф, он только искал его – через восток.
Что принес Скрябин в русскую музыку? Экстаз, – экстаз как форму постижения и как форму музыкального воплощения. Пусть на ложной идеологической основе, но музыка Скрябина была утверждением, утверждением творческого процесса, актом принятия жизни в противоположность Чайковскому, чья музыка была почти сплошным криком отчаяния. Но Мусоргский и Скрябин – явления одного и того же духа, только отраженные в разных культурных планах, с различным идеологическим основанием.
Первый период скрябинского творчества был совершенно традиционен, типичен для русского музыканта. Основной тон его сочинений – трагический лиризм, который лишь постепенно пронизывается озаренностью, из нее рождается идея экстаза. С этого момента он пишет до конца жизни уже как бы одно и то же произведение. Уход от себя, достигаемое самоосвобождение приносит новое сознание – через экстатический подъем к состоянию чистого творческого восторга. Экстаз становится, таким образом, формой музыкального воплощения и формой сознания. Это проявляется в каждом из его сочинений последнего периода, в маленьких пьесах для рояля так же, как в оркестре.
Теперь проблема связи между личностью и коллективом («соборность» в аспекте нового национализма) снова поставлена во главу угла в России. В связи с этим изменится и отношение к Скрябину: его по-новому поймут и переоценят. Круг времени снова замкнется в новом эстетическом опыте.
Что произошло за последние 20 лет в чистой эстетике, в вопросах музыкальной композиции? Говоря формальным языком, мы скажем, что Скрябин окончательно разрушил основу тонального равновесия, держащуюся на так называемом отношении тоникодоминантовой гармонии, которая для него уже оказалась совершенно изжитой. В действительности, не говоря о других, уже Мусоргский осуществил то же самое в своем подлинном (нецензурованном) творчестве.
Как только традиционная основа рационалистического музыкального мышления оказалась вынутой, провалились и устои прежнего формального равновесия и начались поиски равновесия нового. Они были Скрябиным же намечены в центрах полярного тяготения обертоновой и унтертоновой гармонии, то есть высших и низших призвуков, построенных по ступеням натурального звукоряда. Отсюда пошла вся новая так называемая модернистическая музыка. В Европе происходило параллельно почти то же самое, но только при иных эстетических предпосылках.
Скрябин вел интуитивно-творческим путем значительно раньше других поиски синтеза гармонии и тембра. С его смертью путь оборвался и повис над пустотой. После него в Европе возникла так называемая атональная музыка. Атональная гармония не принесла решения проблемы, она привела только к анархии и к тупикам, так как решение вопроса может быть найдено лишь творческим путем, а не построением теоретических систем. Достижения скрябинской гармонии для русской музыки сыграли огромную роль, еще до сих пор не освещенную, в частности в углублении проблемы музыкального востока. В поздних гармониях Скрябина восточный лад отсвечивает уже совершенно чистый, без специфической примеси фольклора и этнографической экзотики [*]*
Ср. чрезвычайно любопытное впечатление Бальмонта:
«После того как целый год я был в Океании, на Яве, на Цейлоне и в Индии, я вернулся в Париж. После тропической природы и восточной музыки я нестерпимо жаждал столь любимого мною с детства фортепиано. В один из первых вечеров я пошел слушать одного знаменитого пианиста. Но вместо наслаждения я испытал мучение. Моя музыкальная впечатлительность изменилась. Кругом слушатели наслаждались, а я видел скучного человека, в скучном черном фраке и слышал, как из большого черного ящика он извлекает какими-то деревянными молоточками неполные звуки разных инструментов, сопровождавшиеся несомненным отзвуком дерева. После первого отделения я ушел. Вскоре после этого я приехал в Москву и здесь увидел Скрябина. <…> Это было то же фортепиано. Но на этот раз оно оправдывало свое наименование».
(Там же)
[Закрыть]. Поиски нового звукового лада смогут привести в будущем к созданию новой звуковой субстанции, уже чистой, в порядке музыкально-созерцательном, а не чувственно-эмоциональном.
* * *
Какова роль музыки Стравинского в исторической перспективе?
Для Стравинского музыка – это игра. Он всегда играет или, вернее, он стилизует: людей, вещи, идеи, чувства и самую жизнь; с таким мастерством, как редко кто из музыкантов до него. Так как он отрицает становление – оно у него отсутствует, в связи с этим отсутствует и трагическое постижение мира. Музыка для него не самоизживание. «Не ищите ничего за нотами, вы там ничего не найдете», – скажет вам Стравинский. – «До-диез – есть до-диез и ничего больше». Всякие поиски содержания – только иллюзия. Есть только голый процесс звуковой конструкции.
В исторической перспективе поразительно, в какой мере Стравинский является поправкой на Римского-Корсакова. Оба были убежденными профессионалистами. Культ ремесла (профессионального делания) у Стравинского доведен до полного его слияния с самой сущностью музыки.
По этому поводу интересно вспомнить рассказ Федора Толстого, друга Глинки. Глинка встретился с Толстым в Милане в 1834 году [*]*
У Лурье – ошибка. Музыкальный критик Ф. М. Толстой (псевд. Ростислав) называет 1832 год. См.: ГЛИНКА В ВОСПОМИНАНИЯХ, 1955: 106.
[Закрыть].
«Однажды, – говорил Толстой, – засидевшись поздно вечером на балконе Albergo del Pazzo, <…> мы разговорились о возможности выражения звуками различных душевных настроений. <…> Хорошо бы, – говорил Михаил Иванович, – написать нечто вроде баркаролы на следующую тему: месяц пронизывает лучами небольшую комнату <…>. В глубине на белоснежной постели покоится молодая, красивая итальянка. Шелковистые, густые черные волосы разметались и покрывают плечи и грудь, – но не совсем! (и Глинка подмигнул). Красавице не то чтобы душно, а так себе, очинно приятно – и нега и страсть просвечивают у нее в каждой жилке… А, как ты думаешь? Ведь все это как есть можно выразить в музыке. – Я расхохотался! „Ну, конечно, – ответил я, – и луну и черные волосы – все это можно целиком изобразить звуками!“ – Не говори пустяков, – внушительно возразил М. И., – черные волосы само по себе; но вот то душевное настроение, производимое подобным зрелищем, все это целиком можно выразить музыкою» [*]*
Цитата уточнена по: Там же: 107.
[Закрыть].
Таков путь, пройденный от Глинки к Стравинскому.
Творчество Стравинского в совсем еще близком прошлом имело огромное значение, и его произведения и сейчас еще на первом плане современной музыкальной жизни. Но эстетика и идеология этого искусства, провозглашенные как символ веры, находятся в явном противоречии с русским духом.
Эта теория абсолютной или «чистой» музыки, музыкальной архитектуры не совсем нова. Она уже проповедовалась Гансликом в Германии в [18]70-х, 80-х годах и была поддержана в России Антоном Рубинштейном, который был первым пионером профессионального движения в России и яростным врагом националистов. Эта теория «о музыкальном прекрасном» (как она называлась по Ганслику) была сдана в архив до той поры, пока ее не подновили модернисты. Поскольку Стравинский исповедует эту теорию, он совершенно прав, когда говорит, что не считает себя больше русским музыкантом, а просто музыкантом.
Это не мешает тому, что его темперамент остается русским и выдает его в любой интонации его сочинений. Ряд его произведений глубок и насыщен подлинной человечностью. Есть противоречие между тем, что он проповедует, и тем, что он создает. Стравинский начал свой путь тем, что вернулся к истокам древнерусской музыкальной стихии. Языческое исступление «Весны священной» было формой экстаза и огромным творческим напряжением. Сознание, которое он принес из древнего хаотического мира, долго питало его последующее творчество.
Разнообразие стиля Стравинского достигается множеством методов, которыми он пользуется в связи с многообразием звуковой материи. Он предпочитает пользоваться материей уже существующей, готовой и, следовательно, нейтральной и безличной, чем создавать новую материю. Вот почему большинство его произведений – стилизации. Изжив прошлое и оборвав связь с Россией, Стравинский очутился в самом центре западноевропейского музыкального мышления, критически его развивая. Таким образом, он, один из первых, обнаружил тупики, перед которыми оказался музыкальный модернизм.
Если творчество Скрябина привело к созданию новой концепции музыкальной гармонии, то главный смысл творческой активности Стравинского был в перемещении проблемы из области гармонии в область ритма. Стравинский «взбудоражил» ритм, как Скрябин до него взбудоражил гармонию. Стравинский начал свою деятельность полным высвобождением ритма как стихийной силы, физической, моторно-движущей. В «Весне священной» ритм достигает мощи, до того неведомой. Затем он укротил эту силу, подчинил ее и свел ее к роли конструктивной в структуре звучаний.
В перспективе будущего мы находимся перед третьей музыкальной стихией – перед мелодией. Ее проблема может быть решена только созданием нового синтеза и тесной связи с проблемами гармонии и ритма.
В том же плане находится для Стравинского в данный момент и проблема того, что он называет Chronos’oм, или музыкальным временем. Но Chronos – это еще нечто иное, чем только ритмическая структура звучащего времени. Это музыкальный ритм самого языка, а не последование хорошо проскандированных слоганов. Таким образом, мы оказались снова перед проблемой музыкального языка [*]*
Строго говоря, концепция «Хроноса» принадлежит не Стравинскому, а Сувчинскому. Стравинский лишь пропагандировал ее в цикле гарвардских лекций 1939 г. и опубликованной на их основе франкоязычной книге «Музыкальная поэтика» (1942). См. подробнее статью Сувчинского «Понятие о времени и Музыка (размышления о типологии музыкального творчества) (1939)» в настоящем издании.
[Закрыть].
Не профессионализм и не теории вызвали к жизни русскую музыку. Ее основа – вера в народ и органическая связь с ним: убеждение, что в музыке обнаруживается пустота, когда в ней отсутствует человек, который заменяется техникой. Техника необходима, но она не должна становиться самоцелью.
Одно из противоречий в музыке в том, что техника должна быть рациональна, в то время как дух музыки иррационален. Одни стремились подчинить техническую рассудочность творческому воображению (это редкие случаи – в России Мусоргский и Скрябин, в Европе – Шопен и Дебюсси), другие хотели сделать рассудочным самый смысл музыки – таково большинство европейских музыкантов XIX столетия и русские, за ними следовавшие: Римский-Корсаков, Стравинский. Для этих последних задача сравнительно легка: она сводится исключительно к ремеслу, они производят хорошие или плохие вещи.
Первых же мучает проблема необходимости пленить и воспроизвести свой внутренний мир. Но в музыкальной иерархии значительнейшее достигает высших ступеней вознесения духа тем, что мы можем назвать почти бесплотностью звуков.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1944.







