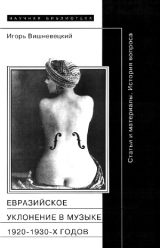
Текст книги "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Автор книги: Игорь Вишневецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Игорь Георгиевич Вишневецкий
«Евразийское уклонение» в музыке 1920–1930-х годов
ИСТОРИЯ ВОПРОСА [*]*
Избранные главы из настоящей работы увидели свет в: ВИШНЕВЕЦКИЙ 2003. Этой далеко не полной публикации предшествовала совсем краткая версия: ВИШНЕВЕЦКИЙ 2000.
[Закрыть]
Мысли бегут. А Чингисхан и Карокорум? Евразийский контраст Акрополя? Я не знаю с уверенностью, что меня больше волнует: известные пейзажи Парижа, связанные с историческими моментами чужой (или общечеловеческой?) истории, или хватает за душу воспоминание о каком-нибудь моменте или лице в азиатском нашем раздолье? От Азии я, во всяком случае, оторвать своего Я не могу и чувствую ложь, однобокость в рассудочной настроенности в отношении Запада. Корни мои не здесь! – Словом, юный скиф Анахарсис. Хотя и не юн и далеко не скиф. Если дано было бы продумать или, это крепче, прочувствовать ход развития культуры, не получился бы замкнутый круг? А этого инстинктивно боишься, хотя к этому стремишься, но надеешься всегда на срыв в параболу, на отлет.
Василий Никитин25 декабря 1925 г. Париж
Истории русской музыки не существует в научном смысле.
Она существует лишь в индивидуальном сознании музыкантов и в их непосредственном творчестве.
Это глубоко знаменательный факт.
Артур ЛурьеАпрель 1920 г., Москва
1. Введение
а) Евразийство с точки зрения истории музыки
Проекция евразийского мировоззрения в область музыкальной эстетики и творчества, а также то, насколько проекция эта повлияла в 1920–1930-е годы на дебаты о путях развития западной музыки, требует всестороннего исследования. Такая тема претендует на книгу, не меньше. Ниже на суд читателей и представляется эта самая книга, состоящая в первой части из монографического исследования, а во второй – из текстов и материалов тех, кто принял участие в музыкальном проекте евразийцев. Тексты по большей части были опубликованы в труднодоступных современному читателю музыкальных, политических или литературных изданиях (в основном вне России). Не рискуя определять музыкальное евразийство как отдельное эстетическое направление, я все-таки полагаю, что можно говорить о своеобразном эстетико-политическом уклонении в творчестве нескольких связанных обшей судьбой композиторов и музыкальных теоретиков.
Как мы теперь знаем, с евразийскими идеями были знакомы и в большей или меньшей степени симпатизировали им оказавшиеся за рубежом русские композиторы Игорь Стравинский (1882–1971) [2]2
Подробнее см. в работах Ричарда Тарускина: TARUSKIN 1996, II: 1226–1236 et passim; TARUSKIN, 1997: 389–467.
[Закрыть], Сергей Прокофьев (1891–1953) [3]3
О знакомстве Прокофьева с ранним евразийским, сборником «На путях» и его реакции на это издание см. письмо Прокофьева Сувчинскому от 11 июля 1922 г. в: СУВЧИНСКИЙ, 1999: 72–73, а также в настоящем томе.
[Закрыть], Владимир Дукельский (1903–1969) [4]4
Участие Дукельского в евразийском проекте будет подробно рассмотрено в настоящей работе.
[Закрыть], Александр Черепнин (1899–1977) [5]5
Как убедительно свидетельствует Л. З. Корабельникова, не будучи связан с евразийством организационно, Черепнин сознавал себя композитором «евразийским». См. подробнее: КОРАБЕЛЬНИКОВА, 1999: 202–206.
[Закрыть]; черты, близкие евразийскому мирочувствованию, можно обнаружить у юного Игоря Маркевича (1912–1983) [6]6
Хотя бы в идее религиозной революции, как она выражена в тексте и партитуре «Псалма» (1933); подробнее см. далее.
[Закрыть], лишь в 1940-е годы переключившегося с сочинения музыки на дирижирование. Список этот впечатляет. Благодаря активности названных, оказавшихся вне пределов России/СССР композиторов (Сергей Прокофьев в 1936 г. возвратился в СССР [7]7
Следует раз и навсегда поставить точку в вопросе о дате возвращения Прокофьева. Он восстановил советский (заграничный) паспорт в 1927 г., во время первого приезда в СССР, по личному ходатайству замнаркоминдела Литвинова (ПРОКОФЬЕВ, 2002, II: 474–475, 550), однако до 1938 г. сохранял и нансеновский документ Лиги наций для «перемещенных лиц». Летом 1959 г., при разборке архивов парижского отделения Российского музыкального издательства Н. и С. Кусевицких, Клод Самюэль обнаружила в ящике с личными вещами Прокофьева относящееся к последней поездке композитора за рубеж приглашение на очередное собрание лиц без гражданства (SAMUEL, 1971: 163–164). По предположению Н. Л. Слонимского, нансеновский паспорт давал Прокофьеву возможность ездить по странам, с которыми у СССР дипломатических отношений еще не было. 29 сентября 1960 г. Слонимский запрашивал о подробностях у Дукельского:
«…у Прокофьева за границей было два паспорта – нансеновский и советский. Я определенно припоминаю, как однажды, с полухвастовством, он упомянул об этом мне, но теперь я охвачен сомнениями. Вы путешествовали с Прокофьевым и можете знать подлинные факты. Поскольку у меня самого был нансеновский паспорт, то припоминаю, что только с этим паспортом бывший советский гражданин мог путешествовать в такие страны, как Испания. До 1933 г. советский паспорт был бы неприемлем в Соединенных Штатах, так что Прокофьев, вероятно, не мог прибыть и сюда с советским паспортом»
(в оригинале по-английски; VDC, Box 119). Окончательное переселение Прокофьевых в СССР состоялось в 1936 г., после того как семья ликвидировала парижскую квартиру в доме 5 на rue Valentin Haüy. В письме к Петру Сувчинскому от 21 июля 1968 г. из Москвы первая жена композитора Лина Прокофьева вспоминает:
«Мы жили на Валентин с 1929-го до 1935 года, после чего мебель мы отправили в Москву через Архангельск. В это время мы были в США»
(BnF, Mus. Res. Vm. Dos. 92[45 bis]). Последнее письмо Прокофьева, отправленное Н. Я. Мясковскому с rue Valentin Haüy, датировано 15 ноября 1935 г. (ПРОКОФЬЕВ – МЯСКОВСКИЙ, 1977: 440). О переезде в Москву в 1936 г., но со ссылкой на то, что задержка в Париже до весны 1936-го была связана с необходимостью дать сыновьям доучиться очередной год во французской школе, сказано и в опубликованных в СССР воспоминаниях Л. И. Прокофьевой (ПРОКОФЬЕВА, 1965: 219).
[Закрыть]) комплекс эстетических идей, которые я буду увязывать ниже с евразийством, получил распространение в среде западно-еропейских и американских музыкантов и, уже вне связи с евразийским течением, стал предметом оживленного и заинтересованного внимания современников.
Чем же объяснить успех евразийства именно среди композиторов, а не, скажем, среди оказавшихся за пределами отечества русских художников? Ответ прост: Петр Петрович Сувчинский (1892–1985) и Артур Сергеевич Лурье (1891–1966), входившие в число участников евразийского движения, были и активными музыкальными деятелями [8]8
Скоропостижно скончавшийся В. П. Варунц, вероятно в ответ на ранний вариант этой работы (ВИШНЕВЕЦКИЙ, 2000), утверждал, что Лурье «к евразийству имел очень отдаленное отношение» (СТРАВИНСКИЙ, 1998–2003, III: 210). Дальнейшее изложение, убежден, решит вопрос о евразийстве Лурье раз и навсегда.
[Закрыть]. Сувчинский проявил себя в 1910-е годы в России как издатель журналов «Музыкальный современник» и «Мелос», а после, в эмиграции, – как заинтересованный советчик Дягилева, Прокофьева и Стравинского, автор запомнившихся многим статей в «La revue musicale» [9]9
SOUVTCHINSKY, 1932; 1939. Русские переводы статей см. в: СУВЧИНСКИЙ, 2001, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, 2003: 471–481 и в настоящем томе.
[Закрыть]и части текста гарвардских лекций Стравинского (1939) [10]10
Русский оригинал написанного Сувчинским текста опубликован впервые в: СУВЧИНСКИЙ, 1999: 276–283.
[Закрыть], легших, в свою очередь, в основу книги Стравинского «Музыкальная поэтика» (1942) [11]11
Как теперь документально подтверждено, Стравинскому принадлежит лишь общий план лекций: сам текст был написан музыковедом Роланом-Манюэлем, ответственным за французский язык и стиль изложения, при активном участии композитора и Петра Сувчинского, ответственного, в свою очередь, за концептуальную часть «Музыкальной поэтики». Сувчинскому принадлежит не только анализ советской музыки 1920–1930-х годов в пятой лекции, но и концепция «музыкального феномена». Подробнее см. [Савенко Светлана] П. П. Сувчинский и «Музыкальная поэтика» И. Ф. Стравинского в: СУВЧИНСКИЙ, 1999: 273–275. Лекции Стравинского впервые были опубликованы в виде книги: STRAWINSKY, 1942.
[Закрыть]. Лурье в музыкальном плане был известен как оригинальный композитор и ближайшее доверенное лицо Стравинского в 1929–1939 годах, а также как недюжинный теоретик и организатор. До октября 1917 г. он был близок футуристам, а после возглавил Музыкальный отдел (МУЗО) Наркомпроса. Однако, оказавшись в начале 1920-х годов в Берлине, Лурье предпочел задержаться в Западной Европе, сделавшись невозвращенцем. Два левоевразийских издания – парижские сборники «Версты» (1926–1928) и выходившая в Кламаре, под Парижем, еженедельная газета «Евразия» (1928–1929), оба издававшиеся при редакторском участии Сувчинского (а «Евразия» еще и при редакторском участии Лурье), – были заполнены интереснейшими статьями на музыкальные темы, принадлежавшими перу как самого Лурье, так и другого жившего тогда в Западной Европе русского композитора, Владимира Дукельского. Кроме того, и Сувчинский и Лурье публиковались в 1920–1930-е во франко– и англоязычной, а Лурье еще и в русской эмигрантской прессе (Сувчинский эмигрантской прессы избегал). Парижские премьеры сочинений Лурье давали современникам представление о том, какой может быть музыка, максимально соответствующая «евразийскому мировидению». Не следует сбрасывать со счетов и близкой дружбы Лурье, католика по вероисповеданию, с ведущим философом-неотомистом Жаком Маритеном [12]12
После вторичной эмиграции из оккупированной нацистами Франции в США материально стесненный Лурье прожил последние десятилетия своей жизни в доме Жака Маритена в Принстоне.
[Закрыть], защитником идеи «порядка» в эстетике и философии, так гармонировавшей с эстетико-политическими взглядами самого Лурье [13]13
Вот что, к примеру, утверждал Маритен в работе «Религия и культура» (1930–1933):
«Понятие порядка касается понятия единства, то есть принадлежит к области трансцендентального, и допускает самые разные планы и степени реализации».
Сходные идеи французский философ высказывал и ранее (цит. по: МАРИТЕН 1999: 71).
[Закрыть], и, конечно же, все расширявшихся контактов другого евразийца, Сувчинского, с западноевропейскими музыкантами и его все возрастающей роли в их среде как уникального арбитра в вопросах эстетических, да и не только в них. Музыка рассматривалась Сувчинским и Лурье как поле приложения определенных историко-политических концепций, как средство их пропаганды, но ближайшим объектом пропаганды были, конечно, не западные европейцы, а русские экспатрианты. Сувчинский стремился приобщить к близкой евразийцам проблематике Прокофьева (поначалу не слишком удачно [14]14
Прокофьев, хотя и отнесся к идеям Сувчинского с серьезностью, реагировал на учительский тон евразийских публикаций с изрядной долей иронии. (См. упомянутое в сноске 2 на с. 7 ( примечание № 3 – верст.) письмо к Сувчинскому).
[Закрыть]). И Сувчинский и Лурье были близки со Стравинским, который сам пришел к прото-евразийским идеям еще в середине 1910-х годов [15]15
См. подробнее у Тарускина: TARUSKIN, 1997: 411–414.
[Закрыть], а также с юным Дукельским, вскоре, в 1929 г., уехавшим в Северную Америку и для дальнейшей пропаганды евразийских идей более не достижимым, но зато создавшим в Новом Свете очень близкую духу евразийства ораторию «Конец Санкт-Петербурга» (1931–1937) [16]16
Премьера «Конца Санкт-Петербурга» состоялась в Нью-Йорке 12 января 1938 г.; партитура хранится в собрании Музыкального отдела Библиотеки Конгресса США.
[Закрыть]. Дукельский, в свою очередь, был очень дружен с Прокофьевым и – через «Конец Санкт-Петербурга», с партитурой которого последний был знаком и даже заинтересовал ею Мясковского [17]17
См. в письме Прокофьева к Дукельскому от 14 января 1938 г. из Парижа:
«Мясковский смотрел партитуру и хвалил»
(VDC, Box 118).
[Закрыть], – повлиял на две экспериментальные советские кантаты Прокофьева, «К XX-летию Октября» (1936–1937) и «Здравицу» (1939).
Я постараюсь продемонстрировать, как композиторство, писание музыкально-эстетических работ и философско-эстетические размышления на музыкальные темы становились формой политической деятельности, а также результаты предложенного зарубежными русскими музыкантами сплава эстетики и политики. Может быть, учитывая использование ряда идей евразийства разными по ориентации политическими силами внутри современной России, данный анализ послужит уроком на будущее – если, конечно, мы допускаем, что кто-либо когда-либо учится на опыте других.
б) Предыстория «евразийского подхода»:
профессионализация русской музыки и ее издержки
Следует начать с кризиса музыкального национализма. Данное выражение употребляется здесь, как и в современной западной литературе, скорее в смысле «национального, патриотического направления», которое не следует путать с направлением шовинистическим и ксенофобским. Мечта о согласии разума нации (интеллигенции) с ее телом, двигавшая начиная со второй половины XIX в. огромным числом русских философов, писателей, политиков и музыкантов, породила, среди прочего, и русскую композиторскую школу.
Школа эта была озабочена созданием музыки, ни в чем не уступающей, скажем, Вагнеру (желание Римского-Корсакова), не говоря о французских образцах. В XX в. Дебюсси, Равель и «Группа шести» уже многому учились у своих восточных коллег.
Однако к началу XX в. популистское мышление целостного, органицистского толка как в русской философии и политике, так и в искусстве, в том числе музыкальном, превратилось в рутину, лишь по недоразумению ассоциировавшуюся с чем-то «передовым». Такой, к примеру, много обещавший композитор, как А. К. Глазунов (1865–1936), в целом к 1910-м годам превратился в местного аналога поздних романтиков Рихарда Штрауса и Эдуарда Элгара и, как и они, продолжал производить масштабные музыкальные полотна (в данном случае балеты, симфонии и концерты) с единственной целью – поддержать статус-кво того, что еще понималось как «национальная школа», но на деле превратилось в общеевропейский стиль и исчерпало эстетический заряд обновления.
Собственно, изменения, происшедшие в восприятии русским образованным обществом музыки с 1860-х годов – времени, когда были сформулированы цели и задачи национального музыкального строительства, – по 1910-е, оказались столь велики, что жизни одного человека на осознание этих изменений не хватало, даже если это и был такой высокоодаренный композитор и педагог, как Глазунов. Ведь в начале 1860-х профессиональная музыка занимала достаточно маргинальное положение в русском обществе, а в культуре в целом уступала по значимости живописи, литературе и даже естественным наукам [18]18
Вот почему, взявшись за характеристику музыкальных интересов влиятельного в 1830–1840-е годы кружка Николая Станкевича, Борис Асафьев (Игорь Глебов) вынужден был признать, что особых музыкальных интересов, в нынешнем понимании, у Анненкова, Бакуниных, Белинского, Боткина, Станкевича не было – так, легкая меломания. Материал пришлось собирать буквально по крохам (АСАФЬЕВ, 1928).
[Закрыть]. Иными словами, мало что предвещало резкую перемену в отношении к музыкальному искусству. Но благодаря созданию консерваторий в крупнейших городах, а также просветительской деятельности руководимого поначалу «музыкальным немцем» Антоном Рубинштейном (1829–1894) Императорского русского музыкального общества (ИРМО) и успеху выдвинутой патриотически настроенными композиторами эстетической программы, за какие-нибудь сорок лет, т. е. на памяти всего двух поколений, была наконец сформирована оригинальная композиторская и исполнительская школа, и дальнейшее развитие русской музыки оказалось возможным в двух направлениях: во-первых,в сторону интенсивного освоения очерченного «национального звукового пространства», во-вторых,в сторону экстенсивного его расширения. Естественно, путь освоения только что осознанного как своёвиделся наиболее разумным, экономичным. Кроме того, стала появляться широкая, хотя еще и не массовая, аудитория, интересовавшаяся именно тем, что тогда понималось под русским национальным направлением в музыке. Подробнее о росте популярности концертов русской музыки нужно говорить с цифрами в руках, однако необходимая статистика еще не опубликована. Поэтому набросаем лишь главные детали изменившейся картины.
Уже в 1900-е годы посещение концертов образованными классами, а также обучение детей основам исполнительства (без намерения продолжать серьезную музыкальную карьеру в дальнейшем) стало явлением столь же привычным, сколь привычным и необходимым для детей из определенных семей – изначально дворянских, но с ростом интеллигенции все менее и менее сословно замкнутых, – было обучение в высших учебных заведениях и знание языков. Я не случайно касаюсь социологии явления. Успех был обусловлен как деятельностью самих музыкантов, так и ответом на нее общества. Изменение статуса музыки поддерживалось также успешным оформлением единого выразительного языка «русской школы», который к 1900-м годам осуществил себя как язык позднеромантический. Композиторы и исполнители, с одной стороны, конденсировали эмоции и чаяния «мыслящих людей», что сближало их с ролью писателей и критиков в тогдашней русской литературе, обеспечивая успех таких композиторов, как Чайковский и Рахманинов; с другой же стороны – им исподволь уготавливалась роль жрецов и даже «сверхчеловеков», что обусловило успешный дебют целой плеяды исполнителей-виртуозов, выучеников русских консерваторий, разъехавшихся вскоре по всему свету, а также сенсационно-кратковременную популярность Скрябина. Сочетание общественной значимости и «жреческого», «жертвенного» характера деланья настоящей музыки стало в конце концов восприниматься как нечто специфически русское.
Описанная парадигма не умерла и в советскую эпоху, сохранившись как минимум до начала 1990-х. Актуальность этой парадигмы для русских слушателей позволила Артуру Лурье именовать Шостаковича – основываясь на критериях его успеха – «Чайковским» своего времени [19]19
«Шостакович это почти Чайковский, на советский лад» (ЛУРЬЕ, 19 436: 372).
[Закрыть]. Теми же причинами был, думается, обусловлен в 1970–1990-е высокий культурный статус Альфреда Шнитке. Точности ради заметим, что почти ничего специфически русского – хорошо ли, плохо ли – в подобном взгляде нет; ближайшую параллель ему находим в традиции австро-немецкой, откуда это понимание и было заимствовано русскими наряду с ключевыми для зрелой русской композиторской традиции жанрами: симфонией, инструментальным концертом, сонатой, отчасти романсом и оперой (в последних двух случаях сказались на раннем этапе также итальянские влияния). Да и сама система образования в стране была выстроена по немецкому образцу. Россия, в сущности, шла к тотальной профессионализации (и массовизации) музыкального исполнительства, которую в 1930 г. с изумлением наблюдал в Германии Николай Набоков (1903–1978), активный участник так называемой «парижской группы» русских композиторов. Упомянем тех, кто принадлежал к этому интересному нам «западному» (но отнюдь не западническому!) крылу композиторов, наиболее активному в 1920–1930-е годы и объединявшему почти всех, кто по причинам эстетическим и политическим – причем эстетика, как правило, и равнялась для них политике – оказался в Западной Европе. Помимо самого Набокова, к «парижской группе» русских композиторов могут быть причислены Иван Вышнеградский, Владимир Дукельский, Артур Лурье, Игорь Маркевич, Николай Обухов, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский, Александр Черепнин и живший в 1920-е и в начале 1930-х в основном в Германии Николай Лопатников. Три уехавших на Запад «корифея» русской предреволюционной музыки – Александр Глазунов, Николай Метнер и Сергей Рахманинов – держались от парижан в стороне. Продолжал сочинять, но в прежней манере, и живший в Париже отец одного из «младших парижан» Николай Черепнин; Александр Гречанинов, тоже обосновавшийся в 1925–1939 годах во французской столице, занимал настолько эстетически консервативную позицию, что из живого музыкального процесса выпадал даже больше, чем Глазунов, Метнер, Рахманинов и Черепнин-старший. Именно поэтому заграничное творчество последних – Сувчинский иронически именовал его «складом старинных вещей» [20]20
См. об этом в сводной записи в дневнике Прокофьева за август 1929 г.:
«…в русской церкви Сувчинский встретил Глазунова, который подошел к нему и тут же в церкви <…> принялся ругать Асафьева за интриги, которые тот затевает в Консерватории. <…> Сувчинский прибавил, что в это время из другого угла показался Метнер, а из третьего – Черепнин – и он обратился в бегство при виде этого склада старинных вещей».
(ПРОКОФЬЕВ, 2002, II: 721)
[Закрыть]– остается за пределами настоящего изложения.
Обратимся к впечатлениям Николая Набокова. Вот обширная выдержка из его очерков музыкальной жизни Веймарской республики, опубликованных в парижских сборниках «Числа». Очерки эти написаны по свежим впечатлениям от поездки к жившему в Берлине двоюродному брату, писателю Владимиру Набокову-Сирину.
На новые постановки в каком-нибудь Веймаре тратится больше денег, чем в год в парижской опере.
И в каждом городе сидит по дирижеру, иногда замечательному – всемирно знаменитому, иногда просто хорошему капельмейстеру, но всегда опытному технику оркестра, знающему свое дело, ремесленнику. У дирижера серия симфонических концертов. <…>
Кроме того: – дети в школах поют, поют в два голоса, чинно и скучновато девушки по субботам на улицах, поют в Bierfest’ax [праздниках пива. – И. В.] студенты, административные власти маленького городка, пожарные, полиция, рабочие и крестьяне. Поют по-школьному, в два голоса, фальшивя и часто с такими нюансами, от которых страшно становится, но всегда с увлечением, серьезно относясь к делу, следя по нотам за песней и стараясь петь чисто. <…>
Музыка для немца есть насущная потребность, без которой он не может жить. <…> Он ею питаем, она для него необходимое условие жизни, как необходимы ему еда, сон, пиво, модернизация домов и квартир, сигара, семья, книги, работа, мечты – т. е. все, чем заполняется существование среднего немца. Звучит все это очень некрасиво, но как это хорошо! <…> Говоря экономически: на все это производство есть массовый потребитель. Постоянный обмен между потребителем и производством и рождает ту высокую, первокачественную немецкую музыкальную культуру, равной которой не существует ни в какой другой стране [21]21
НАБОКОВ, 1930–1931, IV: 200–201.
[Закрыть].
Мнение Николая Набокова характерно, потому что оно фокусирует в себе крайнюю заинтересованность, косвенную попытку мерить родным аршином (а как было бы у нас в России? наверное, без подобного усердия…)и критику буржуазного массового общества слева. Далее в очерках Набоков называет композитора – для массового общества лишь производителя востребованного товара – «крепостным поставщиком» [22]22
Там же, V: 215.
[Закрыть]. Подобные высказывания в устах композитора, после Второй мировой войны ведавшего музыкальной реконструкцией в американской зоне оккупации Германии и во многом способствовавшего изменению художественного климата оккупированной страны, а в конце жизни именовавшего себя «демократическим социалистом» и входившего в левую администрацию западноберлинского мэра Вилли Брандта в качестве советника по культуре, совсем не случайны. Пафос очерков Николая Набокова во многом определяется требованием справедливого распределения музыкального продуктасреди масс – очевидно, уже тогда противоположным и превращению его в капиталистический товар, и жреческой мумификации в качестве «академической», «национальной» и пр. ценности, – а также стремлением преодолеть гегемонию просвещенного цивилизаторства над «варварским», т. е. идущим не от знания и мастерства, но от «внутренних импульсов», эмоциональным отношением к культуре и ее формам. Отличие же России 1910–1920-х от наблюдаемой Николаем Набоковым Веймарской Германии – чисто хронологическое: у последней за плечами было как минимум два столетия непрерывной профессионализации и движения профессионального музицирования в массы. Что и позволило нацистскому музыковедению в 1930-е объявить музыку «самым немецким из искусств» [23]23
О чем см. книгу Памелы М. Поттер: POTTER, 1998.
[Закрыть]. У русской музыки – при стремительной профессионализации и повторении немецкой модели – тоже были все потенции стать «самым национальным» из искусств, тем более что, как и Германия, Россия в 1920-е годы стояла на пороге превращения в массовое общество. Так бы и произошло, не возникни мощной реакции против стремительного подавления профессиональным музицированием неокультуренной, идущей от умения эмоционально, а не только интеллектуально, по рациональному «академическому» стандарту, брать сам предмет музыки – реакции эксцентрической по отношению к цивилизаторскому национализму, сознательно «провинциальной», «периферийной» и, конечно же, «варварской». Эта реакция была наиболее ярко представлена Стравинским периода от «Весны священной» до «Свадебки», Прокофьевым в 1910-е, 1920-е и даже в 1930-е годы, а также несколькими русскими композиторами, чье зрелое творчество протекало за пределами страны и осталось в ту пору не востребованным прозападноевропейски настроенными музыкальными кругами внутри России. Я имею в виду в первую очередь Артура Лурье конца 1920-х и 1930-х годов и Владимира Дукельского в 1930-е годы. Отчасти примыкают к этой тенденции юный Игорь Маркевич, от композиторства в 1940-е годы отказавшийся, и ранний Александр Черепнин. Независимая по своим целям и задачам от западных коллег, но географически «западная группа» русских композиторов отвергала заимствованный у австро-германской профессиональной музыкальной традиции стандарт национального, часто идентичный конвертируемому в массово употребимое. Как не без гордости говорил в начале 1930-х Лурье,
благодаря Стравинскому, новая русская музыка на Западе вышла на международную арену. Она не утратила при этом национального характера, но отличительной особенностью нашей западной композиторской группы является то, что в ней ликвидированы те установки на «экзотику», которые считались прежде необходимой принадлежностью русского стиля, как кавиар, водка и балалайка. <…> После Стравинского молодые на Западе уже как бы по традиции идут за ним по пути разрешения общих проблем, а не специфически национальных [24]24
ЛУРЬЕ, 1933: 228.
[Закрыть].
«Разрешение общих проблем» было по сути своей бунтом против городской «культурной колонизации», цивилизаторского подчинения исторически сложившегося, «низового» гармонического, ритмического и мелодического языка территорий, ассоциировавшихся в начале XX в. с «периферийной Россией», – ее проевропейским культурным центрам. Как свидетельствовал в книге «Made in Italy» Игорь Маркевич, сам выходец из верхушки вестернизированного культурного слоя, «сверхспешная модернизация лишила верхние классы укорененности в стране. Вследствие вестернизации они начали вести себя в собственной стране, как англичане в Индии» [25]25
MARKEVITCH 1949: 222.
[Закрыть]. Отклик критика «The Sunday Times» Эрнста Ньюмана на лондонскую премьеру «Свадебки» Стравинского: «…музыкальная Европа более чем чуть-чуть подустала от мужика с его плохо пропеченным мозгом… Вся партитура наделе есть продукт музыкального атавизма» («…musical Europe is already more than a little tired of the moujikand his half-baked brain… The whole score is, indeed, a piece of musical atavism») [26]26
MACDONALD 1975: 329.
[Закрыть]– как нельзя более точно описывает существо конфликта. «Музыкальная Европа» – это, конечно, подлинное мерило рационального и цивилизованного, которому противостоит «плохо пропеченное» низовое(в системе координат цивилизаторов) культурное сознание географических окраин, которое еще надлежит хорошенько пропечь. Лингвист и один из будущих идеологов евразийства кн. Н. С. Трубецкой (сын знаменитого философа-идеалиста) в книге «Европа и человечество» (1920) – первом манифесте нарождающегося евразийского движения – прямолинейно и резко говорил о культурном империализме современных ему западных европейцев. Утверждаемая ими повсеместно европейская (т. е. единственно правильная западная) культура, по мнению Трубецкого, «не есть нечто абсолютное, не есть культура всего человечества, а лишь создание ограниченной и определенной этнической и этнографической группы народов, имевших общую историю» [27]27
ТРУБЕЦКОЙ, 1920: 79 (переиздано в: ТРУБЕЦКОЙ, 1995).
[Закрыть]. Но «триумфальное шествие „цивилизации“ должно будет прекратиться: одни романогерманцы без поддержки уже европеизированных народов будут не в силах продолжать дело духовного порабощения человечества» [28]28
Там же: 82.
[Закрыть]. Кажется вполне символическим, что изо всех помянутых Ньюманом в негативной рецензии участников лондонской премьеры – во время которой партии четырех роялей исполняли французы Орик и Пуленк, итальянец Риети и русский Дукельский – именно юному Дукельскому выпала, по взаимному жребию, честь вывести зарвавшегося цивилизатора за нос (довольно длинный) из театра, где шли представления «Свадебки». Критик бежал, не дожидаясь публичного позора [29]29
Идея своеобразного наказания Эрнста Ньюмана принадлежала Дягилеву, который сказал четырем молодым композиторам:
«Своей подлой рецензией он оскорбил Россию, Игоря Стравинского, меня и вас, моих сотрудников».
См. подробнее: DUKE, 1955: 185–186.
[Закрыть].
в) Скрябин и конец академического национализма
Первым, кто выступил против академического национализма (т. е. буржуазного цивилизаторства), был в глазах многих русских музыкантов Скрябин. Характерными чертами, определившими «точно с луны упавшесть» Скрябина, были: во-первых, ничем не сдерживаемый культ независимого, индивидуалистического «я», отличный от центральной для тогдашней русской традиции веры в единство художнического ума и народного тела; во-вторых, оценка собственной музыкальной деятельности как поступательного приближения к акту мистериального, космического развоплощения этого творческого, индивидуалистического «(сверх-)я», намеченного к свершению где-то в географическом сердце Евразии, в столь любимых русскими теософами (а Скрябин был увлеченным теософом) горах Индии или Тибета, т. е. упор на революцию в сознании одного и многих соучастников грядущего действа; в-третьих, вынос себя самого – москвича по рождению – за географические скобки тогдашнего русского пространства: жизнь в Швейцарии, Англии, поездки в США… Между тем «Скрябин не упал с луны на русскую музыку, как это казалось и до сих пор еще кажется многим», – писал в 1944 г. Артур Лурье, сам в прошлом «скрябинист»:
Он был субстанционально связан с русской музыкой, с ее традицией, и уж, конечно, он был проявлением русского духа. <…> Для Скрябина, так же как и для Мусоргского, музыка была не самоцелью, а только средством общения с людьми, осуществления – для Мусоргского – идей внемузыкальных; – для Скрябина – сверхмузыкальных [30]30
ЛУРЬЕ, 1944: 269–270.
[Закрыть].
Восприятие «феномена Скрябина» тогдашним русским обществом точнее всего было бы называть «скрябиноманией»: чрезвычайно велико количество посвященных ему статей, выступлений, книг, тогдашних исполнений его произведений и т. п. Статистика по одному только Петрограду-Ленинграду за первое пореволюционное десятилетие (1917–1927) показывает, что до весны 1920 г. фортепианная музыка Скрябина по числу исполнений значительно превышала исполняемость сочинений для фортепиано любого другого европейского композитора, а в 1922–1923 гг. оркестровые композиции Скрябина уступали по исполняемости только неизменным фаворитам концертной публики Бетховену и Чайковскому [31]31
ГРУБЕР, 1928: 159, 157. Р. И. Грубер, опубликовавший эту статистику, пояснял: «Кривая исполнения Скрябина очень неустойчива. Сначала исполняемость его далеко превосходит всех прочих композиторов, что объясняется незначительным числом концертов в течение 1918–1920 годов вообще – один или два концерта, целиком посвященных творчеству Скрябина (Боровский, Зилоти), могли уже играть решающую роль» (Там же: 166). Для нас же важно то, что Александр Боровский и Александр Зилоти исполняют в пореволюционные годы именно Скрябина, а не, скажем, Мусоргского или Дебюсси.
[Закрыть]. Москва, родной город Скрябина, продолжала чтить его и в лице новоявленных «пролетарских» музыкантов, чей орган «Музыкальная новь» в 1924 г. утверждал буквально следующее: «Мы можем глубоко жалеть, что он не дожил до наших дней, когда ему легче было бы уловить психологию побеждающего пролетариата…» [32]32
КОРЧМАРЕВ, 1924: 16.
[Закрыть]
Интересная как социальный феномен, скрябиномания не может быть здесь подробно рассмотрена, но отметим, что в той или иной мере Скрябиным были задеты все те, о ком пойдет речь в нашем очерке, посвященном истории «музыкального евразийства».
г) Основные действующие лица.
Влияние на них Скрябина и футуристов
Музыкальное лицо русского евразийства определялось пятью именами.
Во-первых, это композитор и теоретик Артур Сергеевич Лурье(1891–1966), известный также как Артур-Винцент-Перси-Биши-Хосе-Мария Лурье [33]33
О происхождении столь экзотического самопрозванья см.: ЛИВШИЦ, 1989: 464–465.
[Закрыть], чье настоящее имя тем не менее было Наум Израйлевич Лурья, а родился он не в Санкт-Петербурге, как указано во многих справочниках, а в украинском местечке с дивным названием Пропойск [34]34
Привожу эти данные по: БЕЛЯКАЕВА-КАЗАНСКАЯ, 1998: 162–163.
[Закрыть]. «Соблазнение» Лурье скрябинской эстетикой случилось в годы обучения в Петербургской консерватории, что видно, например, по раннему циклу 5 préludes op. 1 («préludes fragiles»). По позднейшему признанию Лурье, «при жизни вокруг него [Скрябина. – И. В.] создался культ, и молодежь видела в его музыке осуществление своих чаяний» [35]35
ЛУРЬЕ, 1944: 270.
[Закрыть].
В 1915 г. Лурье опубликовал в околофутуристическом сборнике «Стрелец» заметки «К музыке высшего хроматизма», иллюстрированные четырнадцатитактовым Прелюдом для рояля в высшем хроматизме, ор. 12, № 2 [36]36
ЛУРЬЕ, 1915. Есть свидетельство, что «Лурье написал много четвертитоновых пьес, но они остаются неизданными» (WYSCHNEGRADSKY, 1924: 231).
[Закрыть]. Заметки Лурье следует рассматривать в контексте дискуссии о гармоническом наследии Скрябина, протекавшей в 1914–1916 гг. на страницах «Музыки» и симпатизировавшего авангардным практикам, издававшегося Андреем Римским-Корсаковым и Петром Сувчинским журнала «Музыкальный современник» (подробнее об этом см. ниже).
Дело в том, что Л. Л. Сабанеев, столь же преданный популяризатор творчества Скрябина, сколь и произвольный его интерпретатор, пытался в 1914–1915 гг. представить композитора провозвестником «проблемы ультрахроматизма». «Лозунгом его должно быть положение: все звуки суть достояние музыкального искусства, а не только те 12, которые нам представлены темперированным строем» [37]37
САБАНЕЕВ, 1915: 22. Другое печатное выступление Сабанеева на тему «ультрахроматизма» появилось в № 196 «Музыки» за 1914 г.
[Закрыть]. Ультрахроматизм виделся Сабанееву закономерным результатом эволюции рационалистического восприятия гармонии:«История развития гармонического созерцания человечества <…> есть именно история постепенного обострения способности разбираться в сложных и все усложняющихся комплексах единовременных звучаний» [38]38
САБАНЕЕВ, 1915: 19–20.
[Закрыть]. При этом Сабанеев со свойственной ему внутренней противоречивостью пытался сидеть сразу на двух стульях – критического рационализма и органического и даже интуитивистского в и дения истории музыки. «Я указываю на эту вполне органическую, заключенную в самой природе звучания концепцию музыкального искусства…» – утверждал он, рассуждая об ультрахроматизме [39]39
Там же: 23.
[Закрыть].
Артур Лурье, переименовавший ультрахроматизм в «высший хроматизм», пытался практически применить рекомендации Сабанеева. Начало его заметок 1915 г., опубликованных в «Стрельце», прямо отсылает к тезисам Сабанеева: «Введение четвертных тонов – начало в полном смысле новой „органической“ эпохи, выходящей из граней воплощения существующих музыкальных форм» [40]40
ЛУРЬЕ, 1915: 81.
[Закрыть]. Осуществиться эта органически-революционная эпоха должна была за счет перетемперации инструментов и введения строго рациональной системы музыкальной записи, отличающейся «экономностью и стильной начертательностью» [41]41
Там же.
[Закрыть]; впрочем, в свете позднейших практик предлагаемые Лурье «четыре обозначения одной и той же ступени в равномерном повышении» [42]42
Там же: 82.
[Закрыть]кажутся довольно скромным вкладом вдело гармонической революции. А помещаемый вслед за заметками Прелюд Лурье [43]43
Странным образом не вошедший в наиболее полный список сочинений Лурье, опубликованный Детлефом Гоёвым в: GOJOWY, 1993: 277–288.
[Закрыть], как и написанные несколько лет спустя первые микротоновые сочинения Ивана Вышнеградского (1893–1979), представляют собой только интересный опыт, не более. Тем не менее сочинения Вышнеградского послужили основанием для дальнейшей разработки им самим ультрахроматической теории [44]44
См.: WYSCHNEGRADSKY, 1972: 73–130.
[Закрыть]. Знаменательно, что Вышнеградский подчеркивал решающее воздействие на него Скрябина, между тем как правильнее было бы говорить о воздействии не Скрябина, но сабанеевской интерпретации его. Кстати, Вышнеградский сообщает, что в течение ряда лет Лурье «сам пытался устроить постройку четвертитонового фортепиано на предприятии братьев Дидерихс, но война и революция помешали осуществить этот проект. В конце концов Лурье отбросил идею» [45]45
WYSCHNEGRADSKY, 1924: 231.
[Закрыть]. Очевидно, не одни только внешние обстоятельства были в этом повинны: из письма Лурье другу юности Ивану Яковкину узнаем об определенной раздвоенности сознания в период вдохновленных Скрябиным гармонических поисков. Приходилось выбирать между творчеством и теорией, а Лурье не хотел отказываться ни от одного, ни от другого: «Слишком уж меня волнуют вопросы чисто теоретические современного искусства, чувствую потребность в абсолютно субъективных приемах работы, но тут придется отказаться от всей эволюционной преемственности…» [46]46
Письмо от 9 августа 1912 г. из Одессы. См.: БЕЛЯКАЕВА-КАЗАНСКАЯ, 1998: 141.
[Закрыть]
Композитор и теоретик А. М. Авраамов, возражая в 1916 г. на страницах «Музыкального современника» не только Сабанееву, но – вполне возможно – и тогдашнему практику высшего хроматизма Лурье, указал в продолжение дискуссии [47]47
АВРААМОВ, 1916: 157–168.
[Закрыть]на: а) исключительный рационализм ультрахроматизма, б) непреодоленный тональностный характер ультрахроматического письма, нацеленного на ни много ни мало полное снятие утвержденной Бахом якобы кабальной темперации тонового строя, в) на то, что Скрябин – и это подтверждается у Авраамова анализом его произведений – «совершенно не считался с „тональными“ функциями своих гармоний» [48]48
Там же: 163.
[Закрыть], а к «единообразию нотации» относился вполне анархически, полагая первичныминструмент (фортепиано) и порождаемые его существующей темперацией – которая, хороша ли, плоха ли, а принята миллионами слушателей и музыкантов – отношения, а не возможное слышание инструмента в иной системе слуховых координат. То есть ни ультрахроматиком, ни рационалистом Скрябин, по мнению Авраамова, не был. В то же время путь ультрахроматизма ведет, по мнению Авраамова, к сужению свободы:







