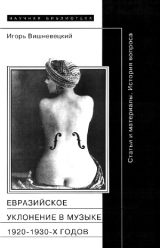
Текст книги "«Евразийское уклонение» в музыке 1920-1930-х годов"
Автор книги: Игорь Вишневецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
Если мелосв музыке есть то же самое, что логосв речи, то музыкальная гармония не имеет аналогов в других искусствах. Сегодня музыкальная гармония представляет собой область необыкновенно изменчивую и неопределенную, сложную и спорную. Однако именно этот музыкальный элемент музыканты прошлого считали установленным, неизменным «навеки». Бетховен считал теорию «генерал-баса» «катехизисом», не подлежащим критике.
Но сам Бетховен требовал от гармонии выразительности нового порядка. Не то чтобы до него гармония была лишена выразительности, но он перенес музыкальный центр тяжести с четко выверенных отношений между элементами звуковой ткани в область высочайшей психологической выразительности. Бетховен подчинял гармонию строгим правилам иерархии. Именно в его творчестве закрепляется железная клетка метра с прутьями тактов и монотонной последовательностью сильных и слабых долей. И, однако, Бетховен требовал от музыки максимума экспрессивности, почти выходя за рамки возможностей музыкальной ткани. Он также ввел в музыку новую мотивацию, скорее психологического, чем музыкального порядка. Мы прекрасно знаем, что вокруг этой музыки выросла целая «литература» и заслонила ее, и именно к ней апеллируют новейшие модернисты, считая необходимым «реабилитировать» Бетховена для нужд своего дела. Эта попытка не решает проблему, которую ставит его музыка, особенно последние квартеты и «Девятая симфония».
На наш взгляд, именно с Бетховеном связана музыкальная экспрессионистическая школа, а не, как часто утверждается, с Вагнером. Если проследить эволюцию современной гармонии в ее связях с ультрахроматизмом, связь с Вагнером неоспорима, но экспрессионизм остается наследием Бетховена. Убедительным примером тому служит его «Квартет-фуга» [*]*
То есть «Большая фуга (Die Grosse Fuge)» для квартета, оп. 133 (1825).
[Закрыть]. Квинтэссенция выразительности, каковой является эта фуга, становится прототипом лучших экспрессионистских произведений нашего времени.
Любители «чистой» музыки не смогут отмахнуться от проблемы, которую ставит «Квартет». Как воспринял бы Бетховен утверждение, что это фуга «экстра-музыкального» порядка? Титаническая структура этого произведения соразмерна его огромной психологической насыщенности; а безупречность его звуковой композиции удивительным образом уравновешивается его сверх-эмоциональной полнотой. Единство двух этих компонентов нерушимо, ибо органично, соприродно самому произведению.
Однако имитационное письмо привело этот композиционный жанр к стилистическим выводам. Из этой систематизации родилась школа экспрессионизма.Заметим, что экспрессионизм сегодня – это всего лишь манифест системы как таковой, а не следствие эмоциональной полноты. Экспрессионизм как школа связан с атональной гармонией и является физической, а не психологической функцией этой гармонии.
Для становления музыкальной формы экспрессионизму нужен мощный, дифференцированный аппарат динамических средств, регламентирующий каждый период и чуть ли не каждый звук в изложении, как у Шёнберга, а сама питающая ее атональная гармония остается неподвижной. И поскольку атональная гармония в этой школе превалирует над ритмом и мелодией, неудивительно, что Шёнберг, изобретатель атональной гармонии, и его ученик Албан Берг вынуждены были для развития музыкальных форм прибегать к свободной интерпретации традиционных тональныхформ [*]*
Характерное для озабоченного обоснованием новой музыкальной формы Лурье утверждение. Форма у нововенцев при всем их революционном пафосе – старая, связанная с чуть ли не полуторавековой давности музыкальной диалектикой.
[Закрыть].
Связанный с атональной гармонией экспрессионизм создал наиболее конструктивистский тип современной музыки посредством не органической, а механической фактуры. Последние произведения Албана Берга стали здесь исключением. Он действительно попытался внести в сами рамки атональной системы личную свободу, и в этом случае атональный экспрессионизм подвергается давлению эмоциональной мощи художника.
Если конструктивизм является неотъемлемой частью экспрессионистской школы – атоналисты, что бы они там ни говорили о Вагнере, разрывают связь с ним, сознательно или нет, они возвращают нас к Бетховену.
Именно вокруг Бетховена могли бы сегодня объединиться те, кто считает свои принципы взаимоисключающими. Таким образом, при необходимости связать конструктивистские достижения нашего времени со стремлением к новому гуманизму, а также разочаровании от тупика, в который завел нас музыкальный «пуризм» последних лет, Бетховен мог бы стать новой точкой отсчета. Эта тенденция проявляется в музыкальной культуре повсюду в Европе, СССР, США.
Что касается Вагнера, по-видимому, современным теориям нечего у него взять. Этот гениальный рапсод-импровизатор XIX века остается привязанным к узкой области немецкого романтизма.
Экспрессионизм – единственное современное музыкальное течение, которое остается школой, способной на творчество. Возникший в 1920 году «неоклассицизм» истощился, хотя некоторые композиторы продолжают опираться на его фундаментальные принципы. Первое место здесь принадлежит Стравинскому. Импрессионистическая гармония не играет сколько-нибудь существенной роли; хотя школьная теория гармонии усвоила некоторые оригинальные положения импрессионизма.
Впрочем, в области гармонии молодые композиторы чувствуют себя потерянными и предоставленными самим себе.
Сегодня нет непререкаемого авторитета, которому молодежь могла бы следовать в страстном порыве, какой когда-то пробуждал Дебюсси. Действительно принципы и развитие гармонии происходят не из абстрактных теорий, а из впечатления, производимого магистральными произведениями великих композиторов. И ставшие сегодня хрестоматийными принципы в свое время породили этот живой источник.
Гармония, становясь автономной, действует как наркотик: требуются все более сильные дозы. Когда гармония выходит на первый план, ее восприятие притупляется, чего не происходит с мелодией.
«Новый» аккорд стал для музыкантов фетишем, в композиции в настоящее время преобладает непрерывное изобретение «новых» аккордов. Но под покровом новых аккордов, за кажущейся сложностью гармонических отношений, часто кроются традиционные формулы и банальнейшая музыка. Причиной тому беспорядочная композиция.
Прежняя гармония: консонанс, диссонанс.Новая гармония: диссонанс, консонанс, тембр.
Новая гармония основана на тембрах, так сказать, на соотношениях объема звука, в то время как прежняя гармония определялась ролью основного тона и аккорда, который их соединяет.
Настоящая эволюция гармонии, ее истинное обогащение происходит, кроме того, от самого обогащения контрапункта и развития полифонии. Гармония, как особый элемент музыки, не имеет права ни на внимание, ни на особую ситуацию. Мы возвращаемся к классическому принципу в гармонии: иерархия в гармонии – необходимость. Гармония ни в коей мере не представляет собой автономной реальности. В ней только одна скрытая возможность, одно из пересечений в игре всех элементов музыкальной формы – самое удачное пересечение, и оно напрямую зависит от мелодического развития композиции.
в) Концептуально связанные с евразийским периодом работы позднейшего времени (1940–1950-е)Источник текста LOURIÉ, 1966: 26–30.
Мусоргский – автор ряда произведений, имевших сложную и трудную судьбу, но в конце концов получивших общее признание.
Это бесспорно, ведь имя Мусоргского теперь известно всякому хоть сколько-нибудь культурному человеку, и не только русскому.
Что же скрыто за такой общепризнанностью? Прежде всего очень темная и весьма запутанная история о «подлинном» и «неподлинном» авторе этих произведений. История о стихийном темпераменте и диком, необузданном творчестве малограмотного музыканта, который прорвался за границы всякой меры и всякой художественной нормы, но был приведен в надлежащий порядок «дружескими руками».
И еще, параллельно этому, легенда об очень страшной, мучительной и загубленной жизни.
Вот в нескольких словах тема о Мусоргском в том виде, как она всем известна. Ее смысл и содержание зависят всецело от того, как к ней подойти: объективных данных здесь мало.
Но помимо этой есть ведь и другая тема, создавшаяся уже в перспективе времени и сделавшая Мусоргского фигурой, значительно перерастающей его профессиональную музыкальную деятельность, которой у него, в сущности, никогда и не было.
В перспективе истории автор «Хованщины» и «Бориса» связан с нашим представлением о Русском Мифе. Он единственный из музыкантов, поставленный историей в живую связь с теми, кто участвовали в XIX столетии в его создании. Миф этот о самой России, и приближение к нему немедленно наталкивает на все роковые вопросы: о русском народе и его судьбах, о противоположении Востока и Запада, Европы и Азии, христианства и язычества, православия, католичества, социализма, эстетики и морали и пр., и пр. Словом, вся издавна нам известная проблематика Вл. Соловьева, Константина Леонтьева, Достоевского, Гоголя, Хомякова, Аксакова, Тютчева, Розанова и даже Шестова. Мусоргский по праву принадлежит к этой семье, и кровная связь с нею становится главным онтологическим смыслом его темы. Логикой Мусоргского не взять. Он онтологичен, как и сама Россия. Его жуткое юродство – единственная форма самозащиты от людей и от жизни. Разве не такое же юродство было позднее у Розанова или под конец жизни у Андрея Белого?
Мало кто в России, из тех, кого терзали бесы, был свободен от этого… Трудно сказать, чем стала тема о Мусоргском в Современной России. Вернее всего, что на родине он утвердился на положении только «классика», хотя «подлинный и неподлинный авторы» и там все еще в столкновении.
До сих пор народная мистика и острый национализм Мусоргского были прикрыты. К нему было опасно дотрагиваться, как и к Достоевскому. Теперь война многое опрокинула и многое изменила. Ведь в связи с ролью, которую играет Россия в мировом кризисе, и бредовые мечты русских духовидцев как будто начинают оправдываться. Многое становится заметным и тем, кто до сих пор упорно не придавал никакого значения русскому духовному опыту, восхищаясь лишь русской «литературой» и русск[ой] музыкой. Между тем пресловутый «секрет» России, о котором сейчас столько говорят, заключается просто-напросто в том, что между физическим и духовным выражением ее силы нет никакого разлада. Разъединения материи и духа, ставшего главной причиной современного разложения, как выяснилось, не существовало только там, на «варварской земле»…
Но вернемся к Мусоргскому. Оказалось, что один лишь «Борис» противостоит до сих пор Вагнеру и его наследству. Это «противостояние» стало за прошедший период времени своего рода антитезисомк самой истории музыки, как бы оппозицией – всему, чем завершился немецкий post-романтизм и чем был немецкий модернизм начала XX века. Лучшие из музыкантов в свое время это поняли. В отношении же самой русской музыки Мусоргский стал символом предельно выраженной национальной проблемы, понимаемой не в смысле продолжения какой-либо из ее традиций, а в возможности для нее непрерывного становления, углубления и роста. Иначе говоря, музыкальная история шла своим путем, и в конечном счете все звенья музыкальных ценностей оказались тесно связанными, но Мусоргский таким промежуточным звеном не стал. Он до сих пор в музыке сам по себе, и, кроме как с Россией, у него никакой органической связи не существует. Ему нельзя было подражать. И если Глинка вел русскую музыку по пути сближения с европейской культурой, то Мусоргский производил как будто бы обратное действие. Он выключал русскую музыку из общего процесса развития, мыслил ее как некую стихию, органически самостоятельную, и всей данной ему творческой силой возвращал ее к народным первоосновам и первоисточникам. Короткий путь от Глинки к Мусоргскому – в сущности, весь путь, пройденный русской национальной школой. Первый оглядывался на Европу, второму до нее дела уже не было. Национализм Мусоргского был непреклонным и абсолютным проявлением его духа и его темперамента. То, что позднее импрессионисты подняли Мусоргского на свои щиты, дела не меняет, так как они приняли его для своих личных целей. Впервые тема о Мусоргском получает свое значение в деле возрождения французской музыки. Для нее Мусоргский послужил и примером и трамплином. Дебюсси не подражал Мусоргскому. В молодые годы он был под очарованием корсаковской экзотики и русского Востока, но, оглядываясь на Мусоргского, он вернулся к французским источникам. Он вспомнил клавесинистов и песни труверов и трубадуров. Через голову Мусоргского импрессионисты сводили уже счеты с Вагнером, освобождая Париж от сковывавшей его немецкой музыкальной рутины.
С тех пор имя Мусоргского остается символом возможности национального самоопределения и становления в условиях какой бы то ни было культуры. Так оно в действительности и было, и за последние десятилетия процесс подчеркнуто национальных тенденций имел место чуть ли не в каждой из стран Европы, а теперь намечается и в Америке.
Мусоргский ничего общего не имеет с тем, что принято называть модернизмом. Он вырос на эстетике «передвижников» и на идеологии народников-идеалистов. Но он оказался на самой грани модернизма, от которого его отделяет едва десятилетие, и модернисты сейчас же его подхватили. Им, как и всякому новому, сильному течению, нужно было оттолкнуться от неблагополучия, от неустойчивого равновесия. Мусоргский был в то время единственной подходящей для них фигурой в музыкальном мире. И жизнь и общество сделали его «таким», но отнюдь не его музыка, с которой он был всегда в ладу, а не в борьбе. Биографические черты не имеют большого значения в суждении о его музыке, которая остается целостной и независимой от всего остального, связанного с легендой о нем. Столкновение между ним и Р[имским]-Корсаковым происходит в сфере самой музыки, в ее процессуальности, а не относится к чертам его характера, образу жизни и пр.
Несмотря на свой столь выраженный национализм и на отъединение от всего нерусского, музыка Мусоргского стала общечеловечной и доступной всем, как музыка Моцарта или Бетховена. Этого нельзя сказать о Римском-Корсакове, восстававшем против варварства и «азиатчины» Мусоргского и считавшего себя европейцем. Р[имский]-Корсаков принят в общую музыкальную культуру как экзотический мастер, создававший нечто специфическое, слегка пряное, цветистое и узорчатое, а затем, когда это приелось, сошедший для музыкантов на роль профессора логики, рационалистической гармонии и практики оркестровой техники. Порою можно думать, что его произведения были написаны в подтверждение его теорий. Конечно, это неверно. Р[имский]-Корсаков был все же в большей мере художником, чем профессором, и только под конец жизни он настолько раздвоился, что одно было для него невозможно без другого. Рационалистическая сущность его мышления, наряду с теоретизмом и доктринерством, оказала в конце концов решающее влияние на всю природу его творчества. Конфликт между ним и Мусоргским был драмой его художественной совести и мучил его всю жизнь. Принять Мусоргского таким, каким он был, и оправдать его гений было абсолютно немыслимо для Р[имского]-Корсакова. Это было бы равносильно крушению всех его идей, развалу здания, построенного им на основе опыта всей его музыкальной жизни. Спор между ними продолжался и за гробом, и только сама жизнь ответила на него тем, что Мусоргский был принят в ряд величайших творцов музыки, вне его национальной специфичности, а Р[имский]-Корсаков остался мастером очень ценным, но второстепенного значения. Конечно, когда впервые прозвучало «Испанское каприччио», современники были ошеломлены блеском оркестра и великолепием красок, но ни этот блеск, ни позднее еще большее великолепие красок в «Золотом петушке» не опровергли перед жизнью и перед историей Мусоргского и не заглушили аскетическую суровость и почти монашескую бедность его колорита и звучащий правдой голос его… Тема о Мусоргском – это, сквозь призму его музыки, тема о русском народе. Она не была для него приемом стилистической игры или же снобистическим преодолением пресыщенности, не была она и демагогической диалектикой согласования несогласуемых противоречий. Она являлась только страстным исканием жизненной правды.
Никто, быть может, не стремился так к абсолютной свободе музыкального выражения, как он. Непрерывное творческое становление было у Мусоргского прямым следствием разрушенной им традиционной основы профессионального опыта и отсутствия устойчивой базы в композиционном методе. Он постоянно проверял создаваемое им, так как объективно-формальные принципы для него не существовали. Личное ощущение правды было главным критерием. Живая и органическая техника, та, которая находит средства для своего выражения всегда заново, в каждом отдельном случае, для каждого произведения, была для него необходимостью.
Такая техника не вызывает больше никаких сомнений для живописи или же поэзии, но среди музыкантов это до сих пор нечто неприемлемое. У них существует какое-то рутинное представление – предпосылка о непреложной и «прочно» установленной формальной и композиционной основе в музыкальном творчестве.
Искусство, замкнутое в себе, было Мусоргскому чуждо, а формалистическая сторона искусства, становящаяся целью, была ему ненавистна. Сравнение с Достоевским напрашивается само собой. Обоим была ненавистна «игра в искусство», и сферой обоих были живой человек и душа народная. Подобно Достоевскому, взрывавшему застывший и мертвящий мир рационалистической психики, Мусоргский взрывал рационалистическую основу музыкального мышления. Он разваливал своими сочинениями здание механизированного музыкального опыта, построенное на выработанных схемах, формулах и заранее установленных технических приемах. На этой почве и расцвела махровым цветом легенда о музыкальной невежественности и безграмотности Мусоргского. Римский-Корсаков был главным автором этой легенды. Он обладал в то время достаточным авторитетом, чтобы ему поверили. Поверили ему и в необходимости редактирования и «исправления» рукописей Мусоргского.
Творческая реабилитация Мусоргского началась только в связи с развитием французского импрессионизма. Дебюсси и Равель стали в это время едва ли не главными пропагандистами Мусоргского, и их влияние на молодежь в Европе и на передовые круги самой России изменило отношение к Мусоргскому, созданное Р[имским]-Корсаковым и его окружением. Но практически для восстановления подлинного творчества Мусоргского тогда ничего еще не было сделано.
И так возникло странное к нему отношение. Несмотря на всемирную славу, до сих пор подлинное лицо его остается закрытым для публики, и только специалисты знают, в чем дело. Остальным музыка Мусоргского, в главных его творениях, преподносится в «цензурированном» виде, лишенная своего настоящего запаха, вкуса, цвета и формы. Когда-нибудь и это кончится, и подлинное творчество Мусоргского, перестав быть достоянием музыкальной филологии, войдет в практику музыкальной жизни. Вопрос этот сложный, и потребуется немало еще усилий для его разрешения.
Источник текста ЛУРЬЕ, 1943а. [548]548
«Тема о» Мусоргском – как и «темы о» Скрябине, Стравинском, отчасти Чайковском (в связи с последним: о Шостаковиче), а также Рахманинове – исключительно важна в композиторском самоопределении Лурье и в той эстетике, которую он пытался увязать с евразийским проектом. Отсюда упор в данной статье на контекстуализацию музыкального наследия Мусоргского, на включение его в «миф <…> о самой России, <…> [в] роковые вопросы: о русском народе и его судьбах, о противоположении Востока и Запада, Европы и Азии, христианства и язычества, православия, католичества, социализма, эстетики и морали и пр. и пр.». Контекстуализация эта тем более важна для Лурье, что в плане художественной формы Мусоргский, как и столь любимый композитором поэт Хлебников, оказывается незараженным господствующей диалектикой, сознательно пребывая на периферии «современного» искусства, что и позволяет им обоим творить буквально с нуля.В позднейшей работе «Феномен и ноумен в музыке» (1959, см. настоящее издание) Лурье проговаривает эту трудность с конекстуализацией Мусоргского еще откровенней: «…в сильной мере ноуменом определилась судьба Мусоргского, почти не осуществившегося в феноменальном плане…» Выход, предлагаемый в «На тему о Мусоргском», – в снятии оппозиции ноуменального и феноменального, в одухотворении материального плана (что очень свойственно восточнохристианской традиции мышления).
[Закрыть]
1. Своей необычной «биографией» симфония эта немедленно же стала центром внимания. Она попала в Америку в дни огромного нервного напряжения, созданного героическим русским сопротивлением и страшным одиночеством России в этом сопротивлении. Первое исполнение ее в Нью-Йорке было как бы музыкальным разрядом этого напряжения в общественном сознании, факт знаменательный, т. к. за эти страшные годы не было в искусстве еще ни единого события большого значения, связанного с войной. Но такая «символическая» окраска симфонии была скорее во вред Шостаковичу. Критика вне России сбивалась на суждения, к данному сочинению прямого отношения не имеющие. Воздух, создавшийся вокруг этой вещи в концертном зале, явно раздражал тех, кто хотел судить об этой музыке только «профессионально», и взвинчивал других, наэлектризованных политикой. Прошло полгода, и теперь хотелось бы говорить о ней в более объективных тонах. Сочинение это само по себе ясное, простое и определенное. Но, несмотря на события последних лет, о произведениях продолжают судить с отвлеченной точки зрения, а жизнь идет сама по себе. Симфония Шостаковича из «иного мира». Главное затруднение для правильной оценки создалось в порядке идеологического подхода к ней, который здесь не могут до сих пор ни понять, ни принять, и ко всей музыке Шостаковича с момента его переключения на официальную советскую идеологию. Спорной считается и музыка, и ее идеологический принцип. А в то же время Шостакович стал сейчас самым популярным автором в Америке после Чайковского. Концертные программы пестрят его именем. Какой странный парадокс.
2. Наиболее культурный и серьезный из американских критиков после первого же представления 7-й симфонии отнесся к ней враждебно. Смысл его утверждений был в том, что «никакой патриотизм» этой симфонии не заставит признать ее значительность, что она будет сброшена с весов истории и т. д. Но частое повторение того же мнения, под разными вариантами, звучало тревожной неуверенностью. Доводы его сводятся к тому, что эта музыка хороша «для советской массы, но не для „знатоков“». Со своей точки зрения критик был, быть может, прав, и нужно было мужество, чтобы пойти против течения. Но оценка была заблуждением, именно в силу ее идеологической ошибки. То, к чему он апеллирует, называлось когда-то «искусством для искусства». Но критерий этот уже давно устарел. На основе его давно уже ничего ценного не создается. Мы присутствуем теперь при окончательной ликвидации эстетики, которую можно было бы называть «искусством без искусства». Что придет на смену? Неизвестно. Мы сейчас на переломе. В России идет процесс новой идеологической установки. Мы привыкли думать, что искусство с идеологическим содержанием есть низший род искусства, но когда первичные этапы будут пройдены, возможно, что и самая идеология окажется переработанной и углубленной. В данный момент она находится в первоначальной стадии, и 7-я симфония Шостаковича есть только один из отрезков музыкального процесса, еще находящегося в развитии.
3. Программная связь симфонии Шостаковича с событиями войны – прямолинейная. Для музыки сюжеты экстрамузыкального порядка никогда не имели серьезного значения. Важно лишь чисто музыкальное решение сюжета внутренним, творческим путем. Не внешнюю сюжетность я имею в виду, когда говорю об идеологической основе музыки, а некую иную связь, более органическую и глубинную, определяющую самую природу языка и звуковую материю в ее кристаллизации. Разрешен ли сюжет 7-й симфонии Шостаковича не в виде только батальной композиции, а в порядке чисто музыкальном? С моей точки зрения – несомненно, и в этом ее ценность. Иначе не о чем было бы и говорить. Связь с войной в симфонии существует, и сочинение тем самым принадлежит к разряду программных. Тип этого рода сочинений давно вышел из моды, и Шостакович нас к нему возвращает. При поверхностном слушанье – это «батальное полотно» с лирическими отступлениями. Можно предположить, что его симфония была начата до нашествия немцев на Россию, а затем она с событиями войны срослась внутренне [*]*
Лурье прав в своей догадке.
[Закрыть]. Вероятно, и форма ее определилась событиями войны. Но за этим первым планом есть другой, более значительный. После кризиса, через который он прошел, о котором много в свое время говорилось, после обвинений в «левацких загибах», «формализме», связи с европейской «упадочной идеологией» и пр. он был выбит из обычной колеи типичного для того времени модерниста. У него мог бы создаться протест против насилия и давления официальной доктрины, и тогда ему оставалось бы замкнуться в себе и замолчать. Но он не пошел по этому пути, а подчинился, что гораздо любопытнее. С этого момента начинался для него новый эксперимент. Официальная эстетика была принята им как догма, не подлежащая обсуждению. На этой догматике с тех пор идет развитие его музыкального мышления, и ей же подчинена категория его личных чувствований. Индивидуальное, свободное сознание и капризную волю артиста он хочет заменить сознанием коллективным. Но Шостакович не мог ограничиться слепым подчинением. Перед ним как музыкантом встали задачи, возникающие в связи с этим коллективным опытом, и он разрешал их самостоятельно. Первая из них – предельное упрощение техники с тем, чтобы сделать музыкальный язык общедоступным и выразительным. Вторая – добывание нового звукового материала, близкого массам слушателей, найденного в самой толще этой массы и являющегося ее собственным достоянием.
4. Вопросы об изменении принципов музыкального творчества и формы в связи с изменением идеологии народов и общих процессов культуры сложны. Упрощенные решения их ни к чему не приводят, кроме как к изменению названий сочинений. Нужны поколения, чтобы изменить хотя бы только интонационное начало музыкальной речи. В мадригалах итальянского и испанского ренессанса все же звучат церковные гимны. В революционных гимнах звучат порой протестантские хоры, если композиторы, сочинявшие их на революционные слова, не умели отделаться от 4-голосного протестантского хорала. Органически новое приходит на смену прошлому с большим трудом и через большие периоды времени. В России этот процесс изменения становится едва заметен только теперь. До сих пор задача русских музыкантов сводилась к тому, что они музыкальное наследство прошлого стремились перевоплотить, сделав его достоянием новой публики. Но вместо органической переработки обычно получалась упрощенная популяризация. Таковы были и 5-я и 6-я симфонии Шостаковича. Насыщенность дарованием чувствуется и в них, но сквозь насилие автора над самим собою. В 5-й есть моменты очень красивой музыки. Есть они и в 6-й, но это только отдельные вспышки, перемежающиеся с длинными периодами риторики.
Поскольку звуковая интонация есть первооснова музыкального языка, Шостаковичу пришлось заняться добыванием новых интонаций для выражений своих музыкальных идей. В 7-й симфонии есть уже не только поиски, но и достижения в области таких интонаций, и они уже гораздо меньше сбиваются на эклектику общеевропейского типа звучностей. Мелос Шостаковича все больше советизируется. В тех моментах, где он оригинален, его интонационная система основана на элементарной простецкой мелодике. Его мелос не народно-русский, крестьянский, а советско-городской, рабочий и пролетарский. Его русские корни в частушках, а не запеваниях-распевах Древней Руси.
Шостакович очень элементарен. Он ставит перед собой цели, предельно упрощая пути к ним. Если его музыка непонятна массам, значит, она плоха. Прежде композитор считал, что, если публика его не понимает, значит, плоха публика. Художник обязан быть доступным и понятным. Он на службе у народа и подчинен ему. В России существует живая связь между артистом и аудиторией. Шостакович правдив, когда говорит, что пишет для рядового советского слушателя.
Проблема упрощения техники и «приближения к массам» – не нова. Она периодически возникала в музыке. Бетховен в свое время казался грубым упрощением в сравнении с Моцартом. Лапидарный Стравинский «Весны священной» казался «грубой реакцией» после Скрябина и Дебюсси… Бетховен искал «сближения с массами» – Моцарт об этом не думал. В его время даже и понятия такого не существовало. Но Моцарт думал о публике, и связь с публикой осуществлялась для него через театр. С падением театра теряется последняя связь в музыке с большой аудиторией. Симфония XIX ст[олетия] пытается стать чем-то вроде театрального действия. Создается комплекс симфонии, связанный с личностью автора почти автобиографической связью. Технически изощряясь, симфоническая музыка замыкается в узкопрофессиональную сферу. Возникает благоприятная почва для опустошенного искусства. Музыка мешает «работе» композитора, мешает «конструкции». Значение Шостаковича в том, что он решительно «повернулся лицом к массам». Но если 5-я и 6-я симфонии шли к массам путем популяризации, то в 7-й есть двойная тенденция: и приближение к массам, и стремление приблизить их к музыке. Тенденция в сторону чистой музыки проявляется пока еще как бы в замаскированном виде: там, где Шостакович дает волю своему музыкальному воображению, это моменты самые ценные. В них есть и ряд формальных исканий, и острая, чисто музыкальная изобретательность.
5. Безусловно ценна вся экспозиция главной темы 1-й части симфонии. Затем почти вся вторая часть. Очень красив в ней лирический эпизод, в котором любопытно то, что аккомпанемент звучит значительнее, чем сама мелодическая линия солирующих деревянных. Очень занятен эпизод вальсообразной музыки, с «фальшивыми» нотами, терпко оттеняющими ритмические акценты. Наконец, в той же части прелестен заключительный период, когда в низком регистре басов неожиданно появляется тембр контрабасового кларнета в сочетании с арфами, взятыми в высоком регистре и связанными терциями флейт. Очень красива слегка архаизированная музыка вступительных тактов 3-й части, и в особенности эпизод траурной песни, изложенный в форме свободного хорала в широком движении гармонических вертикалей. Значительно слабее вступление одних струнных, откровенно напоминая типичную музыку итальянских concerto grosso. Странно, что Шостакович к концу этой части дает буквально репризу всего периода, в то время как нигде в симфонии буквальные повторения не встречаются. По-видимому, эта струнная музыка настолько ему понравилась, что он не смог отказать себе в удовольствии повторить ее. Все изложение главной темы 1-й части ряд критиков считают прямой копией «Болеро» Равеля. Но Шостакович взял у Равеля не музыку его «Болеро», и даже не форму пьесы, а только форму повторения все время одного и того же музыкального периода, развивающегося в динамической профессии. Все время повторяется тот же мотив, который непрерывно нарастает. Но тогда и Равеля можно было бы обвинить в том, что он эту форму взял у Грига (Gnomenreigen [*]*
Такого сочинения у Эдварда Грига нет. Одно из двух: либо Лурье имел в виду «Марш гномов» (Troldtog, 1891) из «Лирической сюиты» Грига, либо, что менее вероятно, Концертный этюд № 2 «Танец гномов» (Gnomenreigen, 1862 или 1863) Ференца Листа.
[Закрыть]), да и у других. Шостакович не повторяет механически свой мотив, как Равель в «Болеро». Он видоизменяет строфу асимметрическим ее повторением и ролью в ней мелодического каданса. Пошленький, нарочито глупый мотив появляется как бы насвистанный сквозь зубы, на фоне мелкой дроби барабанчика. Мотив этот звучит иронически, является как бы маской. Шостакович берет «первое попавшееся». Такой мотивчик может насвистывать любой советский прохожий, в нем есть нечто от зощенковских персонажей. А разрешается этот мотив в грозовые раскаты, приобретающие характер драматический и угрожающий… Отдаленное сходство скорее можно найти с мотивом берлиозовской симфонии («шествие на казнь») [*]*
Имеется в виду финал (Allegro non troppo) Фантастической симфонии, ор. 14 (1830–1831), Гектора Берлиоза.
[Закрыть]. Наименее удачна вступительная тема 1-й части, мало выразительная и слишком длинная. Coda симфонии, с ее заключительным нарастанием звучностей, кажется мне данью официальному оптимизму. Внутреннее напряжение в музыке падает, несмотря на огромный шум в оркестре.







