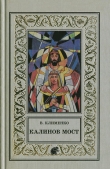Текст книги "Мост через время"
Автор книги: Игорь Чутко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Рецепты на этот счет пока не выписаны, кроме единственного: надо быть внимательным к своим ученикам, помощникам, не забывать, что они работают не у вас, а с вами.
Один такой случай стал уже хрестоматийным – когда преподаватель своевременно заметил в студенте качества главного. А.Я. Березняк учился в МАИ, его дипломным проектом руководил профессор, главный конструктор В.Ф. Болховитинов. Проект не залежался в архиве института, Болховитинов направил его в НИИ ВВС на заключение. Заместитель начальника ВВС Герой Советского Союза комкор Я.В. Смушкевич написал о нем в Наркомавиапром, и Березняка «распределили» в ОКБ Болховитинова, где он вместе с А.М. Исаевым, тоже молодым инженером, разработал ракетный истребитель БИ-1.
Но это случилось давно, еще до войны. Вся авиация в то время была молодой, в ней многое зависело от конструкторского вдохновения. А что сейчас – в эпоху все большей механизации и автоматизации уже и инженерного труда? Когда сами конструкторы иногда говорят: дайте нам только реальные требования на машину и средства – и мы вам любую сделаем общими силами…
Академик П.Л. Капица тоже допускает, что в какой-то мере одаренных одиночек можно заменить хорошо организованными грамотными коллективами, тем более что на практике это и проще, и надежнее, чем иметь дело с «гениями», которые к тому же часто бывают людьми непокладистыми. Но хотя успех дела, говорил П.Л. Капица на XIII Международном конгрессе по истории науки, полностью зависит от качеств всего коллектива, житейский опыт свидетельствует, что зависимость эта очень крутая, то есть очень чувствительная к составу участников такого объединения. Поэтому достаточно упустить хотя бы один большой талант, чтобы творческая деятельность фирмы сразу же стала гораздо менее плодотворной. «Но так же справедливо и обратное: появление даже одного крупного ученого сразу будет сильно повышать эффективность деятельности всего коллектива».
Вот и посчастливилось мне полтора десятка лет близко видеть одного такого, безусловно крупного… Генеральный авиаконструктор О.К. Антонов назвал его однажды, причем с трибуны, то есть тщательно взвешивая слова, гениальным. Ссылаюсь на Олега Константиновича, сам еще подожду с определениями, тем более со столь ответственными.
И сейчас вижу Бартини: пока помню – он для меня жив. Вижу, что он очень самолюбив. В то же время приветлив, быстро к себе располагает почти любого человека, хорошо улавливает ваше душевное состояние, интересы, «понимает» вас. Но сам скрытен, отвечает лишь на некоторые вопросы, остальные спокойно пропускает мимо ушей. Повторять вопросы бесполезно: он их опять пропустит… Я бываю у него примерно раз в месяц, иногда засиживаюсь, и не просто допоздна, а до утра, соображая: не пора ли честь знать? Угадываю это по его реакциям, когда смотрю на часы или встаю. Если нервничает, значит, надо задержаться. Снова углубляюсь в его бумаги. Говорим мы в последние годы мало, разговоры быстро его утомляют, он заметно ослаб. А бумаги – в моем распоряжении, и в них важные детали событий, хотя в основном о его делах мне все давно известно. Бартини работает в кабинете, оттуда доносится его негромкое сердечное покашливание. Телефон звонит все реже; за тяжелой шторой, чуть шевелящейся под ночным сквозняком, стихает уличный шум, на кухне принимается свистеть, греметь крышкой в десятый раз уже, наверное, вскипевший за вечер чайник. Приношу его, зову Роберта Людовиговича. У него и в чаепитии свой вкус, едва ли приемлемый для настоящих любителей: он смешивает в стакане заварку и сгущенный кофе. Минут пятнадцать тратим на вопросы-ответы и расходимся. Часов около трех, слышу, ложится. Уйти нельзя. Если бы можно, он сказал бы, а раз молчит – это надо понимать как просьбу подежурить. Через час устраиваюсь вздремнуть: на диване для меня, будто невзначай, оставлена подушка, свернутое одеяло, в нем белье…
Ну и что? Любой человек дела, тем более талантливый, много работает, как правило, самолюбив, о пустяках не болтает. И все они очень разные, эти люди, так что установить связь их привычек и характеров с оригинальными решениями технических задач затруднительно. Ильюшин, например, сам любил вникать в узкоспециальные вопросы и в сотрудниках КБ ценил такие склонности. Сам, бывало, проверял расчеты заклепочных швов на прочность – не всех, разумеется, швов, но при случае выборочно проверял, – сам выбирал защитные покрытия для деталей и удивлялся, злился, если инженер не мог назвать на память механические свойства или химический состав конструкционных материалов. Как будто все это при надобности нельзя найти в справочнике!..
А Королев, рассказывают, когда у него однажды попросил совета конструктор (и едва ли к Королеву приходили советоваться по какой-нибудь ерунде), встал из-за стола и ехидно предложил:
– Давай-ка сядь в мое кресло! Садись, садись, не стесняйся… Чувствуешь, как оно припекает снизу, как жжет? Все понял? Ну вот и хорошо, так что теперь иди и сам решай свои проблемы, а мне хватит моих!
А Туполев «видел» технику «насквозь»… Увидел готовую к первому полету опытную машину, сказал: «Не полетит!» – и она не взлетела. Бегала потом по аэродрому, а от земли оторваться так и не смогла. Увидел в ЦАГИ самолёт, подготовленный к испытаниям на прочность, показал пальцем: «Вот здесь сломается!» – и конструкция сломалась именно в этом месте. Форму, аэродинамические обводы бомбардировщика Ту-14, выбранные коллективно лучшими специалистами ОКБ и ЦАГИ, Старик (одно из многих прозвищ А.Н. Туполева), никому ничего не объясняя, изменил настолько, что, по общему приговору, испохабил машину. «Летала же Ту-14 хорошо, – пишет Л.Л. Кербер, – и со временем ее довольно уродливые, на наш тогдашний взгляд, гондолы действительно теоретически обосновали».
О Туполеве, конструкторском старейшине, подобных историй ходит в авиационной среде больше, чем о ком-либо другом. Некоторые из них уже и в психологические труды попали (есть теперь такая ветвь этой науки – инженерная психология), встречаются смешные, вроде истории с Ту-14, а от иных мурашки по спине бегут. В тюрьме группа В.М. Петлякова разрабатывала пикирующий бомбардировщик «сотку», впоследствии названный Пе-2. В первых полетах «сотка» повела себя не вполне как надо бы, что, в общем, нормально – для этого и строят, и испытывают опытные машины: для их доводки. Но условия работы были ненормальные. Петлякова «дернули» к самому Берии, явственно потянуло словом «вредительство»… Специалисты, как ни бились, ничего другого не придумали, кроме капитальной переделки оперения. А это – срыв предписанных сроков.
Позвали Туполева, слава богу, кто-то догадался позвать. Туполев долго ходил возле хвоста «сотки», присматривался, что-то бормотал, грыз ногти… И сказал: капитальная переделка не нужна, а достаточно чуть-чуть нарастить оперение. Добавки стабилизируют воздушный поток, и все будет в порядке. Так и получилось, «сотка» стала в полете устойчивой.
Все эти случаи, в частности с Туполевым, записаны со слов ветеранов авиации. Допустим, в чем-то здесь ветераны преувеличивают, как это водится у бывалых людей: удивили, а дальше дело ваше. Хотите – верьте, хотите – нет… Но вот что вспоминает уже не просто ветеран где-нибудь в курилке, в кругу разинувшей рты молодежи, а академик А. Н, Крылов о кораблестроителе Петре Акиндиновиче Титове. Главный инженер франко-русского судостроительного завода в Петербурге, конструктор крейсеров и броненосцев П.А. Титов, оказывается, не имел не только специального образования, но и просто среднего. Алгебры – и то не знал. Размеры силовых деталей судового корпуса назначал на глаз, иначе не умел, но, как бы потом эти назначенные им размеры ни проверяли расчетами, ошибок не находили.
Сам Туполев уверял, что мать его интуиции – информация и основательно воспринятый опыт десятков поколений конструкторов. Возможно, так оно и было когда-то, а сейчас память электронных машин уравнивает в этом отношении талантливого инженера с просто грамотным и добросовестным. Считается также, и справедливо, что иные творческие споры, в том числе технические, надо попросту вовремя прекращать твердыми словами «делать так!». И все будет в порядке, поскольку очень хороших, даже блестящих выходов из любого положения в технике почти всегда бывает несколько. И ахнет народ в конструкторском зале, ахнут потом корреспонденты: изумительно! Найдено «единственно правильное» решение, «предельно верное»!..
Это бывает. Расскажу, однако, действительно изумительный случай из собственной практики. Я работал тогда в ОКБ генерального конструктора П.О. Сухого. Однажды Сухой просматривал чертежи поворотного стабилизатора будущего истребителя-бомбардировщика Су-7 и сказал нам, что опорный ролик, который при отклонении стабилизатора должен был катиться по рельсу, поставлен плохо: его нужно повернуть так-то и так-то, иначе он не покатится, а станет скрести по рельсу. В высшей степени корректный, в английском, как у нас про него говорили, стиле, Сухой ни на чем не настаивал (хотя в решительные моменты мог сказать в той же безукоризненно вежливой манере: «Я вас прошу – и прошу считать мою просьбу приказанием!»), а всего лишь советовал еще раз проверить взаимное расположение ролика и рельса, когда вся эта конструкция изогнется под воздушной нагрузкой.
Принесли расчеты. Все было проверено-перепроверено.
– Ну как хотите…
Сделали в цехе стабилизатор, нагрузили его в лаборатории – и ролик стал скрести по рельсу. Прав был Сухой.
Однако опять: ну и что? В чем здесь талант именно главного конструктора? В том, что у него «глаз – алмаз»? Нет, бывают у просто конструкторов, бывают и у рабочих глаза еще «алмазнее». Знал я токарей, безо всяких штангелей и микрометров видевших десятые доли миллиметра в диаметре вытачиваемой детали, знал механиков, которые чувствуют, ухом ловят десятые, а то и сотые доли миллиметра, регулируя зазоры в двигателях…
5
Особенность работы Р.Л. Бартини, то, что в наибольшей степени отличало его от других конструкторов, тоже крупных, особенных, – физико-математический подход к техническим задачам. Способность находить простые, наглядные модели задач (будущих, задуманных машин и условий, в которых им предстоит работать) и делать эти модели, а с ними и задачи доступными научному анализу. Остановимся на истории некоторых его решений, поскольку сейчас путь, который к ним привел, становится Бее более популярным у инженеров.
Еще в Милане, студентом, Роберто аналитически, математически искал наивыгоднейшие профили крыла самолёта. Опять же не открыв тогда никому ранее не ведомую принципиальную перспективу такого анализа, он увидел ее яснее, чем иные признанные авторитеты: практичнее с ней обошелся, не подозревая еще, что и в XX веке исследователям придется защищать не только свои находки, но и способы поиска, и даже инструмент, которым добываются клады природы. Доказывать, что он не колдовской. Для инженера математика – всего лишь инструмент; им задолго до студента Роберто с блеском пользовались в аэродинамике Н.Е. Жуковский, Л. Прандтль, С.А. Чаплыгин, Т. Карман, но в те же примерно годы американский конструктор Роберт Годдард (впоследствии первым запустивший ракету с жидкостным двигателем) в книге «Метод достижения максимальных высот» писал, что математически этот метод непостижим. А директор авиационной школы в Лозанне – что «аэродинамика есть наука вполне эмпирическая», и об аэродинамических законах, – что «нет ничего более опасного, чем применять математический аппарат с целью достичь построения этих законов».
Вот так решительно: нет ничего более опасного! Совершенно то же, что у коллежского регистратора в чеховской «Свадьбе»: «А по моему взгляду, электрическое освещение – одно только жульничество… Ты давай огня – понимаешь? – огня, который натуральный, а не умственный!»
Аналитически найденные профили обтекания Бартини потом применял на всех своих машинах. И, уже проектируя первую из них – «Сталь-6», сделал следующий шаг в этом направлении: приступил к физико-математическому исследованию взаимодействий отдельных частей летательного аппарата, прежде всего крыла и мотора, в воздушном потоке. В то время считалось, что все части самолёта работают автономно, каждая выполняет свою долю работы, не «зная» про доли соседей. Крыло самостоятельно, почти независимо от смежных агрегатов создает подъемную силу, двигатель – тягу, в фюзеляже размещаются грузы, пассажиры, экипаж… Чтобы несколько уменьшить суммарное аэродинамическое сопротивление самолёта, все места соединения его частей, все такие переходные зоны делались плавными, укрывались зализами; каждый агрегат, это уж само собой, делался как можно более обтекаемым. Но для поршневого двигателя с воздушным винтом – считалось, все уже было сделано • – возможности облагородить форму мотора исчерпаны. Речь здесь могла идти лишь о мельчайших усовершенствованиях, хотя в условиях жестокой борьбы за каждый десяток-другой километров в час нельзя было пренебрегать даже ничтожными процентами выгоды. И начиная примерно с 1932-1933 годов, пишет немецкий аэродинамик Г. Бок, «дальнейшее улучшение летных данных пошло по пути применения все более мощных моторов…».
Первой попыткой Бартини объединить функции крыла и мотора, заставить их помогать друг другу как раз я была убранная в крыло система охлаждения мотора на «Стали-6». Не все посвященные в проект Бартини увидели это в полной мере, а вот летчик-испытатель Андрей Борисович Юмашев увидел с первого взгляда, не будучи еще знаком ни с расчетами «Стали-6», ни с интуитивными соображениями конструкторов, ни с сомнениями, которых тоже хватало. По программе испытаний Юмашев должен был сначала погонять «Сталь-6» по земле, потом доложить конструкторам и начальству, как она ведет себя при пробежках, «просится» ли в воздух… Так он и поступил: покатался, порулил на земле, разгоняясь и тормозя. А потом вдруг махнул рукой механикам, которые, как полагалось, бежали рядом, придерживая машину за концы крыльев, – отцепитесь! – и взлетел, не спросив на это разрешения.
Был скандал. Сам главный конструктор скандалил как умел (не очень умел).
Вдохновленный удачей со «Сталью-6», Бартини, работая над дальним арктическим разведчиком, ДАРом, доложил Всесоюзному совету по аэродинамике, что в некоторых случаях воздушное сопротивление может не мешать, а помогать полету: сила сопротивления может повернуться в противоположную сторону на 180 градусов, вместо сопротивления стать дополнительной тягой. Не верите? Но ведь и это в принципе давно не новость – ходят же парусные корабли против ветра! (Говоря строго научно, Бартини предложил не совсем ту же физику явления, что у парусников, но конечный результат похожий.)
На одном из вариантов ДАРа отрицательное сопротивление, дополнительную тягу, рождала мотогондола – большое, особым образом спрофилированное кольцо, внутри которого были установлены двигатели вместе с винтами. Кольцо так выправило поток от винтов, породило такую игру воздушных сил, давящих на него изнутри и снаружи, что к результату, полученному при испытаниях, даже Бартини оказался морально неготовым. Расчеты – расчетами, а вот когда вживе… ну, скажем, когда дуешь на пушинку, а она, вместо того чтобы удаляться, вдруг летит тебе навстречу!
На испытаниях было вот как. Сначала включили укрепленные внутри кольца двигатели, и они дали нормальную, заранее рассчитанную тягу. Затем спереди направили на эту работающую силовую установку мощный внешний воздушный поток от аэродинамической трубы – и вдруг, в нарушение всех привычных представлений, установка рванулась навстречу потоку. Тяга винтов, как показали приборы, словно подскочила на 30 процентов!..
По предложению известного аэродинамика профессора И.В. Остославского, это парадоксальное явление назвали тогда «эффектом Бартини». Сейчас эффект Бартини, уже не называя его так, забыв название, применяют для повышения коэффициентов полезного действия воздушных винтов и турбинных установок.
На пассажирском самолёте «Сталь-7» и соответственно на бомбардировщиках ДБ-240 (Ер-2) и Ер-4 места стыков крыла и фюзеляжа также имели форму примерно четверти кольца. Полные кольца там не получились по другим конструкторским соображениям. Но и эти четвертушки, обдуваемые потоками от винтов, вместе с еще кое-какими аэродинамическими находками сделали машину настолько непривычной для глаза, да и для руки бывалых авиаторов, что взявшийся было за ее испытания летчик вскоре от нее отказался:
– Она неуправляема!
Тогда, чтобы проверить, так ли это, послушна ли «Сталь-7» рулям, на ней трижды вместе с главным конструктором слетали А.Б. Юмашев, П.М. Стефановский и начальник самолётного отдела НИИ ВВС И.Ф. Петров.
– В этих полетах я еще раз увидел, как талантлив Юмашев и что значит, когда опытная машина попадает к такому летчику, – рассказывал Бартини. – Заранее Андрей «Сталь-7» не изучал, как и раньше «Сталь-6», спросил только, уже заняв командирское кресло, где какая ручка, где какая кнопка, и – поехали… Выполнил что положено, а после такие вдруг принялся закладывать сверхпрограммные виражи, что тут уж мы все трое на него заорали. Левый вираж делал с левым выключенным мотором, правый – с правым. То есть свались машина при этом в штопор – и нечем было бы ее поддержать, выправить. А Юмашев только усмехался в ответ на наши крики, будто сидел дома… как это говорится, у печки, да?.. И спрашивал: а это что за тумблер, а это для чего?..
…Сам Андрей Борисович Юмашев говорил мне, что дело тут было прежде всего в машине. Она великолепно слушалась рулей. На плохо управляемой он такие колена выкидывать не стал бы, их неспроста запрещала инструкция.
Стало быть, первый летчик, объявивший «Сталь-7» неуправляемой, поступился совестью. По теперь уже непроверяемым сведениям, его заставили это сделать. И до сих пор о «Стали-7» пишут, мягко говоря, вразнобой. В сравнительно недавнем, 1980 года, академическом труде «Развитие авиационной науки и техники в СССР» сказано, что это был всего лишь «следующий самолёт конструкции Р.Л. Бартини… обладавший хорошей скоростью и дальностью полета», но – ни слова, что хорошей в те годы считалась дальность 1250-1500 километров, а у «Стали-7» была 5000 километров! Это надо искать на других страницах, в других трудах. И максимальная скорость 450 километров в час была не просто хорошей, а наибольшей по условиям объявленного тогда конкурса скоростных транспортных самолётов. То пишут там же, что «у самолётов «Сталь» не было никаких преимуществ перед обычными, в основном деревянными», а то – что стальные конструкции получались очень легкими и долговечными. Это ли не преимущества в авиации? Сложноватой, трудоемкой была электросварка, но и ее освоили, причем в серийном производстве. «Она себя оправдала», читаем у В.Б. Шаврова в его «Истории конструкций самолётов в СССР, 1938-1950 гг.».
Почему же «Сталь-7» так и не пошла в серию, в эксплуатацию?
Никакого убедительного ответа на этот вопрос пока не дано, кроме – «по ряду причин» и ссылок все на то же: на отсутствие преимуществ и сложность технологии.
Правда, некоторый свет на «ряд причин» проливает другой рассказ, из других времен – как «в один из январских вечеров 1944 года» Сталин спросил руководителей авиапромышленности, наркома А.И. Шахурина и его заместителя А.С. Яковлева, нельзя ли переделать бомбардировщик Ер-2 в десяти-двенадцатиместный пассажирский самолёт с дальностью 4-5 тысяч километров. Нет, ответили руководители, это нецелесообразно. И хотя Сталин попросил еще раз подумать над его предложением, ответ был прежний: нет, приспосабливать для этого бомбардировщик не следует, а надо разработать специально пассажирский самолёт, новый. К тому же конструктор Ер-2 В.Г. Ермолаев меньше чем через год заболел и умер, несмотря на свою молодость, а без него все же построенный пассажирский вариант Ер-2 остался недоведенным, принят не был, и вскоре конструкторское бюро Ермолаева передали Сухому.
Сплошь вопросы к рассказчикам этой истории. В какой переделке нуждался Ер-2, к чему его надо было приспосабливать, если он сам был переделкой из «Стали-7», пассажирского самолёта именно с теми характеристиками, которые требовались? Ермолаев умер, но Бартини был жив, хотя и в тюрьме, – почему возродить «Сталь-7» не поручили ему? И наконец, деньги, силы кто-нибудь сосчитал в тот лирический январский вечер у Сталина? За окошками-то ведь шла война, рубли и силы полагалось особо экономить, и уже сконструированный, уже испытанный самолёт возродить наверняка было дешевле и легче, чем разработать новый, пусть даже более комфортабельный.
Но «Сталь-7» по крайней мере имела все, что в то время полагалось иметь самолёту: фюзеляж, длинные крылья впереди, оперение сзади, двигатели в мотогондолах… Поэтому можно себе представить, сквозь какой скепсис, сквозь какие препятствия пробивался в начале 40-х годов проект околозвукового истребителя «Р» – бесхвостого, без мотогондол, без фюзеляжа. Так называемое «летающее крыло», причем короткое, очень большой стреловидности. Двигатели, конечно, на «Р» стояли, но их сделали не круглыми в поперечном сечении, а плоскими и целиком слили с концевыми отсеками крыла. То есть это была попытка – по мнению историков, первая в мире – полного газодинамического единства крыла и силовой установки, единства их функций.
Таким же экзотическим казался, трудным был для тогдашнего «глаза» проект истребителя-перехватчика Р-114, да еще и сверхзвукового.
Проекты обсудили, но дальше обсуждений дело не двинулось, и в 1943 году это ОКБ ликвидировали. Через некоторое время организовали для Бартини новое, по-прежнему в тюрьме, и задание дали другое – гражданские самолёты с обычными скоростями.
Надо было ждать. И не столько технических возможностей превзойти «звук» – технические уже были, – сколько перемен в мироощущении, что ли, тех, кто должен был согласиться участвовать в такой работе, дать на нее заказ и средства. То есть опять ждать преодоления психологического барьера, известного своей ролью в истории техники.
Между прочим, раньше этот барьер по большей части кляли за то, что он вечно путался в ногах прогрессирующего человечества, а сейчас и к нему отношение изменилось. Он даже называется теперь в некоторых психологических трудах по-новому: антисуггестивным – сознательным, интуитивным и этическим барьером против внушений, против логически хорошо обоснованных и все же пустых, а то и вредных затей. Важно лишь, чтобы высота этого барьера была оптимальной. При слишком высоком наступает творческий застой, бесплодие, при слишком низком – зря тратятся силы. Хороши бы мы были, легко соглашаясь с любыми, лишь бы новыми идеями, с готовностью раздавая пинки старым, проверенным! Мигом вылетели бы в трубу.
Уже прослеживаются и история развития, и история изучения этого свойства – отбрасывать все, что вызывает чувство недоверия живого существа к окружающему миру, только еще познаваемому, а значит, небезопасному. И оказалось, что его давно учитывали в своей практике врачи, актеры, педагоги и демагоги, – корни его обнаружились в древних оккультно-мистических школах. Причем в гуманитарной области идеи внушаются (по Бехтереву, психическое состояние пересаживается без усилия воли, без ясного осознания воспринимающим) легче, чем в естественной. Основавший в 1919 году фашистскую партию бывший журналист Муссолини некоторое время еще вынужден был писать статьи и доказывать в статьях и речах, что он, только он поведет Италию к социальной справедливости и благоденствию. Через три года, после государственного переворота, итальянцам успешно внушалась более простая истина-лозунг: «Дуче не ошибается! Да здравствует дуче!» А в 30-х годах Джерманетто с горечью рассказал Роберту, что теперь фашизм воздействует на их соотечественников совсем уже просто: весь, например, огромный пассаж в Милане исписан тысячи раз повторенным единственным словом – «дуче»…
Математика, как отражение жизни, тоже и давно смоделировала психологический барьер новому – в известной теореме Гёделя. На нее часто ссылался Бартини. Житейски ее можно истолковать приблизительно так: во всяком классе понятий, как бы он ни был широк, непременно возникают вопросы, ответить на которые удается, только еще расширив сам этот класс понятий.
Иначе говоря, познание мира нескончаемо и драматично, поскольку оно требует не просто накопления знании и расстановки их по предусмотренным для них полкам, а взломов представлений, выходов за пределы привычного круга понятий. «Развитие сознания у каждого отдельного человеческого индивида и развитие коллективных знаний всего человечества на каждом шагу показывает нам превращение непознанной «вещи в себе» в познанную «вещь для нас», превращение слепой, непознанной необходимости, «необходимости в себе», в познанную «необходимость для нас». Гносеологически нет решительно никакой разницы между тем и другим превращением, ибо основная точка зрения тут и там одна – именно: материалистическая, признание объективной реальности внешнего мира и законов внешней природы, причем и этот мир и эти законы вполне познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца»[6]6
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 197.
[Закрыть]. И дальше: «Как ни диковинно с точки зрения «здравого смысла» превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно, как ни «странно» отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной, как ни необычно ограничение механических законов движения одной только областью явлений природы и подчинение их более глубоким законам электромагнитных явлений и т. д., – все это только лишнее подтверждение диалектического материализма»[7]7
Там же, с. 276.
[Закрыть].
Не знаю, как было в молодости Бартини (говорят, было иначе), а в старости он не любил словесных боев. Возражения слушал, запоминал, сам их после развивал; умевших возражать ценил. Его противники, в большинстве, это чувствовали и тоже ценили. Но от публичных споров уходил, замыкаясь: считал, что в них рождается не истина, а то, от чего его когда-то увел Тухачевский при разработке «Стали-6».
…Надо было ждать. Технические возможности достигнуть «звука» и превзойти его исследовались в России с первых лет века. С.А. Чаплыгин начал исследовать эти возможности. В Советском Союзе в предвоенные годы над теорией крыла малого удлинения работали академик Н.Е. Кочин, член-корреспондент Академии наук СССР В.В. Голубев, в ЦАГИ – В.П. Горский, А.Н. Волохов, затем Б.Я. Кузнецов, в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского – профессор Г.Ф. Бураго, в МГУ – аспирант Кудашев (в 1941 году он погиб на фронте)… К изучению особенностей полета на больших дозвуковых скоростях приступил в 1939 году также С.А. Христианович, возглавивший затем советскую школу газодииамиков. Во время войны, с 1942-1943 годов, в ЦАГИ и ЦИАМе (Центральный институт авиационного моторостроения) исследовались варианты аэродинамических компоновок скоростного реактивного самолёта. Результаты этих исследований, обобщенные в трудах И.В. Остославского, Г.С. Калачева, М.А. Тайца, Я.М. Серебрийского, Г.П. Свищева, В.В. Струминского, Г.С. Бюшгенса, легли в основу проектов наших первых реактивных истребителей со стреловидным крылом. Надо полагать, практики про все это не слышали, иначе они не удивились бы, увидев проекты Бартини.
Примерно так же по времени развивалась скоростная авиация и на Западе. Первые итальянские реактивные самолёты «Кампини-Капрони» КК-1 и КК-2 взлетели в 1940-1941 годах, английский «Глостер» – в 1941-м, американский «Р-59 Эркомет» – в 1942-м, затем «Р-80 Шутинг стар», затем «Р-84 Тандерджет»… Часть великолепно оборудованного аэродрома на западе пустыни Мохаве в Калифорнии, где климат резко континентальный – в среднем 350 дней в году стоит солнечная погода, – американцы отвели под секретный испытательный центр боевых реактивных самолётов. Потом этот центр назвали «Эдварде» – по имени погибшего летчика-испытателя. И еще один такой аэродром построили в Райт-Филде…
Немалых успехов добились тогда же и немецкие ученые-реактивщики, а также уже и практики. К счастью, большинство их работ так и осталось до конца войны лишь потенциально опасным.
Таким образом, в конце 30 – начале 40-х годов авиация буквально вплотную подошла к зоне скоростей, в которой скачком – сразу впятеро, вшестеро! – поднималось воздушное сопротивление полету. Самолёт вдруг начинало трясти, как телегу на булыжной мостовой, а если мощная двигательная установка все же тянула его дальше, к еще большей скорости, самолёт переставал повиноваться рулям, затем неизвестные (большинству практиков тогда неизвестные) силы валили его набок или бросали носом вниз, в пике, выйти из которого удавалось не всегда.
Это был «звуковой барьер»: для хорошо обтекаемого самолёта – сравнительно узкая полоса скоростей вблизи скорости распространения звука в атмосфере, звуковых волн. Воздух в этой полосе начинал показывать, что он газ, а не жидкость, что он сжимается, как газ, и классическая аэродинамика, в которой сжимаемость воздуха не учитывалась, переставала быть для него законом. Силы менялись, стремительно росли, по-иному, не по-расчетному распределялись по поверхности летательного аппарата: их равнодействующая сдвигалась далеко назад, задирала хвост самолёта, и самолёт входил в крутое пике… Машина «нормальной», то есть привычной для старых авиаторов, конфигурации пробить этот барьер если и могла, то лишь с большим трудом.
Вот тогда и понадобились новые схемы, формы летательных аппаратов, новые профили обтекания. И, естественно, прежде всего их принялись искать для маленьких самолётов. Чем меньше летящее тело, тем меньше ему сопротивляется воздух: истребители почти всегда были скоростнее бомбардировщиков. Маленькими были наш БИ-1, немецкие Ме-262 и Me-163 (начала 40-х годов), первые реактивные «Ла», «МиГи», «Яки». Поликарповский ракетный истребитель, оставшийся, как и бартиниевские, в проекте, прямо так и назывался – «Малютка»… 14 октября 1947 года маленький американский экспериментальный самолёт «Белл Х-1» с ракетным двигателем впервые в истории авиации вышел за скорость звука. Но получилось это у него на большой высоте, где воздух разрежен и слабо сопротивляется полету, получилось после сложного разгона и на очень коротком отрезке пути: прожорливый двигатель Х-1 мог работать с полной тягой только две с половиной минуты. На больший срок ему не хватало запаса топлива на борту, поскольку самолёт был очень маленький. И на высоту эту Х-1 сам взлететь не мог: его туда поднял самолёт-носитель «Боинг Б-29», обычный поршневой.