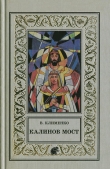Текст книги "Мост через время"
Автор книги: Игорь Чутко
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Вот какие разговоры велись в богатом, добропорядочном доме вице-губернатора благословенного города Фиуме. , Впрочем, как общедоступные результаты наблюдений, как бесспорные научные истины они излагались во всех гимназиях и училищах. Без выводов, тем более общественных. Выводы каждый ученик мог делать сам, в меру своего разумения. Для большинства все это оставалось обычной нудноватой школьной дисциплиной, которую сдать бы поуспешнее и как можно скорее забыть. Кому она нужна, эта профессорская премудрость, кроме, конечно, тех, кто сам собирается стать профессором?
Родители не спешили знакомить Роберто с грубой прозой жизни, однако и не скрывали от него, что люди живут по-разному, что в мире еще нет полной гармонии. Она пока достижима лишь в нематериальной субстанции и каждым из нас самостоятельно. Донна Паола учила Роберто языкам, тетя Елена музыке. Сам барон Лодовико буквально жил идеями великих французских просветителей – Руссо, Монтескье, Д'Аламбера, Вольтера, читал Гегеля, Маркса, Энгельса и во многом соглашался с ними. Сына он называл гражданином, «ситуайненом», и тоже позволял себе при мальчике рассуждения, которые могли далеко завести незрелый ум. А именно что, согласно Общественному Договору, каждый человек, родившись, сразу получает все права человека, независимо от того, сын ли он короля или пастуха. Все люди ему обязаны, а он, маленький, беспомощный, имеет все права… Зато, став взрослым, он делается обязанным всем людям. «Никто, – говорил барон, ссылаясь на Руссо, – не должен быть настолько богат, чтобы иметь возможность купить душу или тело другого человека, и никто не должен быть настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать свою душу или тело».
Отец никогда не подавлял сына своим авторитетом. Даже узнав, что Роберто под влиянием товарищей в гимназии стал покуривать, когда гувернантка в праведном ужасе доложила об этом господину барону, тот подарил сыну пробковый мундштук и коробку душистых египетских папирос: «Если уж тебе нравится это занятие, отныне бери у меня хорошие!» И сын бросил курение – удовольствие перестало был запретным, труднодоступным, утратило прелесть риска.
Однако пользоваться настоящими, крупными привилегиями молодому барону домашние не советовали. Отец ему сказал: «Вот ты любишь спорт, Роберто, участвуешь в соревнованиях, и я горжусь твоими победами. А представь-ка себе, что ты стоишь на старте, приготовился бежать, сорваться с места, и в ряд с тобой стоят еще десять бегунов, и уже поднят пистолет…
И вдруг в этот самый момент к тебе подходят два господина в цилиндрах, во фраках, берут тебя под руки и говорят:
– Ваше сиятельство! Ваше место не здесь, не с этими людьми! – и ведут тебя на полкруга вперед…
И будет выстрел, и вы побежите, и ты конечно же закончишь дистанцию первым. А дальше – все, что полагается: аплодисменты, круг почета, пьедестал, где на тебя возложат венок…
И ты будешь стоять на пьедестале? Но ведь ты там сгоришь со стыда, Роберто!»
Сын превосходно успевал в гимназии. Пожалуй, слишком успевал, с точки зрения родителей и преподавателей, чересчур быстро и доверчиво – прямо так, как видел и слышал – усваивал знания, не сверяя их с собственным опытом. Да и мало еще было у него собственного опыта, зато памятью природа наделила его, как теперь сказали бы, «фотографической»: он запоминал все с первого раза и навсегда. А также незамутненной совестью. Рассудительный, умевший спокойно взвесить любые обстоятельства, Лодовико ди Бартини, разумеется, поощрял стремление сына к знаниям: они и украшают их обладателя, и что-то постепенно меняют в сложившемся, далеко не идеальном порядке вещей… Но кроме простой суммы сведений, научных идей, многие из которых весьма увлекательны, истинно передовому человеку, считал барон, нужно чуть-чуть скепсиса. Не все в жизни согласуется с самыми мудрыми сочинениями.
Что Роберто эту рассогласованность совершенно не чувствует – его близкие заметили и поняли слишком поздно, когда уже мало что могли в нем изменить. Характер сформировался. Им оставалось только помогать мальчику, потом юноше в каждом конкретном случае, кое в чем осторожно его подправлять, оберегать, ловя своими любящими сердцами все более и более тревожные сигналы предназначенной ему судьбы. Если уж от нее не уйдешь, то пусть она хотя бы настигнет его позже, взрослым, сильным!
Да, некоторые странности в его поведении, в том, как он воспринимает окружающее, можно было заметить еще задолго до гимназии. Например, он ничего не боялся: в пять лет, был случай, темным осенним вечером ушел один в заброшенный парк князей Скарпа, чтобы увидеть фею, жившую, по преданию, в боковой башне пустующего замка. К этой башне, сложенной из небольших ноздреватых валунов, чуть подует ветер – гудевшей внутри на разные голоса, добрые люди и днем-то решались приближаться только компаниями. В парке Роберто заблудился, заснул под папоротником. Искали его с факелами, прочесывали заросли и нашли под утро спящим, в жару и бреду. Нашла черная Алиса. Вице-губернатор подал знак: тише!.. уберите собаку! Подумал, что сын в обмороке от испуга…
Роберто осторожно перенесли домой на руках, около месяца он потом пролежал с высокой температурой. Объяснить бы ему после этого, что просвещенный человек может восхищаться народными легендами, преданиями, но не должен всерьез принимать разных там фей, колдунов, гномов, привидения – все эти остатки древних суеверий. Так нет же, не объяснили как следовало бы – не решились мешать «свободному развитию свободного, имеющего все права гражданина», подавлять его волю. Только мама Паола, чтобы он сам увидел разницу между настоящей фантастикой, научной, и просто сказками, стала, пока он болел, читать ему вслух «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна. Книга у них была в немецком переводе. И опять явный симптом какого-то отклонения Роберто от нормы: следя за строчками, он за две-три недели выучился читать по-немецки – но читал после этого, держа книгу вверх ногами, как видел ее с подушки. Пришлось его потом переучивать. (А всего, между прочим, Бартини знал впоследствии семь языков и еще на двух читал, но не говорил.) Футболом, плаванием, фехтованием он также занимался с таким рвением, так ликовал, побеждая на детских соревнованиях, а потом и на взрослых, что и это в конце концов встревожило его родителей. Быть первым в спорте похвально, но не собирается же мальчик, следуя новейшим веяниям, превратить спорт в свою профессию?..
Одно время большие надежды барон Лодовико возлагал на своего друга Бальтазаро. Увлекшись естествознанием, началами философии и историей, Роберто принялся сочинять историю рода Бартини, но повел ее от зарождения жизни на Земле… Там разглядел ее начало. Путаясь, мучаясь, разложив на столе и на полу десятки раскрытых книг, не давая прибрать в своей комнате, он исписал кипу листов: рассуждал о происхождении и назначении жизни, о «воплощении, переплетении и взаимопроникновении вещей». И это в тринадцать лет! Зерно и колос, писал он, – одно, поскольку колос вырос из зерна, а зерно из колоса; мальчик, мужчина и старик – тоже одно… Где оно скрыто, их единое? В первое время старший барон приветствовал это сочинительство, счел его относительно безобидным упражнением ума под надежным контролем (доктора и своим), потом всполошился – у Роберто опять слишком разыгралось воображение, это могло пойти в ущерб учению, делу.
Наряду с такого рода уходами в сторону от дела, временными, как все еще надеялось семейство, наряду с успехами, несмотря ни на что, в полезных науках, особенно в математике, физике и языках, Роберто овладевал и такими умениями, смысл которых был уж вовсе не понятен его близким и учителям. Мог, например, быстро, в одно движение, нарисовать правой и левой рукой две половины какой-либо симметричной фигуры, и, если потом эти половины совместить, они оказывались точными, зеркальными отражениями одна другой, образовывали целую симметричную фигуру. Лекции в гимназии Роберто записывал нормально, как все ученики: слева направо, – а мог записывать левой рукой, справа налево, тоже зеркально, подражая Леонардо да Винчи. И уверял, что все люди так могут: ведь все мы легко делаем симметричные синхронные движения руками!
Странности Роберто не исчезали со временем, наоборот, крепли, углублялись. Я узнал его, как уже говорил, шестидесятилетнего; каким он был в молодости и зрелости, мне отчасти рассказал он сам, но очень скупо, рассказали некоторые бумаги, а главным образом его коллеги и друзья, в том числе старейший его друг, с 1920 года, архитектор Б. М. Иофан. Родился Борис Михайлович в Одессе, учился и долго жил в Италии, и это его биографию, ее подробности Бартини использовал в «легенде», когда эмигрировал в Россию. Недалеко от Рима Иофан построил виллу для барона Роберто ди Бартини, на самом же деле – конспиративную квартиру для компартии.
Не все особенности, тем более странности Бартини были его преимуществами (хотя все они интересны для исследования процессов научно-технического творчества), некоторые из них делали его плохо защищенным. Он, скажем, никогда не ощущал голода, ел по часам, если не забывал взглянуть на часы. А если забывал, то не ел. В старости это с ним бывало чаще, поэтому дома у него, чтобы всегда быть на глазах, напоминать о себе, со стола в большой комнате не убиралась какая-нибудь непортящаяся сухая еда, накрытая салфеткой. Вафельный торт, печенье… Однажды на заводе он упал в обморок, словно заснул, уронив голову на бумаги. Прибежал врач и определил, что Бартини обезвожен, – оказывается, он и жажды никогда не ощущал. Некоторых общепринятых правил поведения, норм он тоже не знал или не признавал. В последнее наше с ним свидание и расставание, когда он одевался в прихожей, я сказал ему, что его пальто пора бы сдать в утиль. Он искренне, без малейшей скромности удивился:
– Очень хорошее пальто. Греет.
– А шапка? Ею пол натирать…
– Хорошая шапка!
Я тогда несколько преувеличивал, пальто и шапка у него не были совсем уж никудышними, но все же, хорошо это или плохо, давным-давно сложились неписаные нормы, в частности, в чем прилично ходить человеку определенного общественного положения, а в чем неприлично. Было бы неловко, например, директору явиться на работу в джинсовой паре. А Бартини все это было безразлично. Подвернулись бы ему джинсы, он и их носил бы. Еще до войны, когда такого рода правила были помягче нынешних, большой аэрофлотовский начальник, увидев входящего к нему в кабинет Бартини, вызвал секретаря:
– Пожалуйста, оденьте главного конструктора!
Сняли мерку, принесли со склада новенькую летную форму. Бартини переоделся, а то, в чем приехал, оставил на вешалке в приемной.
Кое-кто считал, что страха он не ведал настолько, что был совсем будто бы лишен этого во многих случаях спасительного чувства. В раннем детстве, возможно, у него действительно было так. Потом, мне кажется, иначе: под напором реальностей развитие все же состоялось. Но владел он собой идеально, страх умел подавлять, как и прочие свои душевные отклики на ситуации. Я уже говорил, что видывал его и обиженным, и обозленным. Видел и испуганным. А больше всего он боялся надвигающегося, уже близкого конца. Но таким Бартини бывал только дома, на людях же держался безупречно спокойно, до такой степени, что мог и впрямь показаться бесчувственным, как и чересчур прямолинейным в некоторых вопросах. Самые лучшие отношения с людьми, не говоря уж о плохих, иногда требуют маневра, а он этого не признавал – может быть, не понимал, не хотел понять. И, бывало, ошибался. К счастью, не всегда.
Тратя, безусловно, нервы в делах, он однако же никогда не хитрил, уверенный, что надо лишь истину выявить – и все немедленно само собой станет на свои места. Так было при его столкновении в 1930 году с четырехромбовым тюремным начальником; в результате Бартини, уже главного конструктора, уволили тогда из авиапромышленности. От дальнейших крупных неприятностей его избавили М.Н. Тухачевский и Я.Я. Анвельт, но ничьей административной помощи, то есть не по существу технического и организационного спора, он не искал, а просто встретил случайно на улице Анвельта, и тот спросил, как работается уважаемому главному конструктору…
Стойкость, не думаю, что бесчувственность, вела Бартини и в истории с жалобой одного из летчиков-испытателей на будто бы неуправляемый самолёт «Сталь-7», и в истории с дальним тяжелым сверхзвуковым самолётом. Мнение экспертов по этому проекту он получил такое: заявленные конструктором характеристики машины не подтвердились при испытаниях моделей – и, не имея в то время своего ОКБ, обратился за помощью, но опять же лишь за технической, в другое ведомство, к С.П. Королеву. Обратился, следуя одному из замечательных «четырех конструкторских принципов», – их сформулировал однажды, расфилософствовавшись в перерыве между полетами, шеф-пилот довоенного бартиниевского ОКБ Николай Петрович Шебанов:
– Для успеха нам нужно, во-первых, многое знать. Нелишне также знать пределы своих знаний, не быть чересчур самоуверенными. Юмор, в-третьих, нам нужен, чтобы не засохнуть, как вот эта ножка стола. И что еще нам очень нужно – это поддержка в трудную минуту!
В начале 30-х годов С.П. Королев работал в моторной бригаде отдела, которым руководил Бартини. В конце 30-х они вновь встретились – в тюремном ОКБ. Роберт Людовигович не считал себя учителем Королева (слишком короткой оказалась их совместная деятельность, да и были у Королева прямые учителя: Цандер, Туполев), но что-то, естественно, он дал будущему конструктору ракетно-космических систем. И Королев этого не забыл, как не забывал ничего хорошего и, говорят, плохого тоже… Исследования моделей дальнего сверхзвукового были повторены в одной из лабораторий С.П. Королева, и характеристики получены те самые, которые «заявил» Бартини.
Роберт Людовигович тоже с готовностью помогал другим конструкторам. Один из многих таких случаев – переделка пассажирской «Стали-7» в дальний бомбардировщик ДБ-240. В переделке он участвовал, можно сказать, технически руководил ею: для этого заключенного Бартини привозили по ночам в его бывшее ОКБ, где главным конструктором после его ареста стал Владимир Григорьевич Ермолаев, ученик Бартини. И при всей трагичности приведших к этому обстоятельств стал заслуженно, так говорил сам Бартини:
«Володя был настоящим главным, самоотверженно трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, безусловно, высокоталантливым. Мы это сразу заметили, как только он пришел в ОКБ. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в то время в самолётостроении по предложению Поликарпова утвердилась в общем правильная, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, работая в одной бригаде – крыла, или оперения, или фюзеляжа, или аэродинамики и так далее. В целом система была рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможности. Знания конструктора углублялись, производительность его труда росла, зато суживался круг его интересов.
Поэтому, посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда – в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда – в конструкторскую бригаду: а теперь выдай чертежи крыла! Оттуда на производство, в цех крыла. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение! В бригаду прочности: рассчитай конструкцию оперения…
И так – по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, уверен, что он и сейчас наилучший».
Я упомянул летчика-испытателя Н.П. Шебанова. Бартини вспоминал его не просто с уважением, а с чувством, мне до этого казалось, совсем Роберту Людовиговичу не свойственным – с нежностью.
Работали они вместе недолго, Николай Петрович испытывал только «Сталь-7», спасенную перед этим А.Б. Юмашевым, И.Ф. Петровым и П. М. Стефановским. В 1938 году спасать ее настала очередь Шебанова.
Бартини был арестован. На собрании в ОКБ, где «народ» клеймил Бартини, нашлись некоторые, предложившие заклеймить заодно и опытную машину («все мы видели – вредительскую»), свезти ее на свалку, чертежи – сжечь.
Слово попросил Шебанов:
– Я не касаюсь Бартини, в нем разберутся доверенные органы. Но давайте обсудим самолёт, поскольку, выходит, мы, наш экипаж, должны были потерпеть на нем аварию. Я понял, что так, хотя здесь и не было пока приведено ни одного профессионального указания, что и когда нас ждало. Но, наверное, какие-то технические соображения у товарищей есть. Вот и скажи нам честно ты, Коля, – ты разработал крыло: где ты в нем навредил?
И ты, Миша, скажи нам как конструктор шасси: когда оно не выпустится или где, в каком месте сломается? И ты, Витя, моторист: когда моторы заглохнут, когда нам выбрасываться с парашютами?
(Имена я здесь заменил, Шебанов назвал другие.)
Все особо бдительные – их нашлось немного, но шумных – мигом прикусили языки. Испытания прошли успешно, и 28 августа 1939 года Н.П. Шебанов, второй пилот В.А. Матвеев и бортрадист Н.А. Байкузов установили на «Стали-7» международный рекорд скорости на дальности 5000 километров.
Как тогда было заведено, по случаю рекорда состоялся прием в Кремле. Сталину представили экипаж и ведущего конструктора самолёта З.Б. Ценципера.
– А где главный конструктор? Почему его здесь нет?
– Он арестован, – ни на мгновение не смешавшись (свидетельствовал З.Б. Ценципер), ответил Шебанов.
– Фамилия? – будто бы уж не знал, заранее не узнал.
– Бартини. Вступился Ворошилов:
– Хорошая голова, товарищ Сталин, надо бы сохранить!
Напрасно вступился – говорят, Сталин терпеть не мог прямого заступничества, да еще на людях.
– У тебя? – к Берии.
– Да.
– Жив?
– Не знаю.
– Найти, заставить работать!
Берия не знал, жив ли Бартини. Этого и Бартини не знал. В тот день, вечер или ночь – тоже не различить было – следователь вызвал исполнителя, то есть палача. Бартини лежал на цементном полу, щекой в крови. Голову его «хорошую» приподняли за волосы, повернули лицом к свету:
– Ну чего рыпаешься? Сейчас здесь, – стукнуло по затылку, – будет маленькая дырка, а здесь, – овеяло лицо, – все разворотит…
Сознание погасло на какое-то время, пока не возникло покачивание. Неуместно подумалось: лодка Харона. Но покачивались носилки. Два вертухая были испуганы и осторожны, кто-то ими командовал. Заурчал мотор, железно раздвинулись ворота – Бартини их помнил по воле: с приклепанной звездой. Донеслись ночные звуки улиц, потом, чувствовалось, пошла загородная дорога, шоссе.
Привезли Бартини в Болшево, на сборный пункт специалистов, изъятых из промышленности. Оттуда, подлечив, – в спецтюрьму ЦКБ-29 НКВД.
Планировался кругосветный перелет «Стали-7»: машину доработали, разместили в ней 27 бензобаков общей емкостью 7400 литров, – но совершить перелет не позволила начавшаяся война.
Бартини, случалось, везло, и крупно. Хотя бы в том, что он уцелел. Ходит слух, по-моему, в порядке мифотворчества, что уцелел он тоже благодаря своей фантастической стойкости, смелости, но, как видим, была тут еще и внешняя причина: его велели «найти, заставить работать», то есть сохранить. Только этим, по здравому смыслу, можно объяснить, почему Бартини в тюрьме кое-что сходило с рук, что не сходило другим заключенным, не менее стойким. При всей искаженности сталинских представлений о людях, о способах «заставить» их работать, надвигавшаяся война требовала каких-то действий помимо расстрелов.
В ЦКБ Бартини пытались заставить работать над машиной «103» Туполева, будущим пикирующим бомбардировщиком Ту-2. Туполев сказал:
– Роберт, давай сделаем им сто третью – и нас освободят.
– Нет, у меня есть своя, пусть дают под нее КБ!
И не работал, пока ему не дали КБ. Но в итоге туполевцев освободили, а Бартини отсидел все десять лет, день в день, до 1948 года, да еще с поражением в правах на пять лет, до самого 1953-го, года смерти Сталина.
Бартини заставили переделывать «Сталь-7» в дальний бомбардировщик. Это была его машина, его работа, за нее он взялся. Сделали бомбардировщик. Но когда Сталин спросил генерала Н.А. Захарова, как поскорее запустить ДБ-240 в серию, и генерал, несколько замявшись, посоветовал освободить главного конструктора, ответа не последовало, Бартини остался заключенным.
В ЦКБ он корпел над своими чертежами и расчетами, не получив на это разрешения. Замотает шею полотенцем и сидит. (Он всегда носил белые косынки или шарфики, покупал их в Военторге, но а тюрьме шарфиков не было.) И никто его не трогал. Или примется рассказывать анекдоты, не избегал и с политическим духом. Слушатели пугались, а он:
– Чего нам бояться? Мы уже «там».
Заболев, не вышел на работу, попросил вертухая вызвать врача.
– Какого еще врача, вставайте!
– Ты слышал, что тебе сказано? Врача! Марш! И побежал вертухай…
Но это мелкий эпизод, с мелкой сошкой: служивая мелочь в ЦКБ опасалась тамошних заключенных, за них могло нагореть. Были эпизоды куда опаснее. Однажды Бартини привезли к самому Берии докладывать о ходе разработки истребителя «Р», оставили ждать в приемной. Одного оставили, не считая портрета Сталина напротив, над старинными напольными часами. Маятник – туда-сюда, казалось, видно было, как толчками ползет по циферблату большая стрелка.
– Отсчитываешь мне секунды, – думал Бартини. – Только ведь и ему – тоже отсчитываешь!..
После доклада, объявив свое решение, Берия спросил:
– Претензии есть?
– Есть. Я ни в чем не виноват, осужден ни за что.
В полукруглом кабинете окнами на Кузнецкий и
Фуркасовский на третьем этаже знаменитого дома-надгробия на Лубянке десятки подручных «лучшего друга великого Сталина» объяснили взглядами, что сейчас произойдет. «А, тебя взяли, так ты еще и не виноват!»
Было страшно, вспоминал потом Бартини, очень страшно, но еще хуже, что немного затошнило.
Берия подошел к нему почему-то не прямо, а по дуге, вдоль окон, мимо подручных:
– Бартини, ты коммунист?
– Считаю, что да.
– В какое же положение ты, коммунист, вздумал поставить партию? Мы знаем, что ты ни в чем не виноват. И вот мы сейчас тебя освободим, – что нам скажут? Нам скажут: «Вы его арестовали зря, продержали три года в тюрьме…» Не-ет, Бартини, так не будет, мы этого не допустим. А будет так: ты сделаешь самолёт, и тогда мы тебя не только освободим как искупившего свою вину, а еще и орденом наградим!
3
Вернемся, однако, к детству Бартини, поскольку там – истоки его характера.
И внешне, и по сути своей Роберт Людовигович сильно отличался от того итальянца, стереотип которого нам навеяли кино и литература, – смуглого, подвижного, чувствительного, бурно жестикулирующего. Сказались на Бартини – как не сказаться! – полвека, прожитые в СССР, в окружении людей иного склада, иного быта. Тоже справедливо, что он был «Self-made man» – человек, сделавший самого себя. Про Гагарина, когда он побывал в космосе, кто-то из литераторов написал: «Смотрю в его глаза и стараюсь разглядеть в них отблеск никем до него не виданного». Бартини не бывал ни в космосе, ни в землях никому не ведомых; в глазах его (тоже, кстати, не «итальянских» – не темных, а серо-голубых) светились только ум и многоопытность, доступная не ему одному. Опыт, извлеченный порой из самых обыденных вещей, мимо которых другие люди проходили, ничего не заметив.
Доктор Бальтазаро объяснил Роберто, что по теории великого Дарвина и по тому, как ее интерпретирует чуть менее великий Эрнст Геккель, человечество очень еще молодо, находится в самом начале лежащего перед ним долгого пути. Если образно принять пять тысяч лет за один шаг на этом пути, то сделали мы всего двадцать шагов – со времен первого короля, фараона, – а предстоит нам сделать еще пятьсот тысяч шагов.
Какими же они будут, эти шаги?
Все течет, все движется, изменяется. Но когда поэты сравнивают течение жизни с рекой, это не вполне верно. Реки обычно торопливы в верховьях, а ближе к устью, разливаясь, успокаиваются, замедляются. В жизни Вселенной – наоборот. В геологии, в биологии, в истории, наконец, каждая, последующая эпоха была короче предыдущей. Мезозой был короче палеозоя, млекопитающие развились быстрее, чем пресмыкающиеся, гаструла, по-видимому, быстрее, чем бластула… Насмешливый философ Анатоль Франс пишет о многократном повторении исторических явлений и даже событий: по его мнению, все, что было, будет вновь, в той же последовательности, в те же сроки и на тех же самых местах. Между тем матриархат, согласно новейшим исследованиям, занял несколько десятков тысячелетий, патриархат – около десяти тысячелетий, рабовладение – две тысячи лет, феодальный строй – тысячу… Повторения, обратные токи событий в истории бывают, как в водяных и воздушных вихрях, но они неодинаковы и невечны.
Все движется, верно, но движется ускоряясь. Само всемирное тяготение есть, по существу, всемирное ускорение: им держатся и небесные тела в бесконечном пространстве…
(Через пятнадцать лет комбриг Бартини дал своему сыну-первенцу имя Геро. От латинского «g», которым в науке обозначают ускорение. Геро Робертович Бартини.)
…А человек? Каким он станет в дальнейшем, тысяч через триста «шагов»? Куда мы идем и куда можем прийти, спросил Роберто доктора.
Этого никому пока знать не дано. Одни ученые считают, что в грядущих миллионнолетиях человек неминуемо изменится, в чем-то выиграет, а в чем-то, возможно, потеряет. Избавленный машинами от физического труда, он и внешне станет иным. По другим соображениям, не менее, а, пожалуй, более основательным, внешне человек больше не изменится, свой облик он сохранит, занимаясь спортом, но станет умнее, машины и приборы помогут ему пробудить и развить заложенные в нем, но пока спящие, не используемые огромные резервы для самоусовершенствования.
Предсказывают и ужасное, что, мол, создав непредставимую сейчас технику, переложив с себя на нее физический труд, а затем и умственный, люди в конце концов выродятся в ее прислужников – в хилых, безвольных, тупых, ослепнут и оглохнут…
…Тренер Карло учил молодежь в «Анджолине» не только плаванию, но также и общему владению телом и «духом». Рассказывал об индийских йогах: как они развивают свою волю. Запасы воли в человеке, его нравственные силы очень велики, но их надо разведать, освободить, воспользоваться ими.
Однажды Карло устроил своим питомцам воскресную прогулку в горы. Захватили с собой еду, спортивные принадлежности, в том числе самую любимую принадлежность – футбольный мяч.
Добрались до намеченного места. Стали накачивать мяч, и вдруг – бах! – камера лопнула… И никто, оказывается, заранее не позаботился ни о запасной камере, ни о резиновом клее.
Карло всмотрелся в лица мальчишек. Кислые у них лица… Поднял смятый мяч, брезгливо протянул его им:
– Имею честь представить: ваша властительница. Вы – жалкие рабы этой жалкой тряпки!
Афиши на тумбах обещали захватывающее зрелище, впервые в городе:
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ЛЕТЧИК СЛАВОРОССОВ НА ЗНАМЕНИТОМ АЭРОПЛАНЕ «БЛЕРИО-XI» СОВЕРШИТ СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ НАД МОРЕМ И НАД ГОРАМИ!
В теплый и безветренный майский день тысячи жителей Фиуме и курортников собрались за городом на широкой, обрывающейся в море площадке. Носом к обрыву стоял белый «Блерио-XI». Красивая это была машина, «летучая», даже с нашей теперешней точки зрения. Легкий моноплан с очень небольшим числом подкосов, растяжек и прочих частей, не вписанных в обводы.
Летчик надел черную кожаную куртку, пробковый шлем, поднялся в кабину, помахал оттуда публике рукой в перчатке. Два его помощника держали аэроплан за концы крыльев, два других принялись по очереди раскручивать пропеллер: рывком повернут лопасть – и отскочат, словно от опасного зверя, и опять повернут.
Мотор заработал, аэроплан, оставляя за собой синий дым, встряхиваясь на колдобинах, побежал прямо к обрыву. В толпе какая-то женщина закричала от страха, но «Блерио» уже повис над морем, стал удаляться, набирая высоту. Вернулся, сделал круг над зрителями и по огромной дуге, забираясь все выше, опять ушел к горизонту, стал виден только в бинокли. Вернулся, стал снижаться, сел…
Вице-губернатор, Роберто и его друзья Бруно и Ненко познакомились со Славороссовым. Летчик показал им, как устроен аэроплан. Все в машине было продумано, все на своих местах – значит, кто-то все это сумел продумать, сделать.
Роберто перестал в гимназии слушать учителей. На уроках рисовал в тетрадях машины, летающие и другие, придумывал их. Придумывал дальнопишущую машину. Это обычная пишущая машинка, но под каждой ее клавишей установлен электромагнит с контактом и батарейка. Печатаешь – и сигналы по проводам идут к таким же клавишам на другой машинке… Придумал и вычертил дома приливную, или волновую, электростанцию: в море качаются на волнах огромные поплавки, целые баржи, связанные коромыслами с берегом. Энергия качаний передается поршневым насосам, которые поднимают воду в хранилище, высоко над морем. Оттуда она подается на гидротурбины с динамо-машинами.
Это мысли – уже не чьи-то, а его, Роберто ди Бартини. Он хочет повелевать вещами, чтобы не он их, а они были его рабами!
Человек несовершенен, он только начал свой путь, но уже кое-чего достиг. Пересекает океаны, поднялся в воздух, изучает Землю: все, что на ней есть, наносит на карты…
Роберто вычерчивает карту Европы:
– Папа, а каким цветом наносить государственные границы?
– Границы?.. О, они, мой мальчик, цвета не имеют. Реки, моря, озера – синие, только разных оттенков, равнины зеленые, пустыни желтые, а границ между государствами природа не предусмотрела, они – позор людей…
И это мысли императорского сановника! Но Роберто знает, что отец тяготится своими служебными обязанностями, выполняет их лишь по гражданскому долгу, что он ни во что не ставит свою ученую степень доктора юридических наук, а любит – химию. В чем же дело, почему он не стал химиком? Где была его воля?
Не все в мире делается так, как надо… А как надо?
В Фиуме всеобщая забастовка портовиков, транспортников и коммунальников. Остановились трамваи, не выехали на улицы извозчики, не машут метлами дворники. Ветер гонит по мостовой пыль, мусор, не горят фонари. Замерли подъемные краны в порту, железнодорожные составы возле причалов, в домах выключен свет, водопровод.
Роберто отправился с отцом в город, увидел на площади колонны хмурых, молчаливых демонстрантов с красными флагами.
– Папа, это они устроили беспорядок?