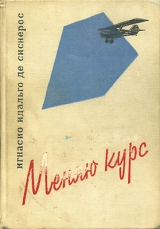
Текст книги "Меняю курс"
Автор книги: Игнасио Идальго де Сиснерос
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Эти события много раз обсуждались в баре. Сердечный прием, оказанный мне этими людьми, объяснялся их республиканскими взглядами.
В кругу новых друзей-республиканцев мне стало легче. Доброжелательность, сердечность и естественность, с которой они предлагали свою дружбу, взволновали меня. И все же в ту ночь я был одинок. Я не мог слиться с народом и брататься с ним, так как считал себя очень далеким от него. [209]
Часть вторая
Первые шаги республики
16 апреля 1931 года меня разбудили крики «Да здравствует республика!» и песни демонстрантов, проходивших перед небольшим отелем на площади Бильбао, в котором я остановился после приезда из Парижа. Я вышел на балкон и увидел огромную толпу людей с республиканскими флагами и среди них много военных, шагавших рука об руку с остальными демонстрантами. Хотя подобные демонстрации в те дни стали обычными, эта взволновала меня. Впервые я видел народ и армию в братском единении.
Провозглашение республики явилось для меня неожиданностью, и все еще казалось, что демонстранты совершают что-то противозаконное.
Трудно было сразу осознать перемену государственного строя в стране, как и привыкнуть к мысли, что с этого дня для меня начинается новая жизнь, совершенно отличная от прежней.
Я не знал, что должен делать. Естественно, прежде всего надо было явиться в авиационное управление военного министерства, но я испытывал нелепую застенчивость, полагая, что товарищи при встрече будут смотреть на меня, как на победителя. [210]
Убедив себя, что сегодня уже поздно, я отложил свой официальный визит в министерство и решил пойти пообедать к сестре Росарио. Идя к ней, я испытывал некоторую неловкость. В ее доме предстояло впервые после возвращения в Испанию встретиться с монархистами, и я не знал, какова их реакция на установление республики.
Погода стояла великолепная, от чего улицы столицы казались особенно веселыми и оживленными. Люди, одетые по-праздничному, выглядели радостными и счастливыми. Никогда еще я не видел таких огромных толп народа, охваченных единым порывом. Это трудящиеся Мадрида праздновали свою победу.
Непрерывным потоком шли люди с развевающимися знаменами в руках. Они пели и кричали: «Да здравствует республика!» Их лица выражали одновременно гордость, удовлетворение и твердую решимость пресечь любые попытки посягнуть на республику.
Сестра, увидев меня, разволновалась.
За обедом все чувствовали какую-то натянутость. Старались не говорить о политике и поэтому не могли держаться непринужденно.
Росарио очень переживала падение монархии и не скрывала этого. Зять, хоть и состоял адъютантом короля, как мне показалось, на происшедшие изменения реагировал более спокойно. Он не намеревался оставлять военную службу, как это сделал наш кузен генерал Мигель Понте, один из немногих военных, покинувших армию еще до опубликования закона об отставке, изданного военным министром Асанья. Поэтому его мучил вопрос: разрешит ему республиканское правительство продолжать службу или нет. Горничная и кухарка смотрели на меня с симпатией, как на единомышленника, словно говоря: «Мы – тоже республиканцы».
Помню, в доме братьев мне бросилось в глаза большое количество портретов членов королевской семьи. До сих пор я никогда не обращал на это внимания. Между прочим, собираясь уходить, я заметил среди этой галереи портрет короля с его личной подписью, полученный мною в подарок в связи с присвоением чина майора. Мне показалось неудобным оставлять портрет, я взял его под мышку и унес.
В тот же день я посетил аэроклуб, где увиделся с товарищами по авиации. Они встретили меня доброжелательно, а [211] друзья – радостно и тепло. Неловкости никто не испытывал. Уже через несколько минут между нами установились прежние дружеские отношения.
С некоторым удивлением я заметил, что мои товарищи довольно спокойно встретили смену режима, а многие отнеслись к новой власти даже с явной симпатией. Ни один из них не был расстроен или хотя бы огорчен из-за падения монархии. События обсуждались без резких выражений по адресу свергнутых, но и без какого-либо сожаления по поводу случившегося.
Если память мне не изменяет, только четыре или пять летчиков покинули аэроклуб в знак протеста против слишком доброжелательного отношения его членов к республике. Это были наиболее ярые монархисты: Гальярса, Ансальдо (остальных не помню). К ним присоединились несколько аристократов и подставных лиц – карьеристов, стремившихся примкнуть к привилегированному классу и воспользовавшихся случаем, чтобы показать, что они непримиримые враги республики и еще большие монархисты, чем даже сам король, надеясь таким способом проникнуть в недоступную им социальную среду. После провозглашения республики все эти люди стали встречаться в казино «Гран Пенья» – традиционном месте сборищ самых консервативных и реакционных элементов Мадрида.
После восстания в «Куатро виентос» правление клуба, объявив Рамона Франко предателем, исключило его из своих членов. Я же, видимо, казался им настолько незначительной фигурой, что вопрос обо мне даже не ставился. Однако, узнав о решении относительно Рамона, я сам подал заявление о выходе из клуба.
Республиканское правительство назначило Рамона Франко командующим авиацией. Направляясь в военное министерство, я не мог представить его в этой должности. В течение всего лишь одного года Рамон Франко был заключен в тюрьму, эмигрировал, возвратился и стал командующим авиацией. Выглядел он, как и всегда: неряшливо причесанным, в военной форме, вид которой оставлял желать много лучшего. Новое назначение совершенно не повлияло на его характер.
Стараясь скрыть свое волнение, он обнял меня и спросил, куда бы я хотел получить назначение. Я попросил, если можно, направить меня на прежний пост, то есть заместителем начальника авиационной школы в Алькала-де-Энарес. [212]
На следующий день я уже был на скромном, но милом мне аэродроме в Алькала, чувствуя себя необычайно счастливым от того, что снова могу летать. Я жаждал сесть в кабину самолета, и, хотя со дня последнего полета прошло много месяцев, не испытывал ни малейшего затруднения, управляя им. Летать, как и ездить на велосипеде, научившись раз, никогда не разучишься.
Начальник школы в Алькала майор Пепе Легорбуру редко появлялся там. Будучи тесно связан с политическими кругами, он много времени проводил у премьера Алькала Самора.
Снова Пепе уступил мне комнату в своем доме в Алькала, как и прежде, я питался в таверне сеньора Маноло, горячо приветствовавшего республику.
* * *
Воспользовавшись несколькими днями отпуска, Хосе Арагон и я решили съездить в Виторию: он – повидать родителей, я – братьев. Мы отправились на машине, купленной мною незадолго до этого.
Мне хотелось узнать, как реагировал Пако на провозглашение республики. Он был майором и служил в расквартированном в Витории полку. Я знал его как умеренного монархиста, в политику он никогда не вмешивался, заботясь только о своей карьере. Я нашел его спокойным: смену режима он воспринял без особой радости, но и без злобы, надеясь, что провозглашение республики не повлечет за собой каких-либо изменений в его личной судьбе.
Затем я отправился в Сидамон. Мне хотелось провести несколько дней в спокойной обстановке со своим братом Маноло, хотя я заранее знал, что без жарких споров не обойтись.
Брат очень обрадовался моему визиту и с интересом слушал рассказ о моих приключениях. Будучи приверженцем монархии, он все же считал, что поскольку мы взяли на себя обязательство, то поступили правильно, выступив в «Куатро виентос».
Споры на политические темы происходили между нами постоянно. Естественно, я защищал республику, как более справедливый и гуманный строй, нежели монархия. Брат опасался посягательств республиканского правительства на церковь, семью, собственность, хотя и признавал необходимость проведения кое-каких аграрных реформ в некоторых районах Испании. Мне не удалось его успокоить, но я обратил [213] внимание Маноло на мирный путь установления республики – без единого выстрела, без волнений и беспорядков. Я сказал, что Прието и Марселино Доминго, занимающие в республиканском правительстве посты министров общественных работ и образования, – хорошие люди, и те, кто знают их, не могут допустить и мысли, чтобы они совершили несправедливость или стали преследовать кого-то без достаточных на то оснований.
Известие о том, что я нахожусь в Сидамоне, немедленно распространилось по всей округе. Брата стали посещать друзья, которые с интересом слушали мои рассказы. Большинство этих людей были карлистами, придерживавшимися откровенно правых взглядов, и священники из соседних деревень. Карлистов не устраивала республика, но они пользовались случаем покритиковать Альфонса XIII, которому не могли простить «постыдного бегства», считая короля виновным в смене режима.
Однажды вечером в сопровождении двух священнослужителей и двух монахов из Санто-Доминго-де-ла-Кальсада нас пришел навестить дон Руфино, старый священник из деревни Баньярес. Желая побеседовать со мной наедине, они сидели у нас, пока не ушел последний посетитель. Как только мы остались одни, дон Руфино с тревогой спросил: «Как ты думаешь, Игнасио, не лишит правительство республики священников жалованья?»
Я как мог постарался успокоить их, но мои слова показались им, видимо, не очень убедительными, ибо они ушли по-прежнему встревоженные.
Я привожу этот разговор потому, что, мне кажется, он отражал отношение всего сельского духовенства к республике. Священники боялись потерять свое и без того нищенское жалованье, на которое еле сводили концы с концами, живя в крайней бедности, столь обычной для деревенских церковных служителей в Испании. Я не думаю, чтобы их особенно волновала политическая сторона событий. Республика восторжествовала, и они приняли ее. Но потеря шести реалов в день означала для них катастрофу. Отменив жалованье священникам, республиканское правительство нажило в их лице опасного врага. Я и по сей день убежден: если бы у них не отняли этого мизерного источника существования, а несколько увеличили его, хотя бы в самой незначительной степени, большая часть рядовых служителей церкви осталась бы верна республике и даже защищала ее. [214]
Из республиканцев нас посетил только старый друг семьи – Гальегос, землевладелец и алькальд Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, городка, расположенного в шести километрах от Сидамона. Он пришел вместе с капитаном Торресом, начальником жандармерии Санто-Доминго, товарищем моего брата.
Гальегос, умеренный республиканец, буквально выходил из себя, когда речь заходила о церкви. Он был ярым антиклерикалом и врагом попов. Капитан Торрес, то ли действительно в силу своих убеждений, то ли потому, что на него повлияло мое присутствие, тоже весьма определенно высказывал свою преданность республиканскому правительству.
Алькальд выразил удовлетворение тем, что я являюсь его политическим союзником. Но удивлялся, что выходец из такой семьи, как наша, стал республиканцем – ведь мои родственники всегда считались союзниками церкви, карлистами или альфонистами, одним словом, крайне правыми.
Алькальд пригласил меня к себе на обед в Санто-Доминго. Машинально я согласился, но обратил внимание, что он не пригласил брата.
В субботу на своей машине я направился в Санто-Доминго. На окраине городка меня встретили алькальд, секретарь муниципалитета и еще два человека. Все вместе мы отправились на центральную площадь, где, к своему изумлению, я увидел множество людей и длинные столы, накрытые для обеда. Как только мы появились, все встали и бурно зааплодировали. Без ложной скромности должен заметить, что поначалу не принял аплодисменты на свой счет, решив, что это торжество связано с каким-то событием, не имеющим ко мне отношения. Я ничего не понимал до тех пор, пока мне не сказали, что обед устроен в мою честь республиканцами Санто-Доминго.
Не помню, сколько людей собралось тогда на площади, во всяком случае, очень много. Там были в основном земледельцы, ремесленники, несколько учителей и врачей из ближайших сел. Как и следовало ожидать, «сеньоры» – местная знать – блистали своим отсутствием. Ни одного из друзей нашей семьи я не видел.
Во время обеда алькальд объявил, что в заключение выступит герой «Куатро виентос». Таким образом, семейный обед в доме Гальегоса, на который я ехал, превратился в политический банкет.
По мере приближения момента моего выступления росло и мое волнение по поводу того, о чем говорить. Наверное, мои соседи по столу решили, что я или витаю в облаках, или [215] самый скучный человек на свете. На все вопросы и просьбы рассказать что-нибудь я отвечал глупой улыбкой, ибо все мои мысли занимала предстоящая речь. Зная свою неспособность к выступлениям и импровизациям, я старался что-либо придумать, но все, что ни приходило на ум, казалось неудачным.
Первая половина речи Гальегоса была посвящена нападкам на духовенство, вторая – рассказу о моих, целиком сочиненных им, революционных подвигах, от которых мороз подирал по коже. Нервный озноб, охвативший меня при мысли о необходимости первый раз в жизни выступать публично, и смущение от незаслуженного прославления вызвали единственное желание – бежать и не останавливаться до самого Сидамона.
Затем говорил батрак. Он резко обрушился на богатых бездельников, живущих в Мадриде, назвал доходы от их поместий, в которые они не вложили ни капельки труда, и решительно потребовал конфисковать эти земли и передать тем, кто их обрабатывает. Несомненно, моим родственникам, владевшим имениями в Ла-Риоха, такой поворот событий не пришелся бы по вкусу.
Наконец перед тем, как настала моя очередь, слово взял секретарь губернатора. Он весьма бойко сказал несколько фраз, показавшихся мне замечательными, так как сумел в них очень точно сформулировать некоторые мысли, которые я с таким трудом пытался выразить в своей еще не произнесенной речи.
Когда Гальегос предоставил мне слово, все встали и горячо зааплодировали. Раздались возгласы: «Да здравствует республика, да здравствуют военные, преданные народу!» Произошло то, чего и следовало ожидать: в результате неожиданного для меня поворота событий и сильного волнения из моей головы исчезли и те немногие мысли, которые я с таким трудом придумал. Я помнил только, что должен поблагодарить Гальегоса и всех присутствовавших за теплый прием. Высказав свою признательность, я не знал, о чем говорить дальше. Наконец, понимая, что тянуть больше нельзя, с трудом подбирая слова, сказал о своем глубоком волнении в связи с оказанной мне честью и обещал, как испанец и военный, всегда быть готовым отдать все силы на защиту республики.
Газеты Лограньо довольно много писали об этом обеде. Левая пресса расхваливала меня, повторяя небылицы Гальегоса обо мне как о революционере. Правые же злонамеренно [216] приписывали мне резкие нападки на церковь, собственность и семью. Последний факт меня особенно удивил, ведь не только я, но и другие ничего не говорили о семье.
Естественно, моему брату Маноло не понравилось, что на обеде, организованном в мою честь почти у ворот его имения, требовали конфискации помещичьей земли и нападали на церковь.
Накануне моего отъезда у нас произошел небольшой спор. Его всегда бесила занимаемая мною левая позиция. Во время бурного разговора Маноло разбирал вещи в шкафу и наткнулся на карлистский берет от старой военной формы нашего отца. В шутку я попросил его надеть берет, сказав при этом, что в наше время его убеждения выглядят столько же устаревшими и нелепыми, как этот головной убор и иллюзии карлистов.
Ни один из нас не мог тогда представить себе, что спустя пять лет мой брат в этом берете вместе с тысячами рекете{104} в таких же беретах, примкнув к мятежникам, с криками «Бог, родина, король!» будут стрелять в нас и станут той силой, которая больше всего причинит зла республике.
* * *
По пути в Мадрид я заехал в Виторию забрать Хосе Арагона. В мое отсутствие там произошли некоторые политические изменения. Отца Хосе, дона Габриеля Мартикеса де Арагона, назначили губернатором Алавы. Это решение население Витории приняло с удовлетворением, зная доброту и честность дона Габриеля.
Мэром стал Томас Альфаро Фурниер, летчик-планерист, о котором я говорил в начале своих мемуаров. Он дружил со мной и с моим братом Эраклио. Арагон и Альфаро принадлежали к крупной буржуазии Витории. Семья Томаса являлась одной из самых богатых в городе, к тому же он был женат на мадридской аристократке, приятной даме и будущей графине (уже не помню, какого графства). Его назначение население встретило довольно холодно.
Наконец, брата Пако, которого я оставил успокоенным и почти примирившимся с республикой, я нашел возмущенным новым военным министром, назначившим в Виторию в комиссию по чистке в армии трех офицеров, верных республике, из [217] коих два не пользовались никаким авторитетом. Мой брат не мог допустить, чтобы такие люди судили о его поведении. Мне неизвестно, кто подсказал фамилии этих лиц, но столь неудачный выбор вызвал большое недовольство в местном гарнизоне.
Прежде чем вернуться в Алькала и приступить к своим обязанностям, я зашел в министерство и рассказал Рамону Франко о своих поездках в Виторию и Ла-Риоха. Он проявил значительный интерес к политическим вопросам. Некоторые лица из его окружения мне не понравились. Создавалось впечатление, что они хотели воспользоваться именем и положением Рамона в собственных политических целях. Когда я собирался уходить, он удивил меня неожиданным вопросом: не хочу ли я выставить свою кандидатуру на выборах в кортесы? Приняв его слова за шутку, я попросил не впутывать меня в подобные дела.
В Алькала меня ожидал сюрприз: я застал там своего вечно отсутствовавшего начальника Легорбуру. Полный оптимизма, он с головой ушел в государственные дела и сказал мне, что я должен взять на себя руководство школой, так как Алькала Самора, в распоряжении которого он находится, не оставляет ему ни одной свободной минуты. Мне показалось, что, состоя при премьер-министре, мой начальник чувствовал себя в своей стихии.
Будучи по натуре человеком впечатлительным, я всегда высоко ценил доброе отношение к себе и был счастлив, когда убеждался в этом на деле. Меня необычайно трогала теплота, которой окружили меня семья и друзья сеньора Маноло. Они всегда хорошо относились ко мне, но теперь, после моего возвращения из Франции, их дружеские чувства стали еще сердечнее и крепче. С того дня, как я выступил на стороне республики, в наших взаимных симпатиях появилось нечто новое.
То же самое могу сказать о своих отношениях с солдатами и сержантским составом аэродрома. И до провозглашения республики мы хорошо ладили друг с другом, но теперь я заметил большие изменения в их поведении и отношении ко мне. Я чувствовал, они доверяют мне и нас связывает нечто общее. Все это, о чем я путано пытаюсь рассказать здесь, проявилось, когда в стране началась ожесточенная политическая борьба, предшествовавшая мятежу против республики. Тогда я не раз замечал их тактичную, внимательную заботу о моей безопасности. [218]
По приглашению кузена Пепе в Испанию на несколько дней приехала Елена, наша милая кассирша из парижского пансиона. По такому поводу его бывшие постояльцы устроили у меня дома в Алькала обед.
Сенья Алехандра, хозяйка таверны, находившейся на первом этаже моего дома, накормила нас замечательным обедом. А ее муж, сеньор Маноло, съездил к себе на родину, в Арганда, и привез для нас самые лучшие вина.
Не знаю, то ли из-за симпатий к Елене, то ли потому, что обед удался на славу, но Прието пребывал в прекрасном настроении и с большим юмором рассказал несколько забавных анекдотов из собственной жизни.
Кейпо де Льяно в генеральской форме, с огромными усами имел внушительный вид и, все еще не теряя надежды добиться благосклонности Елены, тоже захотел блеснуть. Его истории были довольно глупыми, и, как всегда, героем их оказывался он сам. Чтобы пресечь хвастовство Кейпо, Рамон Франко и мой кузен Пепе, не считаясь с его генеральским званием, мастерски рассказали несколько случаев, представлявших Кейпо в весьма невыгодном для него свете. Все они относились ко времени службы генерала в Марокко.
Кейпо преследовала навязчивая идея – заставить подчиненных командиров носить усы и постоянно ходить в перчатках. Это вызвало недовольство офицеров. Пепе рассказал, как однажды он и еще четыре офицера приехали в Марокко и явились к Кейпо. Среди них находился молоденький врач-лейтенант без усов, только что окончивший университет и ничего не знавший об армейских порядках. Все пятеро вошли в кабинет Кейпо. Самый старший по званию согласно установленному порядку доложил: «Представляются пять офицеров, прибывших в ваше распоряжение» и т. д. и т. п. Кейпо, сделав вид, словно пересчитывает их, внимательно оглядел каждого и совершенно серьезно заявил: «Вы говорите, пять офицеров, но я, как ни стараюсь, вижу только четырех».
Офицеры удивленно переглянулись между собой. После некоторой паузы Кейпо обратился к старшему: «Я повторяю, что вижу только четырех офицеров, а это – это какое-то недоразумение, а не офицер! – и он указал на врача. – На худой конец, возможно, это семинарист или актеришка, у которого нет ничего общего с нами». Бедный врач пытался что-то объяснить, но Кейпо выгнал его из кабинета, не дав договорить. Молодой доктор был в ужасе от своей первой встречи с генералом. [219]
В свою очередь, Рамон Франко вспомнил случай, когда Кейпо посадил на гауптвахту офицера лишь за то, что тот закуривал сигарету, сняв перчатки. Возмущенные офицеры решили подшутить над генералом. Однажды утром в воскресенье на переполненном народом пляже появился Кейпо де Льяно. Тут же к берегу подошли несколько человек в купальных костюмах, дружно размахивая руками в натянутых на них перчатках. Больше всего нас потешило то, с каким тупым выражением слушал Кейпо рассказ Рамона Франко.
* * *
Мой кузен Пепе и Солеа жили в Мадриде. Когда приехала Елена, он не смог придумать ничего лучшего, как сказать Солеа, что отправляется с эскадрильей в Марокко. Но видимо, так уж было суждено, чтобы статьи и фотографии Санчеса Оканья в журнале «Эстампа», главным редактором которого он являлся, продолжали осложнять отношения между Пепе и Солеа.
Об обеде в Алькала в честь Елены Санчес Оканья тоже написал статью в «Эстампа», сопроводив ее фотоснимками. На одном из них Пепе и Елена были сняты под руку, как влюбленная парочка. Сама Солеа не видела этого номера журнала, однако нашлась добрая подруга, показавшая ей его. Удар оказался слишком сильным. Впервые Солеа реагировала хладнокровно или сделала вид, что ее это не волнует. Она не ломала вещи в квартире и не искала Елену, чтобы устроить скандал. Солеа позвонила мне по телефону и попросила встретиться с ней. Опасаясь, как бы она снова не натворила чего-нибудь, я немедленно отправился к ней на квартиру. Она уже все приготовила, чтобы в тот же вечер уехать в Севилью, и вручила мне для передачи кузену ключи от их недавнего жилища. В квартире царил полный порядок. Совершенно спокойно она сказала, что после долгих размышлений пришла к выводу о неисправимости Пепе и теперь намерена возвратиться в свою семью. Спокойствие Солеа произвело на меня огромное впечатление. Я понял: на этот раз ее решение покинуть Пепе окончательно.
Два года спустя Солеа вышла замуж за торговца скотом, своего первого жениха, о котором всегда тепло отзывалась.
Любопытное совпадение: через несколько недель после их бракосочетания в Мадриде состоялась другая свадьба – мой кузен Пепе женился на нашей родственнице, в которую всегда был немного влюблен. Ее крайне реакционно [220] настроенные родители всячески старались воспрепятствовать этому. Им не нравились республиканские убеждения Пепе, которого они считали изменником. Мне кажется, это противодействие только подогревало стремление молодых людей пожениться.
В последний раз я видел Солеа в 1935 году, встретив ее на улице Алькала. Она немного пополнела, но сохранила свою грациозность и привлекательность. По ее словам, муж очень внимателен к ней, живут они в достатке и в общем она вполне довольна жизнью. Ее последней фразой, сказанной с приятным севильским акцентом, было: «Инасио, душа моя, сейчас я живу честной жизнью и очень горжусь этим…»
Я всегда считал Солеа одним из самых честных людей, встретившихся мне когда-либо…
* * *
Провинциальный совет Бильбао пригласил группу летчиков, участвовавших в восстании на «Куатро виентос», и генерала Кейпо де Льяно на празднование годовщины разгрома карлистов при осаде города.
Эти торжества, как мне казалось, носили прогрессивный характер, и я с удовольствием поехал туда. Кроме того, я намеревался встретиться с Хосе Арагоном, назначенным правительством или, вернее, Прието гражданским губернатором Бискайи, чтобы иметь там человека, на которого можно было бы положиться. Меня не покидало беспокойство за Хосе. Его новые обязанности оказались очень сложными, ибо в этой провинции постоянно возникали конфликты между рабочими и хозяевами предприятий. Рабочий класс Бильбао отличался боевым духом и нередко добивался своих требований путем забастовок. Как правило, против бастующих бросали крупные силы жандармерии и даже войска. Еще в Витории, в дни моей юности, я слышал о храбрости и стойкости рабочих Бильбао в борьбе за свои права.
После демонстрации нас пригласили на банкет. Выступали самые влиятельные лица города. Когда последний из них кончил говорить, поднялся Кейпо де Льяно, намереваясь тоже произнести речь, которую, очевидно, подготовил заранее. Его встретили аплодисментами, но, прежде чем он открыл рот, Прието решительно заявил, обращаясь к присутствующим: «Я присоединяюсь к аплодисментам, которыми вы приветствовали генерала Кейпо де Льяно, и вношу предложение закончить выступления». [221]
Заявление Прието пришлось не по вкусу Кейпо. Однако он сделал каменное лицо и сохранял это выражение до самого отъезда из Бильбао.
На следующий день Хосе Арагон пригласил меня на обед. Мне хотелось поговорить с ним наедине, поэтому я заехал за ним в муниципалитет пораньше. Хосе уже понял, какие трудности ожидают его. Он принял это назначение отчасти потому, что предложение застало его врасплох, но главным образом под нажимом Прието, который придавал этой должности большое значение.
На обеде у Арагона присутствовали также наш земляк и будущий депутат Рамон Вигури, Прието и известный писатель Мигель де Унамуно, декан университета в Саламанке. Арагон и Унамуно поддерживали дружеские отношения с тех пор, как оба подверглись гонениям со стороны диктатора Примо де Ривера. Я не знал Унамуно, но много о нем слышал и хотел познакомиться. Помню, во время обеда зашел разговор о недовольной мине Кейпо, состроенной им на банкете. Дон Мигель заметил, что заранее подготовленные, но не произнесенные речи всегда приводят в возбуждение, – оно-то, видимо, и явилось причиной плохого настроения генерала. Говоря о языке басков, он сказал, что этот язык беден и должен исчезнуть, ведь даже сами баски не понимают друг друга.
Дон Мигель де Унамуно не произвел на меня большого впечатления, скорее разочаровал. Возможно, наслушавшись восторженных рассказов Хосе, я ждал от этого знакомства слишком многого.
Бильбао мне понравился. Грандиозная демонстрация показалась искренней, ибо, как бы ни была она хорошо подготовлена, тысячам и тысячам людей нельзя внушить подобного энтузиазма, особенно если они баски.
При оценке моих впечатлений об атмосфере, царившей в Бильбао, следует иметь в виду, что я вращался только в кругу лиц определенных политических взглядов – социалистов и республиканцев, друзей Прието. Рабочих среди них не было.
Я не обменивался мнениями по этому вопросу ни со своими родственниками, ни со своими друзьями. Не мог я ознакомиться и с взглядами и настроениями крупной буржуазии.
Через несколько месяцев Хосе Арагон оставил свой пост губернатора Бискайи. Случилось то, чего он опасался. Вспыхнула мощная забастовка. Правительство Мадрида приказало [222] немедленно подавить ее. Хосе считал требования трудящихся справедливыми и подал в отставку. Ее приняли, и он снова вернулся в авиацию.
* * *
Поскольку до 1 сентября авиашкола в Алькала наработала, я пользовался любой возможностью, чтобы полетать по стране. В частности, побывал на открытии аэродрома в Касересе, возглавив группу из двух эскадрилий самолетов «Бреге-19».
В Касересе жило немало наших родственников и среди них семья одного из братьев моей матери, Мануэля Лопес-Монтенегро (подарившего мне когда-то кусок эстрамадурского филе, съеденный кладовщиком колледжа в Витории). К тому времени дядя Мануэль уже умер. Его жена Мария, тоже урожденная Лопес-Монтенегро, ярая реакционерка и католичка, осталась с двумя дочерьми немного моложе меня. Я всегда питал к ним симпатию, они казались мне искренними и добрыми.
Небольшой городок Касерес очень живописен. Там сохранилось много домов родовитых семей с фамильными гербами и башнями. В одном из таких особняков и проводила большую часть года тетя Мария со своими дочерьми.
В честь нашего прибытия муниципалитет устроил обед. Социалист-алькальд оказывал нам постоянное внимание. Говорю о любезности мэра, чтобы подчеркнуть глупое поведение местных буржуа, демонстративно игнорировавших нас. Они не упускали случая выразить свое презрение к республиканскому правительству.
Прибыв в Касерес, я колебался, стоит ли навестить родственников. Однако после торжественного обеда и весьма революционной речи мэра решил не делать этого. Я представлял, как им было неприятно узнать (в Касересе любое происшествие немедленно становилось известно всем), что их двоюродный брат, один из Лопес-Монтенегро, помогал установлению республики в Испании и сидел рядом с мэром-социалистом, требовавшим проведения аграрной реформы, то есть конфискации владений и моих родственников. Думаю, я поступил правильно, не зайдя к ним. Но, остановившись в гостинице, поплатился за это.
Муниципалитет поселил нас в одном из лучших отелей города. День выдался тяжелый, мы порядком устали и, как только закончился ужин, отправились спать. Поднявшись в свою комнату, я лег и немедленно заснул, но не прошло и пяти [223] минут, проснулся от невыносимого зуда. Пришлось зажечь свет – простыни были усеяны клопами. Вести борьбу с ними было бесполезно. Раздосадованный, я спустился в патио гостиницы, где, как мне помнилось, стояли плетеные кресла.








