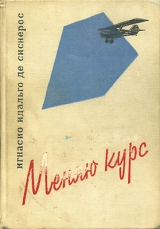
Текст книги "Меняю курс"
Автор книги: Игнасио Идальго де Сиснерос
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Казалось невероятным, чтобы четыре безумца, явившихся в «Куатро виентос», смогли развернуть такую деятельность, не встретив ни малейшего сопротивления.
В шесть часов утра были готовы к вылету два первых самолета, на которых механики по собственной инициативе закрасили монархическую кокарду красной краской. Альварес Бурилья{89} и я поднялись в воздух, чтобы сбросить над Северным и Южным вокзалами Мадрида прокламации и дать сигнал к прекращению движения на железных дорогах и началу всеобщей забастовки.
Арагон, летевший со мной, сбросил над вокзалом Аточа несколько прокламаций, которые железнодорожники тут же подобрали. Сделав несколько кругов над городом, мы вернулись на аэродром.
Кейпо де Льяно со своей колонной, развернутой в цепь, только еще направлялся в Кампаменто. Я не знаю, почему он так задержался, но из-за этой медлительности преимущество, связанное с внезапностью, было потеряно.
На аэродром «Куатро виентос» стали прибывать первые автобусы с офицерами, жившими в Мадриде. Прежде чем они выходили из автобусов, мы предлагали им присоединиться к нам либо добровольно согласиться на арест. К восстанию примкнули только полковник Анхел Пастор, лейтенант Кольяр – товарищ Барберана по его будущему неудачному перелету на [182] Кубу – и еще три офицера. Большинство же прошли в зал «Паласа», где уже сидели остальные арестованные. Всего там набралось 70 человек.
Арагон и я заправили свой самолет горючим и отправились в столовую «Паласа» выпить кофе. Между тем арестованные открыли двери зала и свободно разместились в вестибюле. На нас они смотрели словно на диковинных животных или безумных.
В «Куатро виентос» царил энтузиазм. Количество сторонников республики увеличивалось за счет трамвайщиков. Прибыв на конечную станцию и узнав о восстании, они просили дать им винтовки, чтобы тоже принять в нем участие. И еще один примечательный факт: когда мы перекрыли Эстрамадурскую дорогу, буржуа присоединились к «арестованным» офицерам, а рабочие, шоферы и извозчики, то есть простые люди, с огромной охотой брали оружие и решительно вставали в наши ряды.
Мы еще раз поднялись в воздух, чтобы разбросать над Мадридом прокламации, призывавшие народ примкнуть к восстанию. Однако, к нашему разочарованию, транспорт работал нормально, жители спокойно ходили по улицам, на вокзалах, как обычно, прибывали и отправлялись поезда. Одним словом, обещанная всеобщая забастовка не была объявлена.
Возвратившись на аэродром, мы увидели колонну Кейпо, остановленную силами Кампаменто. Нас с тревогой расспрашивали, что происходит в Мадриде. Никто не понимал, почему в столице так спокойно.
Рамон Франко решил бомбардировать королевский дворец, полагая, что это может изменить обстановку. В «Куатро виентос» все с волнением следили за полетом его нагруженного бомбами самолета. Он несколько раз пролетел над дворцом, а затем повернул назад, не сбросив ни одной бомбы. Когда Рамона спросили, что произошло, тот ответил, что на Восточной площади было много детей и он побоялся начать бомбардировку.
В это время появился генерал Кейпо де Льяно. Он приказал своей колонне занять оборонительные позиции у аэродрома, так как войска мадридского гарнизона уже окружали нас и артиллерийские части приготовились начать обстрел. Посовещавшись, Кейпо де Льяно, Рамон Франко и другие офицеры решили организовать круговую оборону. Под четыре самолета было приказано подвесить бомбы, остальным трем сбросить над Мадридом прокламации и попытаться [183] рассмотреть, решилось ли наконец население вмешаться. Обстановка быстро ухудшалась. Непростительное опоздание Кейпо, помешавшее захватить Кампаменто, неудача со всеобщей забастовкой нанесли нам тяжелый удар. Большая часть арестованных офицеров вышла из «Паласа» и совершенно свободно разместилась на большой лестнице здания, наблюдая за перипетиями нашей борьбы. Знаменательно, что ни в тот момент, когда они поняли, что обстоятельства складываются не в нашу пользу, ни тем более позже, когда уже стало ясно, что мы проиграли, никому из них не пришло в голову вмешаться и восстановить прежнее положение. А ведь их было в четыре раза больше, чем нас. Я уверен, что они не сделали этого не из-за страха стать лицом к лицу против нас, а из-за нежелания защищать монархию.
Арагон и я вновь поднялись в воздух, чтобы посмотреть, какова обстановка в Мадриде, сбросить прокламации и узнать, что делается на позициях атакующих нас войск. В столице жизнь шла своим чередом: ничто не указывало ни на забастовку, ни на восстание. Мы летели очень низко. Я был так возмущен, что бросал свой самолет чуть ли не на мостовую, желая заставить жителей понять, что мы восстали. Мне запомнилась одна деталь, имевшая для меня определенное значение. Пролетая, едва не царапая черепичные крыши, над Каррера Сан-Херонимо, вблизи отеля «Палас», я увидел господина, спокойно читавшего театральную афишу. Это обескуражило меня: если кто-то раздумывает в такой день над тем, в какой театр пойти вечером, совершенно ясно, что нам нечего ждать от мадридцев.
Войска, посланные на подавление восстания, двигались несколькими развернутыми колоннами. Особое впечатление произвела на меня колонна жандармерии, так называемой гражданской гвардии, шедшая через Карабанчель. Было холодно, поэтому жандармы надели свои черные плащи. Сверху они казались сплошной черной массой, вызывавшей неприятное чувство. Впервые в жизни я смотрел на жандармов как на врагов. До сих пор я видел в них приветливых и услужливых людей, каждую неделю посещавших нас в Сидамоне или Канильясе. Их приглашали закусить, в ответ они спрашивали, не нужна ли их помощь.
Артиллерия уже приступила к обстрелу аэродрома. Мы хорошо видели разрывы снарядов на взлетно-посадочной полосе и у ангаров. Позже я узнал, что ею командовал мой шурин Педро Жевенуа. [184]
Как только мы приземлились, к нам подбежал полковник Анхел Пастор и возбужденно сообщил, что Кейпо, Рамон Франко и еще несколько офицеров приняли решение прекратить сопротивление, так как дальнейшие жертвы бесполезны. Офицеры, которым может угрожать расстрел, должны на самолетах перебраться в Португалию. Рамон Франко, Кейпо и еще несколько человек уже улетели, а солдаты, которыми теперь командовали арестованные офицеры, сдавали оружие. Нам также следует немедленно бежать, если мы не хотим попасть в плен.
Для меня, не имевшего никакого революционного опыта, это был сильнейший удар. Я не мог себе представить, что финалом этой истории может быть бегство на самолете! Я не испытывал бы того тяжкого страха, который терзал меня накануне восстания, если бы знал, что в случае поражения буду иметь возможность спастись. Арагон тоже был удивлен. Тогда Пастор, обладавший большим здравым смыслом, нежели мы, сказал, что, кроме нас, никому из оставшихся на аэродроме ничто не угрожает. С нами же расправятся в 24 часа, как сделали это с Галаном и Гарсия Эрнандесом два дня назад, а поэтому глупо самим лезть в петлю.
Я не знаю: Пастор ли убедил нас или под влиянием каких-то других причин, но после некоторых размышлений мы решили лететь. Между тем обстрел продолжался, башня управления и один ангар были уже уничтожены, снаряды рвались, главным образом, на взлетно-посадочной полосе. Противник явно стремился воспрепятствовать взлету самолетов.
Наша машина не имела горючего, и в тех условиях о заправке нечего было и думать. Другие самолеты находились уже на пути в Португалию. Таким образом, собравшись бежать, мы не могли осуществить своего намерения.
Неожиданно появились механики и сообщили, что в ангаре стоит заправленный самолет. Это был «P-III». Я никогда не летал на самолетах такого типа, но, ни минуты не колеблясь, влез в пилотскую кабину. Пастор сел на место наблюдателя, Арагон устроился у него в ногах.
Механики, словно они сами намеревались лететь, прилагали невероятные усилия, пытаясь запустить мотор. Но все их попытки были безрезультатны. Правительственные войска уже вступили на аэродром. Убедившись, что «машинка» не завертится, мы предложили механикам уйти, чтобы их не захватили на месте преступления. Но они не слушали нас, и вдруг мотор взревел. Не ожидая, пока он прогреется, я дал газ, [185] самолет покатился по полю, однако холодный мотор не давал возможности оторваться от земли. Я видел, что взлетная полоса кончится раньше, чем самолет сможет подняться в воздух. Впереди уже развернулся в цепь инженерный батальон. Солдаты, поняв, что машина несется прямо на них, разорвали строй, чтобы дать нам дорогу. К счастью, на нашем пути встретился маленький бугорок, и самолет взлетел. Ни один из солдат не подумал стрелять в нас, хотя мы промчались в нескольких метрах от них.
Итак, благодаря упорству и стремлению механиков спасти нас «P-III» покинул аэродром. Это произошло в два часа тридцать минут пополудни. Стало холодно. Пастор и я в какой-то степени были защищены от ветра, но Хосе Арагон дрожал как осиновый лист.
На самолете, взятом прямо из ремонтных мастерских, не работал ни один бортовой прибор, не было ни компаса, ни карты. Меня особенно беспокоило, сколько в баках горючего. Бензомер не действовал, и я не имел ни малейшего представления, как долго мы сможем продержаться в воздухе. Поскольку ориентироваться было не по чему, я взял направление по реке Тахо и так летел в течение двух часов. Когда горючее кончилось и мотор заглох, мы не знали, испанская под нами территория или уже Португалия. Я посадил самолет на убранном поле и спросил у пастуха, чья это земля. Узнав, что португальская, мы облегченно вздохнули.
Трудно объяснить мое состояние в тот момент. Горечь и разочарование охватили меня. В том, что произошло, я видел только отрицательные стороны и чувствовал себя подавленным, морально сломленным, человеком, спасшим свою жизнь бегством. Я был уверен, что за несколько часов потерял родину, друзей, семью, погубил карьеру – одним словом, лишился всего, из чего, как думал, состояла моя жизнь. В то время я еще на все реагировал с позиций странного экземпляра человеческой породы – сложного, тщеславного, самолюбивого, приписывающего себе какие-то особые качества, – именуемого «испанским грандом».
Мои товарищи Арагон и Пастор, должно быть, испытывали нечто похожее. Никто из нас не имел ни малейшего опыта в подобных делах, мы никогда не попадали в обстановку, хотя бы отдаленно напоминавшую ту, в какой очутились. Итак, мы оказались в провинции Кастель Бранко, в нескольких километрах от испанской границы, и абсолютно не знали, что делать дальше. [186]
Оставив самолет, мы отправились в деревню, замеченную нами еще с воздуха. Шли молча. Каждый думал, что предпринять в создавшейся малоприятной ситуации. Наша группа – три небритых сеньора с угрюмыми лицами, одетые один (Хосе) в гражданский костюм без шляпы, двое (Пастор и я) в бросающуюся в глаза зеленую форму испанской авиации, – производила, наверное, странное впечатление.
Невдалеке на вершине холма красовался великолепный помещичий дом. Нам, уставшим, не знавшим, куда идти, очень хотелось передохнуть в этом особняке, но мы понимали, что это невозможно, и продолжали путь. Пройдя около трех километров, мы увидели едущий нам навстречу автомобиль. Знаками попросили водителя остановиться. В машине сидел хорошо одетый господин, лет сорока, с нескрываемым удивлением смотревший на нас. Он удивился еще больше, когда мы спросили его, далеко ли до железнодорожной станции. «Каких-нибудь сорок километров», – ответил он и добавил: «Мне неизвестны ваши планы, но, думаю, вы не намереваетесь добираться туда пешком?» Мы сказали, что хотели бы сесть на поезд, идущий в Лиссабон, чтобы присоединиться к своим товарищам, уже находящимся там. Затем сообщили, что мы участники неудавшегося восстания против монархии, происшедшего сегодня утром в Мадриде. Выслушав все, он задумался, не переставая упорно рассматривать нас, а затем, не говоря ни слова, выключил мотор и вышел из автомобиля. Подойдя к нам вплотную, он очень серьезно сказал: «Ваша первая встреча на португальской земле оказалась не совсем удачной, я глава португальских монархистов всего этого района и нахожусь в противоположном вам политическом лагере. Но, как говорят в Испании, «одно другому не мешает». Да будет мне позволено в положении и обстоятельствах, в которых мы встретились, заняться вами, пока вы не сядете в лиссабонский поезд». В 1930 году политические противники могли себе позволить подобное обращение.
Каково же было наше удивление, когда, приняв его предложение отвезти нас на станцию, мы увидели, что он направил свою машину к прекрасному зданию, попасть в которое нам так хотелось некоторое время назад. Как оказалось, он был хозяином этого дома и жил там вдвоем с женой. Нас представили хозяйке. Пока мы брились и умывались, нам приготовили вкусный завтрак, который был съеден с аппетитом, не уступавшим нашему пессимизму. [187]
Чтобы не возвращаться более к этому настоящему португальскому кабальеро, скажу, что он отвез нас на станцию, купил билеты в вагон первого класса, дал некоторую сумму денег на дорогу и посадил в поезд, не пожелав принять от нас испанские песеты в уплату за все издержки. Он дал свой лиссабонский адрес, и через несколько дней мы возвратили ему деньги, еще раз поблагодарив за внимание.
Я умирал от усталости и, как только поезд тронулся, заснул как убитый. Проснулся, когда поезд подошел к лиссабонскому вокзалу и фотокорреспонденты начали «стрелять» в нас своими лампами-вспышками. Со сна мне показалось, что это продолжается канонада, сопровождавшая наше бегство с «Куатро виентос».
На вокзале нас встречали полицейские, журналисты и два португальских офицера. Подойдя к вагону, офицеры сообщили, что они прикомандированы к нам военным губернатором в качестве сопровождающих и готовы отвести туда, где уже находятся Кейпо, Рамон Франко и другие испанцы. В автомобиле нас доставили в знаменитый монастырь Мафра, что-то вроде испанского Эскориала{90}, расположенный в 35 километрах к северу от Лиссабона. Здесь размещалась военная школа, но в те дни она не функционировала. Хосе Арагона и меня поместили в большой, мрачной и холодной комнате с двумя кроватями. На этом закончился длинный и беспокойный день, так круто изменивший мою жизнь.
Португальские власти вели себя по отношению к нам весьма корректно. Прикомандированные офицеры держались по-товарищески. Мы находились в тех же условиях, что и слушатели школы: скромные комнаты, довольно скудная пища, но при этом не следует забывать, что материальный уровень жизни военных в Португалии был значительно ниже, чем в Испании. Монастырь с его огромными коридорами, полутораметровой толщины стенами, плохо освещенный, сырой и неотапливаемый, вызывал неприятное чувство. Если еще учесть наше моральное состояние и отсутствие многих необходимых вещей (смены белья, туалетных принадлежностей, пальто), станет понятно, что впечатление от первого дня пребывания в изгнании было довольно безотрадным.
Мы получили первые мадридские газеты с описанием восстания. Правые, особенно «Эль дебате» и «АБЦ», естественно, [188] называли нас предателями. Они напечатали нечто вроде биографии каждого из десяти или двенадцати офицеров, бежавших в Португалию. Они не только лгали и извращали факты, но и осыпали нас множеством оскорблений. И, странная вещь, казалось, мы не должны были бы придавать значения такой явной клевете, однако, следует признаться, она все же задевала и возмущала нас. Мы впервые сталкивались с подобным явлением и, как говорится, имели слишком чувствительную кожу. Особенно были взбешены Кейпо и Рамон Франко. Обо мне, не знаю почему, газеты писали в несколько ином тоне. Только сумасшедший, дурак или глупый сноб, кричали они, мог решиться на подобную выходку.
Хосе Арагон был единственным, кто успокаивал нас, доказывая, что бешеные нападки реакционных газет показывают, как правые напуганы. Бросая грязью в участников восстания, они тем самым пытаются уменьшить его значение.
Тогда я впервые услыхал о «золоте Москвы». Одна из газет намекала, что русские деньги сыграли не последнюю роль в организации заговора.
В первые дни нашего пребывания в Мафра меня приехали проведать пять офицеров португальской морской авиации, с которыми я познакомился во время перелета на гидросамолете из Мелильи в Сантандер вдоль побережья Пиренейского полуострова. Этот визит доставил мне большую радость, особенно если учесть созданную вокруг нас обстановку. Они привезли два ящика необыкновенного вина «порто», провели с нами вечер и искренне предложили свою помощь на будущее. Прощаясь, они обещали вскоре вновь навестить нас, но это посещение оказалось первым и последним. Министр, узнав об их визите, страшно возмутился и категорически запретил показываться в Мафра.
Чтобы перегнать в Испанию самолеты, на которых мы перелетели в Португалию, командование испанской авиации отправило в Лиссабон группу летчиков во главе с капитаном Лакалье (ставшим позже генерал-лейтенантом). Перед отъездом из Мадрида они получили строгие инструкции, запрещавшие устанавливать какие-либо контакты с «отступниками». Однако некоторые летчики связались перед полетом с нашими семьями и предложили отвезти нам все необходимое. Таким образом мы получили первые чемоданы с вещами и некоторое количество денег. Теперь можно было снять военную форму, мешавшую выходить из монастыря, хотя власти не препятствовали этому. [189]
Тогда же мы получили рекомендацию эмигрантского комитета (созданного некоторыми республиканскими руководителями, обосновавшимися к тому времени во Франции) при первой же возможности выехать в Париж, где мы находились бы в большей безопасности, чем в Португалии. Одновременно сообщалось о высылке денег на эту поездку.
Во время продолжительных прогулок по окрестностям Мафра Арагон, мой двоюродный брат Пепе и я, естественно, обсуждали наше положение и решили перебраться в Париж. Но у Хосе Арагона возникла нелепая идея: плыть туда на пароходе в качестве матросов и тем самым сэкономить комитету стоимость нашей поездки. Как ни старались, мы не могли убедить Хосе в нелепости его затеи. На следующий же день он отправился в Лиссабон наниматься на какой-нибудь корабль. Мне не хотелось оставлять его одного, поэтому я последовал за ним, решив испытать судьбу. К счастью, дело оказалось не таким простым, как представлял себе Арагон. Во-первых, мы долго не могли найти судно, которое не заходило бы в испанские порты. Наконец мы отыскали нужный нам пароход. Когда же Хосе попросил записать нас в судовую команду, капитан, пристально глядя на наши руки, сказал, что очень сожалеет, но экипаж уже укомплектован. То же самое, но в значительно более грубых выражениях, ответили нам на парусно-моторном судне, направлявшемся в Ля Рошель.
Наконец Арагон согласился, что с нашей внешностью аристократов не стоило и думать наняться в матросы. Таким образом, на двадцатый день пребывания в Португалии мы спокойно сели на пароход, совершавший рейсы Конго – Бельгия.
В Антверпене нас ожидала полиция. Она обошлась с нами вполне корректно и не чинила никаких препятствий при высадке на берег. В Брюсселе мы были приняты самим префектом. Воспользовавшись пребыванием в этом городе, мы посетили дона Франсиско Масья{91} (его выслал, по-моему, Примо де Ривера), который жил в окрестностях бельгийской столицы в скромном, но приятном пансионе. Масья, каталонский Дон-Кихот, произвел на меня сильное впечатление. Его лицо казалось энергичным и в то же время добродушным. Он жил с дочерью. Нам понравились ее простота в обращении с гостями и нежное отношение к отцу. [190]
Во время этого визита Кейпо де Льяно вел себя нетактично, а если говорить прямо, глупо. Прощаясь с доном Франсиско, он сказал несколько фраз, показавшихся нам грубыми или, по меньшей мере, неуместными. Он дал ему понять, что не разделяет его сепаратистских взглядов и что если и посетил его, то только потому, что тоже находится в эмиграции.
Париж
В Париж мы прибыли в десять часов вечера. На перроне нас ожидала полиция. В комиссариате вокзала нам устроили допрос, а на следующий день в довольно неприветливой форме передали вызов в префектуру.
Поселились мы в скромных меблированных комнатах недалеко от вокзала. Моя комната с маленькой тусклой электрической лампочкой, с большой супружеской кроватью, биде и умывальником, спрятанным за ширмой, с потемневшими от времени обоями, выглядела очень мрачной. Это было классическое убежище для двух персон, интересующихся только друг другом. Я же в этой конуре чувствовал себя совсем одиноким и забытым в огромном, незнакомом городе. Знаменитый, веселый Париж произвел на меня удручающее впечатление. К счастью, я страшно устал, сразу же бросился на кровать и заснул.
На следующее утро мы отправились в полицию, чтобы привести в порядок свои документы. Кейпо де Льяно, Рамона Франко и меня принял, чем мы были немало удивлены, сам префект Парижа, не кто иной, как Кьяпп, известный своими преследованиями всех более или менее прогрессивно настроенных людей. Помню, в его большом кабинете почти всю стену занимала картина, изображавшая атаку полиции на группу забастовщиков. Видимо, эта картина вдохновила его на зверскую расправу 6 февраля 1936 года{92}. Внешность префекта не внушала симпатий. Он старался быть вежливым, но я находил его поведение фальшивым. Кьяпп заявил, что во время пребывания во Франции мы не должны вмешиваться в политику и полиция не будет беспокоить нас. Затем, выдавая разрешение на жительство в Париже, выразил надежду, что [191] испанские офицеры, оценив предоставленные им льготы, будут вести себя примерно. И, обращаясь к Рамону Франко, добавил, придав своему голосу отеческий оттенок: «Я не рекомендую вам заниматься во Франции теми делами, какими вы занимались в Испании, так как здесь последствия окажутся значительно более неприятными». Рамон Франко довольно резко ответил, что не нуждается ни в чьих наставлениях и сам знает, что ему делать. Я опасался, как бы их перепалка не закончилась так же, как в пьесе «Четки Авроры» {93}, но, к счастью, префект не принял слова Рамона всерьез, и мы мирно распрощались.
Из префектуры мы отправились в Люксембургский сад, где должна была состояться наша встреча с кинорепортерами. Рамон Франко пользовался популярностью настоящей «звезды», и кое-что от его славы революционера перепало и нам. Журналисты ни на минуту не оставляли нас в покое. «Юнайтед пресс» платила по 500 долларов за маленькое интервью о восстании в «Куатро виентос». Деньги мы поровну распределяли между собой.
Через некоторое время на улице Вожирар мы отыскали приличный пансион. Кейпо, Арагон, Пепе и я немедленно перебрались туда, с радостью покинув мрачный отель у вокзала.
Наше новое жилище, в центре Латинского квартала, в нескольких десятках метров от театра Одеон, было приятным и спокойным. Большинство его жильцов составляли типичные старые англичанки, постоянно занятые вязанием. Они приехали в Париж на зимний сезон, чтобы избавиться от туманов у себя на родине и воспользоваться благоприятным обменным курсом фунтов стерлингов на франки. Работавшая в отеле миловидная и симпатичная девушка-кассирша, одновременно выполнявшая обязанности телефонистки, довольно хорошо знала испанский язык. Звали ее Елена.
После ужина мы отправлялись в кафе «Наполитэн», расположенное на Бульварах. Там всегда собирались испанцы, эмигрировавшие во Францию. Хотя компания располагалась в глубине кафе, споры на испанском языке слышались уже у двери, контрастно выделяясь на фоне спокойных и серьезных разговоров постоянной публики. Шум, устраиваемый испанцами, выходил за рамки общепринятых норм поведения, но таков уж наш национальный обычай – разговаривать во весь [192] голос, не считаясь с тем, что это может беспокоить окружающих.
Там я познакомился с Индалесио Прието, Марселино Доминго, Рикардо Бароха, Сеферино Паленсиа, Грако Марса и некоторыми другими, имена которых не сохранились в памяти.
Раньше мне не раз приходилось слышать о Прието и Марселино Доминго дома и в клубе «Гран Пенья», читать в «АБЦ» или «Ла Эпока» – газетах, получаемых нашей семьей. Но я никогда не читал их собственных статей или речей и не слыхал отзывов о них беспристрастных людей, поэтому, совершенно естественно, имел об этих политических деятелях весьма превратное представление.
Прието я представлял себе хитрым, решительным и непримиримым врагом монархии и диктатуры. Он вызывал во мне интерес, и я гордился тем, что знаком с человеком, о котором столько говорили в среде, где я раньше жил.
О Марселино Доминго у меня сложилось совершенно иное мнение. Я начитался и наслышался о нем таких глупостей, что встреча с ним не привлекала меня. Его характеризовали как человека антипатичного, извращенного, ненавидящего все испанское, и особенно армию. Подобные пороки реакция обычно приписывала анархистам, масонам и сепаратистам. Не потребовалось много времени, чтобы убедиться, что дон Марселино – хороший человек, корректный, необычайно скромный и страстно любящий свою родину.
Впервые в жизни я общался с людьми левых убеждений, и к тому же видными революционерами. Они произвели на меня сильное впечатление. Встречаясь с ними, я испытывал робость и еще какие-то трудно объяснимые чувства, мешавшие мне говорить. Что бы ни приходило на ум, все казалось недостойным быть высказанным в таком обществе.
Эспла, корреспондент одной либеральной мадридской газеты, после ежедневных телефонных разговоров с редакцией имел обыкновение приходить в кафе и рассказывать последние новости из Испании. Как-то ночью он принес Прието письмо.
В нем сообщалось, что Леру{94}, воспользовавшись арестом и эмиграцией большей части руководителей, назначил себя главой республиканского движения. Новость привела Прието в негодование, которое он и не пытался скрыть. Я необычайно изумился, услышав употребляемые им по адресу Леру слова, [193] ибо, по неведению, представлял себе Леру настоящим революционером. Выражения Прието показались мне чрезмерно грубыми. Впервые я понял, что единство, взаимное уважение и солидарность среди республиканских руководителей вовсе не так уж сильны, как я думал.
На следующий день в нашем симпатичном отеле едва не возник серьезный конфликт.
Как я уже говорил, Рамон Франко в те дни считался в Париже «звездой» первой величины. Газеты и журналы помещали его фотографии, рассказывали эпизоды из его жизни, многое преувеличивая и присочиняя. В кинотеатрах показывали хронику о том, как Рамон Франко и я гуляем в Люксембургском саду. В тот день мы пригласили Рамона отобедать в нашем пансионе. Одна из старых англичанок, видевшая эту хронику, узнала его и, поскольку читала только реакционные газеты, поносившие нас, должно быть, сильно перепугалась, обнаружив, что живет под одной крышей с такими опасными и страшными преступниками, задумавшими свергнуть симпатичного Альфонса XIII. Она сообщила о своем открытии соотечественницам и заявила о намерении сменить пансион. Встревоженная хозяйка рассказала нам о случившемся. Она ничего не имела против нас, но не хотела терять и более солидных клиентов. Тогда мой двоюродный брат Пепе, считавший себя истинным испанским идальго, в необычайно изысканных выражениях произнес перед англичанками речь о том, что им не стоит утруждать себя переездом, так как мы, испанцы, сами покинем пансион. Эти слова повлияли на перепуганных англичанок. Они решили остаться.
Вскоре к нам в пансион переехали Прието и Марселино Доминго. Мы опасались, что новое испанское вторжение вызовет очередной переполох среди старых английских леди, но, очевидно, новые постояльцы показались им безобидными людьми, хотя префектура приставила к каждому из них по полицейскому. Эти шпики неотступно следовали за ними, если те выходили на улицу, или весь день торчали у пансионата, если они оставались дома. Такой же привилегией пользовался и Рамон Франко. Кейпо, несмотря на беспокойство, причиняемое постоянно торчащим за спиной полицейским, считал себя обиженным, ибо его оставили без надзора.
Легкость, с какой наш незадачливый генерал делал политические декларации любому, кто разговаривал с ним, начинала все больше беспокоить нас. Последняя его выходка была особенно неприятной. Один бельгийский журналист злонамеренно [194] воспользовался ответами Кейпо на некоторые свои вопросы и написал статью, где ловко использовал его высказывания против испанского республиканского движения. Чтобы избежать в дальнейшем подобных неприятностей, мы учредили при Кейпо своего рода службу адъютантов, дабы лишить его опасной инициативы и свободы действий. Сделали мы это под предлогом того, что генералу неудобно одному ходить по Парижу. С тех пор кто-либо из нас всегда сопровождал его, и генерал считал это вполне естественным.
Однажды утром, вернувшись в пансион, я увидел ожидавшего меня лейтенанта артиллерии Игнасио Анитуа, моего родственника и друга. В течение долгого времени я ничего не слыхал о нем, поэтому необычайно удивился, встретив в Париже, да еще в качестве изгнанника за участие в восстании против монархии. Анитуа никогда не имел ничего общего с политикой. Он временно командовал батареей в Хака, когда капитан Галан поднял там восстание. Игнасио не собирался принимать в нем участия, но, увидев, что большинство его подчиненных поддержало Галана, решил разделить их судьбу.
После поражения восстания Игнасио спрятался в доме одного крестьянина и оставался там до тех пор, пока у моего брата Маноло родственные чувства к брату жены не возобладали над его монархическими убеждениями. Тогда он отвез его на своей машине к французской границе и переправил вместе с какими-то контрабандистами.
После стольких весьма трагических приключений Игнасио Анитуа, простой и славный парень, оказался в Париже, словно свалился с луны. Печальный, сбитый с толку, он постоянно вспоминал свою молодую жену. Его поведение в Хака – еще одно доказательство того, что армейские офицеры не питали особых симпатий к монархии и не имели желания защищать ее.
Жизнь в Париже принесла мне много новых впечатлений. Я познакомился с людьми, чьи представления о жизни совершенно отличались от тех, что сложились у меня до сих пор. В этой абсолютно неизвестной для меня среде я чувствовал себя неуверенно, хотя и старался держаться естественно.
Я понимал необходимость, хотя бы частично, изменить мои старые взгляды, отбросить прежние предрассудки, но расстаться с тем, что приобретено в течение всей жизни, очень нелегко.
Однажды вечером в компании, собравшейся в кафе, испанский студент, эмигрировавший в Париж, с большим апломбом [195] рассуждал о восстании. Он утверждал, будто причина провала – в поведении военных. Несправедливость его нападок возмутила меня. К тому же я полагал, что он намекает на меня. Несмотря на принятое решение стараться управлять своими чувствами, я не мог сдержаться и резко вскочил с места. Прието понял, что может последовать за этим, стал между нами и предотвратил скандал, столь непростительный в данных обстоятельствах.








