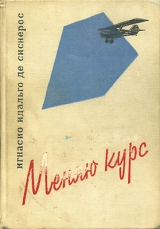
Текст книги "Меняю курс"
Автор книги: Игнасио Идальго де Сиснерос
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 32 страниц)
В тот период я часто встречался с братом Мигелем, который бросил меня когда-то в отеле в мой первый приезд в Мадрид. Он получил уже звание подполковника, служил в кавалерийском полку под командованием полковника Гонсало Кейпо де Льяно и успешно продвигался по служебной лестнице. Мигель был симпатичным человеком, хотя и со странностями, как и все Мансо де Суньига. Раньше он не воспринимал меня всерьез, теперь же стал обращаться со мной, как с равным, очевидно найдя меня уже достаточно взрослым и менее деревенским, чем раньше. Мы все чаще стали проводить время вместе. Он представил меня своим друзьям, среди которых были интересные люди. Между нами возникли дружба и доверие, но, к несчастью, скоро все это трагически рухнуло. Однажды, когда мы вышли из дома нашей сестры, Мигель почувствовал себя плохо. На следующий день врач сказал, что состояние больного тяжелое, – после ранения в Африке ему так и не удалось поправиться. О его болезни сообщили матери. Она приехала из Витории, едва успев застать его в живых.
И на этот раз был соблюден бессмысленный обычай хоронить умершего в семейном пантеоне под главным алтарем церкви в Канильясе. Мне поручили сопровождать тело брата. Моя мать считала такой порядок обязательным, я придерживался той же точки зрения. Началась обычная для похорон торжественная церемония переноса тела на Северный вокзал. В Аро нас ожидали представители духовенства, родственники из Витории и Риохи и капеллан. Похоронный ритуал повторился, и мы отправились в Канильяс. В деревнях, мимо которых мы проезжали, священники тоже читали молитвы по усопшему. Наконец прибыли в Канильяс, где собрались духовенство из окрестных деревень, соседи и многие местные жители. Все началось сначала. Заупокойные богослужения длились [74] целую неделю. Все эти дни в нашем доме беспрестанно кормили и поили многочисленных церковных служителей и всех присутствовавших на похоронах. В итоге погребение Мигеля в семейном пантеоне не только стоило много денег, но чуть не свело меня с ума. Еще долгое время в голове звучали похоронные мелодии.
* * *
Постоянным местом наших сборищ в Мадриде являлся аэроклуб, роскошно обставленный, с рестораном и баром, где имелся большой выбор блюд и вин по весьма дешевым ценам. В то время клуб был очень богат, большие деньги поступали от игорного зала, где делались весьма значительные ставки. Члены клуба, главным образом представители крупной буржуазии и аристократии, владели солидными состояниями. Летчики тоже играли в рулетку и бакара. Рамон Франко{43} проиграл там однажды все месячное жалованье. Вернувшись в Хетафе, он провел на аэродроме целый месяц безвыездно. Спал на кровати дежурного офицера, питался, подписывая счета в буфете, чтобы, получив деньги, повторить все сначала.
В то время в Хетафе проводились испытания автожира – изобретения инженера Хуанито де Ла Сиерва, сына известного политика-консерватора. Автожир построили в военных авиационных мастерских. С учебного самолета «Авро» сняли крылья и взамен их поставили четыре большие лопасти несущего винта, благодаря которым машина двигалась вертикально вверх. Сам Ла Сиерва не пилотировал свой автожир, пока тот не был достаточно усовершенствован. Первые испытания провели военные летчики Спенсер и Лорига.
В Хетафе изобретателю всячески помогали: в конструкцию автожира вносили различные усовершенствования, необходимость которых выявлялась в результате опасных экспериментов. Спенсер и Лорига бескорыстно рисковали жизнью, испытывая его. Они устраняли дефекты и улучшали аппарат, на основе которого спустя несколько лет родился современный геликоптер (вертолет).
В 1921 году в Бургосе велись приготовления к торжественной церемонии в связи с переносом останков Сида-Воителя. В ней приняла участие и военная авиация, организовавшая на четырех старых колымагах воздушные гонки из Мадрида в Бургос. Я летел на учебном самолете «Хевиленд» в составе [75] экипажа капитана Хосе Луиса Урета. Нас очень беспокоила погода. От нее зависело благополучное преодоление горного перевала Пуэрто де Соммоссьера – единственного места, где мы могли перелететь сьерру, ибо потолок самолета не превышал 1500 метров.
В назначенный час мы покинули аэродром «Куатро виентос», почти царапая дорогу, миновали перевал и, оптимистически настроенные после успешного преодоления наиболее трудного участка пути, взяли курс на Бургос. Однако спустя некоторое время мотор стал давать перебои, и самолет начал терять высоту. Вскоре мотор заглох совсем. Мы решили произвести посадку на поле, которое показалось нам с воздуха ровным. Но мы не заметили предательской канавы и угодили прямо в нее. Самолет разбился, однако нам повезло: мы отделались незначительными, но неприятными ушибами: у Урета из носа текла кровь, у меня была разбита губа. Прибежавшие на помощь люди с испугом смотрели на наши окровавленные физиономии. Среди соболезнующих находилась приятная дама, владелица поместья, на территории которого потерпел аварию наш самолет. В ее комфортабельном доме нам оказали первую помощь. Но больше всего мы нуждались в обыкновенной воде: стоило нам умыться, мы сразу приобрели нормальный вид, и наша привлекательная и гостеприимная хозяйка успокоилась.
Урета и я, несмотря на ушибы, разбитый самолет и невозможность продолжать гонку, были все же довольны. Встреча с молодой хозяйкой поместья представлялась нам романтическим приключением. Во мне родилось неизвестное дотоле чувство – «радость спасенного». Такое состояние возникало у меня впоследствии не только после несчастных случаев, но и по окончании любого путешествия.
Нам приказали, не ожидая отгрузки самолета, отправиться в Бургос на автомобиле. Прибыв туда, мы узнали о тяжелом поражении испанской армии под Аннуалем.
Военным округом в Мелилье командовал, как я уже упоминал, генерал Фернандес Сильвестре, начальник военного королевского дома{44}. Привыкший к легким победам над племенами с равнины Лараче, значительно менее воинственными, чем рифы, он, не встретив вначале большого сопротивления, продолжал легкомысленно продвигаться в глубь территории [76] противника, не обеспечив надежного тыла. Впрочем, это и невозможно было сделать из-за невероятной скудости средств, которыми генерал располагал.
Быстро наступая, Сильвестре достиг Аннуаля – ключевой позиции для выхода войск на Вилья-Алусемас. Здесь испанские войска и потерпели поражение.
После гибели генерала Сильвестре началось отступление. Вначале соблюдался некоторый порядок, пока со всех сторон не появились «дружественные» кабилы, присоединившиеся к преследовавшим наши войска рифам.
С большим трудом генералу Наварро, заместителю командующего военным округом Мелильи, удалось сконцентрировать отходившие части на позиции Монте Арруит – стратегическом пункте, довольно хорошо защищенном, но не имевшем воды.
Окруженный восставшими марокканскими племенами, считавшимися прежде дружественными, Наварро решил договориться с ними до подхода рифов, руководимых Абд-эль-Керимом. По условиям соглашения испанцы обязались сдать оружие марокканским вождям, а те гарантировали свободный выход наших войск и офицерского состава с занимаемых позиций. Но прежде чем первые испанские части ступили на дорогу, отделенную от форта маленькой тропкой, прозвучали выстрелы и началась резня. Кабилы и подошедшие рифы напали на разоруженных испанских солдат.
Марокканские вожди, находившиеся внутри крепости, догадавшись о том, что произошло, попытались спасти генерала Наварро и некоторых его офицеров. Тех, кому удалось выйти живым с Монте Арруита, вожди кабилов отвели в свои палатки. Позже Абд-эль-Керим захватил их в качестве военнопленных.
Этот рассказ в общих чертах отражает мой тогдашний взгляд на то, что произошло в Аннуале и Монте Арруите. Он изложен в 1939 году в книге «Вместо роскоши» {45}, и я не хочу ничего изменять в нем, ибо представляю себе эти события именно так, и только так.
Новое поражение произвело в Испании огромное впечатление. Испанцы узнали о размере катастрофы по дошедшим до них отдельным сообщениям. За несколько дней мы потеряли убитыми около 8 тысяч человек. Кроме того, марокканцы [77] захватили Восточную зону со всем, что мы там имели, и подошли к воротам Мелильи, создав очень опасное положение в этом районе.
У меня, как, впрочем, и у моих знакомых, случившееся вызвало вначале замешательство, а затем негодование против «предательства» «дружественных» африканских племен. Мы преисполнились непреодолимого желания отвоевать потерянную территорию и наказать изменников, дабы восстановить престиж армии и, следовательно, Испании. Одним словом, мы поддерживали кампанию дешевого патриотизма, начатую правительством совместно с крупной буржуазией, церковью и прессой.
В то же время десятки тысяч испанцев реагировали на эти события иначе, полагая, что наказать следует не марокканцев, выполнявших свой патриотический долг и боровшихся против захватчиков, а испанцев, ответственных за эту войну. Одним словом, большая часть испанского народа считала необходимым оставить Марокко, чтобы сразу же покончить с этой проблемой, стоившей Испании огромных человеческих жертв и материальных затрат.
Атмосфера, в которой мы жили, не позволяла понять и оценить значение и справедливость этих взглядов, столь отличавшихся от наших. Она как раз помогала складыванию того идеального для правительства образа мыслей, при котором мы добровольно выполняли возложенную на нас миссию. Мы искренне думали, что наш долг – военных и испанцев – скорее отправиться в Мелилью и начать борьбу против марокканцев. Могу заверить, что в тот момент никто из нас не думал о чинах и медалях; единственным вознаграждением, к которому мы стремились, – сознание выполненного долга. Это было действительно так. На первом этапе нового наступления в Марокко, длившемся почти два года, за военные заслуги не повышали в чинах, хотя он был наиболее тяжелым за всю войну. Несмотря на это и на большие потери, люди сражались храбро.
Позже, когда восстановили порядок повышения по служебной лестнице за военные заслуги, мы, естественно, стремились и к этому. Такое честолюбие понятно, ибо в авиации, лучше всего знакомой мне, чины не дарили. Их надо было заслужить в тяжелом бою, рискуя жизнью.
Вернувшись в Мадрид, я получил направление в Хетафе, в одну из эскадрилий, формируемых для отправки в Мелилью. Как я уже говорил, Испания располагала лишь учебными самолетами. Требовалось срочно, не считаясь ни с ценой, [78] ни с другими обстоятельствами, закупить боевые самолеты для войны в Марокко. Нам достались машины «Бристоль», очень удобные в полете, но их моторы слишком часто выходили из строя. Они поднимали по десять одиннадцатикилограммовых бомб, имели сдвоенную пулеметную установку для наблюдателя и скорость 130 километров в час.
В ту же эскадрилью получили назначение мой хороший друг и товарищ по училищу Манолильо Каскон, мой двоюродный брат Пепе Кастехон и Рамон Сириа, тот, что сломал себе ногу при испытании нашего планера в Витории.
Прибытие новых самолетов задерживалось.
На их ожидание и на последующую тренировку ушло несколько месяцев. Мы стремились использовать это время как можно продуктивнее: не только осваивали новые машины, но и безудержно развлекались. В какой-то степени мы находились в положении людей, отправлявшихся в неизвестность, не знавших, что ждет их завтра, и желавших в последний момент максимально насладиться жизнью.
Как– то мы организовали в Алькала-де-Энарес большой банкет. Из Хетафе на него приехали мой кузен Пепе, Маноло Каскон и я. Помню некоторых из приглашенных: майора Варела, по прозвищу «Варелочка дважды лауреат» (по окончании гражданской войны он стал генерал-лейтенантом, а когда умер, Франко посмертно присвоил ему звание герцога и капитан-генерала); писателя и поэта Пепе Луна, автора книги «Мартинетес» (песни фламенко); Маноло Перес де Гусмана, моего друга, очень хорошо певшего фламенко, брата де Уэльва, известного исполнителя танцев фанданго. На банкете присутствовали шесть или семь красивых девушек. Среди них была Каоба -необыкновенной красоты андалузка, прославившаяся при диктатуре Примо де Ривера скандалом, связанным с ее арестом. Дело касалось наркотиков, и сам диктатор приказал освободить ее. С Каоба приехала молодая севильская певица Соледад. В тот вечер с ней познакомился мой кузен Пепе, и эта девушка сыграла немаловажную роль в его жизни.
По окончании банкета Пепе Луна выразил желание полетать, так как до сего времени ему ни разу не приходилось подниматься в воздух. Мотор моего самолета не запускался, и мы уже договорились отложить полет на следующий день. Вдруг я увидел Манолильо Каскона, готовившего свой самолет для возвращения в Хетафе. Мы попросили его сделать вместе с Пепе Луна один круг над аэродромом. Каскон усиленно сопротивлялся. Он всегда неукоснительно выполнял установленные [79] правила. Наконец после настойчивых просьб неохотно согласился совершить двухминутный полет. Пепе сел на место наблюдателя. Они поднялись, пролетели немного, и, когда стали возвращаться обратно, мотор заглох. Маноло пытался дотянуть до аэродрома, чтобы спасти самолет, но потерял скорость и ударился о землю. Я страшно испугался, так как чувствовал себя виновником этого происшествия. К счастью, оба отделались незначительными ушибами, а поломку самолета мы отнесли за счет инцидента во время тренировки. Пепе отправили в Мадрид, в отель «Малага», в котором он жил. Уладив дела, я поехал повидать его. Он лежал в постели, как тореадор, подхваченный быком на рога, окруженный друзьями и очень довольный. Этот случай дал ему возможность несколько месяцев рассказывать в казино «Малага» о своем приключении.
Я спросил Пепе, каковы его впечатления от полета. Прекрасно помню его слова: «Когда я услышал, как что-то затрещало, словно барабан на святой неделе, пурумпур… пурум-пуррр… я сказал себе, что мы – воронье мясо, и стал заискивать перед богом, пока мы не шлепнулись…»
С тех пор мне не приходилось встречаться с веселым «малагцем». Он довольно часто пишет в «АБЦ» и подписывается с приставкой «де» – Хосе Карлос де Луна. И мне немного жаль, что и он заразился дворянской эпидемией, начавшейся в Испании с установлением диктатуры Франко.
Мы жили в период, когда авиация переживала героическую эпоху. Несчастные случаи резко участились с тех пор, как прислали военные самолеты, еще более опасные, чем учебные. На улицах постоянно можно было слышать крики продавцов газет, сообщавших об очередной катастрофе, траурные крепы на балконах аэроклуба стали обычным явлением. Люди смотрели на нас в какой-то степени как на несчастных сумасшедших, избравших своим уделом смерть в авиационной катастрофе. К нам относились с симпатией и уважением, а мы, не лишенные тщеславия, чувствовали себя польщенными и бравировали тем, что жизнь нам не так уж и дорога. Эта атмосфера баловала нас, мы вели себя не считаясь с общепринятыми нормами поведения, полагая, что нам все дозволено.
У меня вошло в привычку гулять по ночам с кузеном Пепе и Солеа, которые очень подружились. Солеа решила приобрести специальность парикмахерши и маникюрши. Все ее знакомые, в том числе и мы с Пепе, ходили с порезанными пальцами, так как она упражнялась на нас. Мы не протестовали, [80] одобряя ее желание самой зарабатывать себе на жизнь. Стояло лето. Работали кабаре на открытом воздухе. Почти в каждом из них шла карточная игра. Время от времени и мы испытывали судьбу и почти всегда проигрывали.
Однажды ночью мы наблюдали за игрой в зале кабаре «Паризиана», находившемся на месте теперешнего Университетского городка. Один господин, очевидно не раз становившийся жертвой жульнических проделок крупье, поставил фишку в 100 песет на сукно, а затем достал из кармана двух маленьких оловянных жандармов и разместил их по бокам своей фишки.
В том же игорном зале я пережил сильное и неприятное волнение. Как-то ночью я встретил там одного из моих лучших товарищей, имевшего глупость проиграть деньги, в которых он должен был утром отчитаться. Пришлось прибегнуть к помощи друзей, но удалось собрать только третью часть нужной суммы. Он рассказал мне о случившемся со спокойным фатализмом. Это особенно взволновало меня, так как, зная его достаточно хорошо, я был уверен, что он не переживет позора изгнания из армии. Затем мой друг проделал следующее: поставил на один цвет все деньги, собранные у знакомых. Я с волнением ждал, когда шарик рулетки остановится: на сей раз все обошлось благополучно. Я вздохнул с облегчением. Не забирая денег, он продолжал играть на том же цвете и той же ставке. Я затаил дыхание. Крупье пустил шарик. Сделав несколько оборотов, тот несколько раз подскочил, прежде чем окончательно остановиться. Мне казалось, мое сердце тоже остановится еще до того, как крупье назовет выигравший номер и цвет. И снова счастье улыбнулось моему другу. Но самое чудовищное случилось дальше. Уже имея необходимую сумму, он приготовился продолжать игру. Тогда я грубо оттащил его от игорного стола и проводил домой.
Конечно, тому, кто не жил в атмосфере азартных игр, крайне распространенных тогда в Испании, мой рассказ покажется непонятным или преувеличенным. Но нет худшего порока, чем этот, ибо профессиональный игрок, когда ему нужны деньги, способен продать жену и пойти на любую подлость. Я знал такие случаи. Мне известны почтеннейшие люди, совершавшие позорные поступки, будучи охвачены игорной лихорадкой. Мой друг, «герой» только что рассказанной истории, был самым хорошим и честным человеком из всех, кого я знал. Несмотря на то что он проиграл чужие [81] деньги, в нем сохранилось еще чувство собственного достоинства. Он находился только в начале падения. Поэтому я опасался, что он покончит с собой, если не вернет их.
* * *
Несколько дней я провел с матерью в Канильясе. Возвратившись, я нашел письмо от мадридского нотариуса дона Хосе Мария де ла Торре, в котором он приглашал посетить его контору по интересующему меня делу. Очень удивленный необходимостью обсуждать дела с таким важным нотариусом, я отправился к нему на улицу Баркилье, на углу Королевской площади. Де ла Торре сообщил мне, что моя дальняя родственница донья Амалия Гарсия дель Валье умерла и в завещании назвала меня своим наследником. Новость ввергла меня в величайшее удивление. Я никогда не думал, что эта добрая сеньора питала ко мне такую привязанность. Я даже решил, что меня спутали с кем-нибудь и мое имя ошибочно вписано в завещание.
Необычайно торжественно нотариус прочел довольно длинное завещание. Он дал мне ряд объяснений, употребляя многочисленные специальные термины, перепутавшиеся в моей голове. Я был настолько ошеломлен, что не осмелился спросить, как велико наследство. Я ушел, зная, что должен заплатить почти 30 процентов королевских пошлин, что в завещании перечислялись различные дары многочисленным родственникам и друзьям, что своей доверенной служанке она передала один дом в Мадриде и некоторые вещи, не интересовавшие меня. Но мне так и не удалось уяснить, что же останется мне самому после выполнения всех пунктов завещания.
Сообщив новость сестре и шурину, тоже удивившимся поступком доньи Амалии, я телеграфировал в Виторию матери. На следующий день в сопровождении шурина я вновь отправился к нотариусу, решив использовать свое право урегулировать вопрос о наследстве до отъезда в Марокко.
Однако дело затягивалось, поскольку необходимо было выполнить бесконечное количество формальностей. После уплаты государству 200 тысяч песет, мне оставалось 150 тысяч, что по тем временам считалось солидной суммой.
Жизнь мне улыбалась, я обладал отличным здоровьем, обожал свою профессию, пользовался симпатией товарищей, был абсолютно свободен, не имел никаких осложнений и располагал достаточными деньгами, чтобы позволить себе быть щедрым, а это приятная вещь. Казалось, все идет [82] прекрасно, но тут я получил самый жестокий в моей жизни удар: неожиданно умерла моя мать. Она приехала в Мадрид показаться врачам и скончалась в течение двух недель. Я отвез тело матери в Канильяс, чтобы похоронить в церковном пантеоне, рядом с ее сыном Мигелем, всегда питавшим к ней глубокое почтение.
Дни, проведенные в Канильясе, сильно подействовали на меня. Смерть матери оставила в моей жизни неизгладимый след. Впервые я почувствовал себя одиноким и узнал горечь невозместимой утраты.
Наконец пришел приказ отправляться в Марокко. Маршрут намечался такой: Мадрид – Севилья – Гренада, оттуда через море в Мелилью.
Мы старались как можно лучше подготовить машины к полету. В то время путешествие, которое нам предстояло совершить, было довольно серьезным. Наблюдателем ко мне назначили капитана Альфонсо Бурбона маркиза де Эскилаче – двоюродного брата короля, простого человека и хорошего товарища.
На первом этапе пути из-за поломок моторов потерпели аварию три самолета. Два из них после ремонта смогли продолжать полет, а третий, самолет Манолильо Каскона, на котором летел в качестве пассажира не кто иной, как сам командующий авиацией генерал Ортис де Эчагуэ, совершил посадку на вспаханном поле, скапотировал и основательно разбился. С экипажем ничего не случилось, но бедный Маноло был в отчаянии. Генерал чувствовал себя примерно так же, как Пепе Луна, то есть радовался, что столь дешево отделался и что газеты отвели этому событию много места.
В Севилье мы еще раз тщательно проверили моторы, так как многочисленные аварии вызывали у нас беспокойство. Но несмотря на принятые меры и небольшое расстояние до Гренады (250 километров), полет оказался тяжелым, но, к счастью, без жертв.
У меня первая авария произошла вблизи Кармона. Но мне удалось благополучно сесть на засеянном поле. Явились жандармы узнать наши имена, чтобы записать их в донесении об аварии. Когда Альфонсо назвал себя, они решили, что с ними шутят. Сержант очень почтительно, но серьезно попросил сообщить наши настоящие имена.
Устранив неполадки, мы без труда взлетели. Через пятнадцать минут, однако, мотор вновь остановился. И снова я удачно произвел посадку на маленьком лугу. [83]
Здесь повторилась та же история с именем Альфонсо, что и в Кармоне. Поскольку мы не могли исправить повреждение собственными силами, пришлось телеграфировать в Севилью, чтобы выслали механиков. На следующий день мотор исправили, но взлет с крошечного поля оказался очень сложным. В третий раз мотор сломался вблизи узловой станции Бобадилья. Почти чудом мне удалось сесть на прямой участок дороги. Опять мы послали телеграмму на аэродром в Севилью. Нам приказали разобрать самолет и погрузить его на поезд.
Из шести самолетов эскадрильи по воздуху в Гренаду прибыл только один – самолет лейтенанта Хименеса де Сандоваля. Остальные привезли по железной дороге или на грузовиках.
Учитывая это, начальство отменило перелет из Гренады в Мелилью. С такими моторами, весьма возможно, мы утонули бы, пытаясь пересечь море. Нам приказали отправиться на аэродром Лос-Алькасерес и тренироваться в практическом бомбометании и стрельбе, а тем временем инженеры должны были заняться устранением неполадок в моторах.
В Марокко
На лето в Лос-Алькасерес съезжалось много городских жителей, зимой же деревушка становилась почти безлюдной. К услугам приезжих был скромный деревянный отель в стиле американского Дальнего Запада, где нас и поселили, так как на аэродроме единственными помещениями были ангар и деревянный домик. Местность на берегу лагуны Мар-Менор идеальна для авиашколы и базы гидросамолетов. Всю неделю мы не покидали аэродрома, тренируясь, купаясь и загорая. Климат здесь и летом и зимой – прекрасный. По субботам отправлялись в Картахену – типичный город, жизнь которого неразрывно связана с военным гарнизоном. Как и в других провинциальных центрах, «приличное общество» Картахены проводило свободное время в казино или прогуливалось по главной улице. Остальные заполняли публичные дома и кабаре. Эти заведения работали всю ночь. До 11 часов вечера мы гуляли с городскими сеньоритами на выданье, а затем с более уступчивыми девушками из народа. Таких можно встретить в любом морском порту, где стоят военные корабли. После каждой проведенной таким образом ночи у меня оставался неприятный осадок. Однако в следующую субботу повторялось [84] то же самое. Вероятно, в силу нашего образа мыслей мы не находили другого способа тратить накапливавшуюся в нас за неделю энергию, кроме как соревноваться в глупости с морскими офицерами.
Иногда мы ездили в Аликанте, тогда еще маленький провинциальный городок, с одним отелем третьей категории, где не было никаких развлечений. Англичане, имевшие обыкновение открывать в Испании всевозможные увеселительные заведения, еще не добрались туда. Кажется невероятным, но именно поэтому Аликанте, несмотря на самый лучший климат на всем побережье Средиземного моря, прекрасные берега и пляжи, мало привлекал приезжих.
Хотя с момента моего последнего пребывания в Мелилье прошло лишь два года, я нашел город сильно изменившимся. Сосредоточенные здесь для предстоявших военных действий войска превратили тихую Мелилью, какой я ее знал, в оживленный город. Бросалось в глаза, что прибывшие из Испании воинские части снаряжены и оснащены лучше, чем несколько лет назад. Тогда автомобиль в армии являлся редкостью; только главнокомандующий и немногие командиры ездили на машинах. Остальные начальники и офицеры добирались до своих позиций с конечной железнодорожной станции на лошадях, а за неимением их – пешком. Возможность сесть на попутный интендантский грузовик или автоцистерну считалась большой удачей.
Организованная в некоторых слоях испанского общества подписка для сбора денег на подарки экспедиционным войскам, главным образом на автомобили, грузовики, кухни и одежду, в какой-то степени компенсировала скудость средств, которыми располагала армия, и облегчила жизнь личному составу. Эта волна патриотизма докатилась и до Витории. Каждая провинция считала делом чести подарить по подписке самолет. На его фюзеляже писали название провинции, на чьи средства он куплен. Вручался самолет с большой помпой. Епископ торжественно освящал его, чтобы как можно больше бомб упало на марокканцев и их семьи. Гражданские власти в напыщенных речах с восторгом говорили о героизме летчиков и призывали отомстить за «оскорбления», нанесенные Испании.
В Мелилье вновь встретились три друга детства: Рамон Сириа, Хосе Арагон и я. Арагона назначили начальником аэродромных мастерских. Однажды, возвратившись с задания, я узнал, что Сириа тяжело ранен, и отправился навестить его, [85] но пришел слишком поздно: Рамона ранило в артерию, и он умер от потери крови. Всю ночь Хосе Арагон и я провели у тела друга.
В те дни, когда на фронте не было боевых операций, мы с утра занимались разведкой и бомбометанием. После полудня одна эскадрилья оставалась дежурить на аэродроме, а личный состав остальных отправлялся в Мелилью.
Может показаться смешным или претенциозным после тысяч репортажей, фильмов и описаний боевых операций, совершенных воздушными армиями в большой европейской войне, говорить о действиях нашей авиации в этой «малой войне». Однако для нас «малая война» имела большое значение, и, кроме того, в жизни все относительно. Для Рамона Сириа, например, небольшая боевая операция, в которой он был убит, оказалась Верденом.
Совершая бомбардировочные полеты, мы проникали далеко в глубь территории противника. Мишенями нам служили, главным образом, базары и населенные пункты. Задания выполняли добросовестно. Я совершенно не задумывался над тем, что, сбрасывая бомбы на дома марокканцев, совершаю преступление. Мои переживания в то время были весьма определенны: с момента перелета линии фронта я зависел от работы мотора. Неправильный выхлоп или просто перебой вызывали во мне страх, однако я стремился как можно лучше выполнить задание. Должен сказать, что никогда не мог приучить себя быть спокойным, пролетая над территорией противника. Как только терялись из виду наши боевые линии и до возвращения на позиции я испытывал страх. Угрызения же совести от того, что бомбы, сброшенные моими руками, приносят столько жертв, меня не мучили. Наоборот, я считал это своей обязанностью и долгом патриота. Но я отлично понимал, что, если из-за аварии в моторе или любой другой случайности я окажусь в руках врагов, они жестоко расправятся со мной. Я боялся попасть к ним живым и всегда брал с собой заряженный пистолет, которым рассчитывал воспользоваться в тяжелую минуту.
Участвуя в боевых операциях на фронте, я испытывал значительно меньше волнений, чем во время бомбардировочных полетов в тыл противника. И хотя для эффективного взаимодействия с войсками мы летали на малой высоте, следовательно, несли большие потери, нас не преследовала навязчивая мысль о возможном пленении, ибо при аварии или ранении в этом случае имелась хоть какая-то надежда спастись. [86]
Найти квартиру в Мелилье было трудно. Пепе и мне удалось снять комнату в деревянном, но удобном бараке. За стеной жил майор Хоакин Гонсалес Гальарса – командир группы эскадрилий, с которым я поддерживал дружеские отношения.
Однажды с моим кузеном произошло не совсем обычное приключение. Почти всех погибших летчиков по просьбе родных хоронили в Испании. Тела отправляли в сопровождении кого-нибудь из друзей убитого. После похорон сопровождавшие имели возможность провести семь или восемь дней дома. Поскольку желающих повидаться с семьей было много, установили строгий порядок. На долю Пепе выпала обязанность везти тело одного товарища из Кордовы, принадлежавшего к известной и влиятельной семье этого города. В Мелилье гроб погрузили на пароход, а по прибытии в Малагу перенесли на железнодорожную станцию и поместили в вагон, затем запломбировали его и отправили в Кордову. Там на станции поезд ожидали военный и гражданский губернаторы, алькальд{46}, духовенство с епископом во главе, эскадрон кавалерии, чтобы отдать воинскую честь погибшему, муниципальная гвардия и многочисленные жители города, собравшиеся проводить в последний путь своего соотечественника. Поезд остановился. Пепе вместе с другим ехавшим с ним офицером направился к военному губернатору отдать рапорт и доложить о доставке тела для передачи семье. Епископ со свитой, губернатор и другие представители власти с печальными лицами, как и подобает в таких случаях, направились в хвост поезда, где должен был находиться вагон с телом погибшего, но, к всеобщему удивлению, вагона там не оказалось. Спросили у начальника станции. Тот в недоумении ответил, что, наверное, вагон прицеплен в голове поезда. Еще раз все важные чины с Пепе во главе прошествовали по перрону в поисках таинственного вагона, но его и там не оказалось. Выражение скорби у всех на физиономиях сменилось гримасой удивления. Негодование отцов города стало принимать угрожающие размеры. Они отправились к начальнику станции, но тому ничего не было известно, и он по телеграфу запросил Малагу. В тот момент кто-то вспомнил о Пепе. Власти, которые уже не могли больше скрывать своего неудовольствия, обрушились на него в неистовом гневе. Больше всех возмущался военный губернатор, так как он лишился возможности [87] произнести речь, которую долго заучивал и хранил в своей куцей памяти. Нервничал и епископ в своем торжественном облачении, ибо и он оказался без дела. Когда начальник станции сообщил, что на узловой станции Бобадилья вагон с покойником по ошибке прицепили к гренадскому поезду, все возвратились в город, к великому удивлению публики, ожидавшей похорон и не понимавшей причин задержки.








