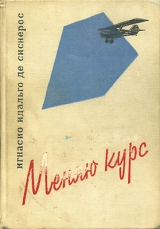
Текст книги "Меняю курс"
Автор книги: Игнасио Идальго де Сиснерос
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
В то время в Испании, если видели стоящую на дороге машину, обязательно спрашивали, не требуется ли помощь. Километрах в пятидесяти от Кордовы мы заметили автомобиль с дипломатическим номером. Шофер что-то исправлял в моторе. Рядом стоял господин, по внешнему виду типичный английский офицер в отставке, а немного поодаль – девушка-блондинка с приятной внешностью. Оказалось, машина принадлежит английскому посольству, а господин – губернатор Гибралтара, который вместе с дочерью едет в Севилью. Шофер-испанец сказал нам, что у него не хватает какой-то детали, а без нее он не может устранить повреждение. Англичанин говорил на испанском языке плохо, но дочь его объяснялась на нем довольно свободно. Пепе предложил им оставить автомобиль и шофера ждать, пока из Кордовы не прибудет помощь, и ехать в Севилью с нами. Они с радостью согласились.
Узнав, что я прибыл из Сахары, губернатор на протяжении всего пути расспрашивал меня об Африке, Пепе же в это время о чем-то весело болтал с девушкой. В Севилье мы остановились в отеле «Альфонс XIII», где для нас уже были заказаны номера. Потом я отправился в дом моего хорошего друга Гильермо Дельгадо. Мы с ним в один день получили чин майора. Дом у Гильермо был необычный. Он принадлежал к королевскому родовому имуществу и сдавался внаем за незначительную сумму. Чтобы войти в него, надо было [155] пересечь настоящий «Патио де лос наранхос» {78}. К нему же был обращен и фасад здания.
Гильермо жил с двумя дочерьми – 16-ти или 17-ти лет, красивыми, приятными и элегантными. Несколько раз мы с Гильермо летали над интернатом, в котором они учились, сбрасывая какой-либо подарок, тут же подбираемый монашками или девушками-воспитанницами.
В те дни в Севилье приземлился дирижабль «Граф Цепеллин», только что совершивший кругосветный полет. В составе его экипажа находился испанец, тогда подполковник авиации Эмилио Эррера. К сожалению, немцы оценили его знания в области аэронавтики значительно выше и щедрее, чем соотечественники. «Цепеллин» открыл аэродром Сан-Пабло, который с тех пор стал официальным аэродромом Севильи.
В те дни мы с Гильермо часто посещали знаменитое казино «Касинильо де ла Кампана». В Севилье его называли «Витриной холодильника», потому что салон, занимавший первый этаж, имел полукруглую форму и из-за большого количества окон казался витриной. Несколько раз я бывал в «Витрине» еще с Санхурхо. Такое казино могло существовать только в Андалузии и только в Севилье. Я уже рассказывал о баре «Гран Пенья» в Мадриде. Казино «де ла Кампана» производило впечатление значительно более утонченного и современного. Прием в члены клуба был строго ограничен. В него могли вступить аристократы, землевладельцы и крупная буржуазия, а также высшие власти города: губернатор, капитан-генерал, алькальд. Кроме того, при вступлении в клуб предусматривался ряд условий, не имевших ничего общего с этикой, моралью и честностью в том смысле, как это понимает большая часть человечества.
Что касается женского общества, то в этом отношении больших строгостей не было. Приглашали самых модных артисток и известных профессионалок… Кухня была великолепной. Винный погреб, конечно, лучший из лучших. Казино посещали владельцы главных винных складов, естественно знавшие толк в этом деле. Закажешь оливки – принесут лучшие в мире и без всякого обмана: ведь здесь бывали хозяева знаменитых в Испании оливковых плантаций. Окорока из Арасена доставляли в казино из имения одного из членов клуба. Приглашали владельцев лучших рыболовецких судов, [156] в частности Карранса, занимавшегося ловлей тунцов в Проливе. И конечно, тунцы, подаваемые в «Витрине», были отборными. То же относилось и к апельсинам и вообще ко всему, что только есть в Андалузии.
Когда в Севилье происходили бои быков, казино абонировало лучшие места на трибунах. В ложах и в первых рядах имелись специальные кресла со спинками для избранных членов общества, привыкших к особому комфорту. Позади них стояли присланные из казино лакеи в ливреях и подавали мансанилью, виски и т. п. с соответствующими закусками. У публики это не вызывало ни малейшего протеста. Невероятно, до чего укоренилось в нас барство! Я тоже пользовался этими привилегиями и преимуществами, но должен сказать, что уже тогда мне иногда становилось стыдно и за себя и за других. Я понимал всю несправедливость существовавшего положения, однако мирился с ним, ибо подобный образ жизни был мне в общем приятен.
Мне очень нравились корриды в Севилье. Здесь была самая красивая арена в Испании. Обычно я сидел в окружении друзей в удобном кресле, откуда было все прекрасно видно, и любовался на севильянок в изящных платьях и мантильях. Я не беру на себя смелость описывать ни севильские корриды, ни севильских женщин.
В то время мое недовольство вопиющим неравенством между различными слоями общества было умозрительным, и только значительно позже я сумел на практике выразить свой протест против него. Однако уже тогда налицо был некоторый прогресс в моем сознании. Жизнь, которую я вел, не привлекала меня до такой степени, чтобы я не мог отказаться от нее. Помню удивление Гильермо, увидевшего однажды, как возмутил меня поступок, казавшийся для завсегдатаев казино, где мы сидели еще с одним господином, нормальным. Во время нашей беседы по улице прошла красивая молодая девушка. Наш собеседник, член клуба, спросил у Дельгадо, знает ли он ее. Тот ответил, что не знает. Тогда этот человек попросил служащего, словно речь шла о самых обычных вещах, разузнать, где она живет, есть ли у нее жених или любовник, каково ее поведение и т. п. Сводничеством занимались почти все служащие казино. Этот факт может дать представление о жизни, какую вели наиболее привилегированные классы.
Между членами клуба существовала круговая порука. Достаточно было легкого намека, и все дела – судебные или любые другие – решались в пользу членов клуба или по [157] их рекомендации. Делалось это за счет простых смертных, не входивших в клан «избранных».
В те времена я дважды встречал в казино Примо де Ривера, который чувствовал себя там как рыба в воде. Он никогда не пил спиртного и держался с достоинством.
В казино мало говорили о политике. Все его члены были монархистами до мозга костей и ярыми защитниками церкви, хотя никогда не посещали мессы и не выполняли самых элементарных обязанностей католика. В один из дней святой недели я сидел в казино и наслаждался прохладной мансанильей. Я заказал знаменитую ветчину из Арасена и, лишь когда ее принесли, вспомнил, что сегодня нельзя есть мясо. Меня давно уже не заботили подобные вещи, но, чтобы не оскорблять религиозных чувств других, я приказал унести ветчину. Каково же было мое удивление, когда рядом я заметил ревностных католиков, уплетавших окорок вопреки церковному запрету!
Много раз, удивляясь, я думал о том, почему народ с такой безропотной покорностью переносил жизненные тяготы и несправедливость. Тогда я не замечал в нем недовольства и возмущения жизнью и поведением господ, и, конечно, никто никогда мне об этом не говорил. Однако первое, что сделал народ, когда восстал, – сжег казино.
Несколько дней я не видел своего кузена Пепе. Наконец он позвонил мне по телефону и пригласил на обед в таверну моего старого друга Пилина. Увидев кузена, я сразу понял, что он счастлив и хочет поделиться своей радостью. С того времени, как Пепе познакомился с английским губернатором и его дочерью, он не переставал думать о девушке. На следующий день после нашего приезда, в 9 часов утра, он отправил своего шофера вместе с автомобилем и письмом к губернатору. В послании он писал, что для него будет большой честью предложить им свой автомобиль, пока их машина находится на ремонте. Губернатор послал ему любезнейший ответ и пригласил на ужин, чего Пепе как раз и добивался. И вот мой кузен уже наполовину жених. Мне он превозносил свою новую симпатию до небес. Больше всего Пепе восхищало ее умение естественно держать себя в любом обществе. Когда же я спросил его о Солеа, он сразу стал серьезным и сказал, что это – его единственная забота, так как ему сообщили о ее приезде в Севилью.
В тот же вечер, когда мы с Гильермо сидели в таверне «Антекера» после осмотра быков для следующей корриды, [158] появилась Солеа в компании трех незнакомых нам сеньоров. Она приветствовала нас. Меня бросило в дрожь при мысли, что в таверне может появиться Пепе со своей англичанкой. Я пытался позвонить ему по телефону, но не застал дома. Когда мы с Гильермо садились в автомобиль, чтобы вернуться в Севилью, подошла Солеа и спросила, не хотим ли мы взять ее с собой. Ей так не терпелось поговорить со мной, что она, не раздумывая, покинула своих друзей. Без предисловий Солеа заявила, что знает, как Пепе восхищен одной «прилизанной» англичанкой. Слава богу, он уже мало интересует ее, между ними давно уже нет ничего общего, с этим покончено раз и навсегда. Однако любопытства ради ей хотелось узнать, верно ли, что Пепе совсем потерял вкус… Она долго говорила в таком же духе, пытаясь даже своим тоном показать полную индифферентность. Разговор очень встревожил меня. Имелись все основания подозревать, что Солеа может выкинуть любой фокус.
На аэродроме Таблада устроили большой праздник, на котором присутствовала королевская семья. Помню показательный удар «мордой о землю», как мы его называли в авиации, выполненный Гути на истребителе в десяти метрах от королевы. У самой земли он хотел выйти из пике, но самолет ударился о нее, к счастью под острым углом, и покатился по полю, Гути чудом удалось спастись. Тогда я последний раз видел короля. В разговоре он использовал мадридский жаргон. Бывая среди нас, король, не стесняясь, употреблял совсем не протокольные выражения. Думаю, таким путем он пытался завоевать наши симпатии. Заметив на аэродроме архиепископа, пришедшего приветствовать его, король подмигнул нам и, как Дон-Кихот, сказал: «Сталкиваемся с церковью». Затем стал смирно, по-военному и почтительно поцеловал его перстень. Наконец, помню случай с принцем Галесом, ныне виндзорским герцогом. Во время пробы бычков, устроенной на летном поле (необыкновенно красивое и яркое зрелище, в котором участвовали лучшие наездники Андалузии, в живописных костюмах и на прекрасных лошадях), принц, увидев, как сбили с ног первого бычка, демонстративно удалился с поля в сопровождении своего испанского адъютанта, кажется Моренеса, и отправился в аэродромный бар. Эта выходка принца была расценена как неуважение ко всем испанцам – от короля до последнего летчика. К тому же для нее у принца Галеса не было оснований. Бычкам в таких пробных боях не причиняли никакого вреда. Когда закончилась эта [159] часть праздника, мы зашли в бар выпить виски. Наш прекрасный принц все еще находился там, болтая с летчиками и попивая вино. Все мы были возмущены его поведением. Своим поступком он как бы обвинял нас в дикости и бесчеловечности. Один из летчиков воспользовался представившейся в разговоре возможностью и отплатил ему тем же. Он завел речь об охоте и, обращаясь к принцу, сказал, что до сих пор хранит неприятное воспоминание, вызванное гравюрой, когда-то висевшей в его детской комнате. На ней была изображена охота на лис в Англии: собаки терзали бедное животное, а охотники в красных сюртуках, и среди них несколько женщин, с восторгом созерцали кровавое зрелище. Принц прекрасно понял намек, но ничего не ответил и вышел из бара.
Английский губернатор и его дочь были в восторге от праздника, на котором их сопровождал Пепе. Бедный, он не мог представить себе, что ждет его через несколько часов!
Солеа интересовалась всем, что имело отношение к Пепе и англичанке. Как я и предполагал, она выкинула один из своих классических номеров. Во дворе своего дома она взяла двух мальчишек шести и семи лет, купила им сладостей и направилась с ними в отель «Альфонс XIII». Там она приказала посыльному передать англичанке, что имеет к ней срочное поручение. Девушка немедленно спустилась вниз. Солеа, указав ей на мальчиков, сказала: они – сыновья ее и Пепе; она пришла спросить, неужели англичанка прибыла так издалека, чтобы разрушить их семейное счастье. Об этой сцене мне потом рассказал посыльный. Бедная девушка покраснела и не знала, что ответить. Люди, находившиеся вокруг, конечно, поняли, в чем дело. В итоге разразился грандиозный скандал. Губернатор поторопился с отъездом. Молодая англичанка уехала, не пожелав выслушивать объяснений Пепе.
В Севилье мне довелось присутствовать на церемонии открытия канала Таблада, превратившего наш аэродром в остров. Я наблюдал за ней с подъемного моста, который соединил новый остров с городом. По этому случаю инженеры устроили настоящее представление. На полном ходу к мосту приблизился эсминец, и, когда столкновение казалось неизбежным, мост подняли, и эсминец вместе с каравеллой «Санта Мария», стоявшей на якоре вблизи моста, прошел по каналу.
Несмотря на жизнь, которую вел в то время, я все же был изолирован от политических дел. Однако до нас доходили слухи, указывавшие на то, что обстановка в стране весьма неустойчива. Первым серьезным выступлением против Примо де [160] Ривера явилась Санхуанада{79}. Оно потерпело неудачу, и несколько генералов, в том числе Батет и Агилера, были осуждены.
Восстание артиллеристов, вызванное упразднением существовавшего порядка продвижения в чинах, послужило поводом для роспуска артиллерийского корпуса и для занятия войсками его казарм. В Сиудад Реаль, где артиллеристам удалось на время захватить город, суд приговорил одного полковника к смертной казни, других командиров – к пожизненному заключению. Приговор, правда, не был приведен в исполнение. Эти события нельзя было скрыть, их обсуждали всюду, и совершенно открыто.
Среди моих друзей больше всего этой расправой возмущался Рамон Франко. Перелет из Европы в Буэнос-Айрес сделал Рамона всемирно известным. Впервые Атлантический океан был пересечен по воздуху{80}. Перелет, который он сам подготовил и осуществил, явился настоящим сюрпризом для авиаторов. Руис де Альда, его штурман, вошел в состав экспедиции, когда все приготовления уже закончились, помогал Франко только Барберан. Морского летчика Дурана, фигурировавшего в качестве одного из героев экспедиции, в последний час навязало Рамону командование морской авиации, которое не могло допустить, чтобы в столь важном мероприятии обошлись без них. Такое насилие едва не привело к отмене перелета.
Уже в Буэнос-Айресе у Франко произошла серьезная стычка с Примо по телефону. Диктатор приказал Франко отправиться в какую-то страну, но тот категорически отказался. Примо пришлось уступить. В то время Рамон был очень знаменит. Когда он вернулся в Испанию, ему устроили грандиозный прием в Уэльве. Я находился там с эскадрильей гидросамолетов. Тут же присутствовал его брат Франсиско, с которым Рамон не разговаривал уже несколько лет. На этом путешествии Франко основательно заработал, ему вручили множество подарков и денег, собранных по подписке испанцами, проживавшими в Америке, и т. д. Деньги он с примерным великодушием разделил между Руисом де Альда, Дураном и Рада. Рамон Франко стал национальным героем, пользовался огромной популярностью, приобрел значительное [161] состояние и прослыл республиканцем и врагом Примо де Ривера.
После возвращения Рамона из Америки я провел с ним несколько дней. Маленький отель, где он жил, превратился в центр конспирации республиканцев. Я был изумлен энтузиазмом, с каким Рамон занимался политической деятельностью. Он с большой расточительностью раздавал деньги, поэтому вокруг него постоянно толпились прихлебатели. Эти люди не внушали мне доверия, и постепенно я стал отдаляться от него.
Обстановка, складывавшаяся в стране, начала беспокоить придворных, до тех пор витавших в облаках. Ту же озабоченность я замечал и в доме сестры, куда к моему шурину Жевенуа часто приходили Рикардо Эспехо, Мигель Понте и некоторые другие и обсуждали так называемое «безразличие» многих военных к королю. Для пресечения этой опасной тенденции генералы и офицеры, наиболее преданные монархии, создали своего рода хунту. Мне не известны во всех подробностях цели этой организации. Я знал только о некоторых ее решениях. Одно из них предусматривало обновление военного дворцового персонала за счет привлечения молодых авторитетных военных, не принадлежавших к привилегированным семьям. Кандидатами в адъютанты короля называли майора авиации Эдуардо Гонсалеса Гильярса и подполковника Августина Муньеса Грандеса – двух молодых офицеров, пользовавшихся большим авторитетом в армии и происходивших из относительно бедных семей.
Никто не сомневался, что назначения будут приняты теми, кому их предлагали. Но, к большому удивлению в высших сферах, Муньес Грандес отказался от предложенного поста. Впервые военный отверг честь стать адъютантом короля. Назначили Паблито Мартина Алонсо, молодого подполковника, тоже из небогатой семьи. Муньес Грандес предпочел вернуться в Марокко и командовать местной полицией.
Кроме того, члены хунты считали, что надо дать лошадей для игры в поло некоторым кавалерийским и артиллерийским полкам в провинции, где офицерство стало испытывать «безразличие» к монархии. В Испании поло всегда было игрой привилегированных классов. Они думали, предоставив офицерам в провинции возможность заниматься аристократическим спортом, льстившим их тщеславию, создать у них иллюзию близости к дворцовым кругам. Для поддержания верноподданнических чувств к монарху они предусматривали, чтобы [162] секретариат короля больше рассылал офицерам поздравлений, фотографий и проявлял другие признаки внимания, о которых монарх может не знать, но которые произведут хорошее впечатление и заставят думать, будто он постоянно помнит о своих подданных. О значении таких мелочей могу судить, исходя из собственного опыта. Когда мне присвоили чин майора, я получил фотографию короля с надписью: «Майору Идальго де Сиснеросу, Альфонс XIII».
Вначале меня удивило такое внимание. И хотя уже тогда мои симпатии к монархии начинали исчезать, должен признаться, королевская фотография польстила моему тщеславию и в глубине души я гордился подарком. Потом я узнал: этой милостью я обязан Мигелю Понте, подсказавшему мое имя в секретариате и рассчитывавшему таким образом восстановить мою пошатнувшуюся приверженность монархии.
В одну из поездок в Сеуту я представился ее военному коменданту генералу Мильяну Астраю, который пригласил меня на обед. Во время трапезы он расспрашивал меня о политической деятельности Рамона Франко. Видимо, это сильно беспокоило его. Большой интерес генерал проявил к настроениям в авиации. Не знаю почему, этот монархист-фанатик считал меня своим единомышленником.
В то лето меня послали в составе Хорнады Рехии{81} в Сантандер, где я должен был оставаться в течение двух месяцев, которые собиралась провести в этом городе королевская семья. Но должно быть, вмешался какой-то республиканский дух, так как перелет закончился весьма плачевно. В Мар-Чика мне приготовили гидросамолет. Очень настойчиво нам рекомендовали взять с собой парадную форму и фраки, так как придется присутствовать на многих приемах. К отлету мы явились, словно на свадьбу.
Первое несчастье случилось у мыса Сан-Висенте. Авария в одном из моторов вынудила нас совершить посадку на воду, но из-за большого волнения на море сломались несколько шпангоутов. С трудом устранив повреждения, мы чудом оторвались от тридцатиметровых волн. Посадка на воду и взлет имели трагические последствия. До Кадиса, где находился авиационный ремонтный завод, мы добрались на самолете, уже непригодном для дальнейшего использования. Нам дали [163] другой. На нем мы долетели до Виго с остановкой на один день в Лиссабоне. Из Виго вылетели рано утром с полными баками горючего, намереваясь добраться до Хихона. Запустив передний мотор, мы удалились от берега, чтобы стать против ветра, но в это время обнаружили пожар. Огонь стремительно распространялся по трюмам гидросамолета, в которых находились баки с тремя тысячами литров бензина. Мы попали в сложное положение. Берег находился в четырех-пяти километрах, поблизости не было видно ни одного судна. Броситься в воду, оставив гидросамолет, мы не могли, так как горящий бензин разлился бы по поверхности моря и настиг нас. Включив мотор, на предельной скорости я направил самолет к берегу. Пламя, словно шлейф, тянулось за нами. Должно быть, это было внушительное зрелище: бешено несущийся гидросамолет, пять человек экипажа, сгруппировавшиеся на носу, и пламя в черных клубах дыма. Внезапно мы заметили шедший от берега бот. Подлетев к нему, я приказал всем бросаться в воду. Нам удалось достичь бота раньше, чем бензин начал растекаться по воде. Спасло нас еще и то, что бензиновые баки, заполненные доверху, не имели воздушных камер и поэтому не взорвались. Газета «АБЦ» на первой странице поместила фотографию гидросамолета, объятого огнем, с поднимающимся над ним столбом дыма, который терялся вдали. Нашим спасителем оказался молодой человек, получивший в награду за свой смелый поступок «Крест благодеяния». Авиация тоже преподнесла ему хороший подарок: ведь, чтобы приблизиться к горящему гидросамолету, нужно было проявить большую смелость. Мы потеряли весь свой великолепный гардероб. Самолет потопили выстрелами с морской базы.
Первое политическое выступление, в котором я участвовал, произошло на авиабазе в Мелилье. Поводом для него послужила «добровольная» подписка на подарок диктатору. Однажды у нас удержали часть жалованья. Не помню, достигала ли она 10 процентов всей суммы. Офицер, первым обнаруживший это, возмутился, почему без его согласия сделаны такие вычеты. Мы единодушно поддержали его. Кассиру пришлось полностью выплатить причитающиеся нам деньги. Никто из офицеров не придал большого значения этому событию. Мы находили свое поведение естественным. Лицемерные же действия властей преследовали цель не только получить дополнительно два или три миллиона песет, но также убедить нас, что в этом – проявление уважения испанского народа к диктатору. [164]
Спустя несколько дней нашего командира подполковника Камачо вызвал генерал Посас, военный комендант Мелильи. Он был озабочен тем, что одна из воинских частей в его округе не пожелала сделать взнос на подарок. Убеждениями и даже угрозами он пытался заставить нас изменить свое решение. Но мы оставались непреклонными и, не считаясь с возможными последствиями, твердо стояли на своем. Наша часть оказалась единственной в вооруженных силах, которая не сделала запланированного вклада. Однако репрессий не последовало. Очевидно, в высших сферах понимали, что благоразумнее не давать ход этому делу. Мы гордились уроком, преподанным властям, и с тех пор безотчетно заняли более определенную позицию в отношении диктатуры. Помню, как, не стесняясь, мы повсюду выражали недовольство мероприятиями Примо де Ривера. Критические высказывания делались не раз и по адресу монархии.
Находясь в отпуске в Мадриде, как-то ночью я зашел в модное в то время кабаре «Ледяной дворец». Все столики были заняты. Я подсел к знакомому лейтенанту и двум его товарищам. Не обращая на меня внимания, они продолжали спор, прерванный моим приходом. Спорили горячо. Вначале я не прислушивался к их разговору, но понемногу заинтересовался. Говорили о диктатуре, монархии и республике. Двое офицеров были республиканцами, третий – монархист и фанатичный приверженец Примо де Ривера. Республиканцы оперировали простыми разумными доводами, убедительными примерами. Монархист же в раздраженном тоне пытался противопоставить им общие положения. Я не имел никакого желания вмешиваться в спор, но монархист, очевидно, принял меня за своего единомышленника и обратился за поддержкой. Промолчать было нельзя, и, поскольку он действовал мне на нервы своей глупостью, я со всей горячностью выдвинул против диктатуры и монархии аргументы, некогда слышанные мною от республиканцев в Алькала. Помню испуг на лице этого офицера, сменившийся затем негодованием. Он не мог или не нашел сил возразить и, исполненный собственного достоинства, удалился.
Офицеры– республиканцы тоже были удивлены. Они не ожидали найти во мне союзника и, конечно, не могли предположить, что в глубине души я не придавал большого значения существу спора. Один из них серьезно заметил, что они рады встретить в моем лице сторонника. Ничего не скрывая, они стали рассказывать о республиканском движении. Поняв, что [165] со мной пытаются говорить о вещах, которые мне не положено знать, я извинился и, сославшись на желание потанцевать, прервал их излияния. Воспользовавшись приходом своих друзей, я вскоре распрощался с офицерами. Они еще раз выразили удовлетворение по поводу нашего знакомства и обещали не терять связи со мной. Со временем это происшествие выветрилось из моей памяти.
Я был доволен службой на базе гидроавиации в Мелилье. Сослуживцы оказались приятными людьми, и мы прекрасно ладили друг с другом. Редкостное явление – дисциплина на базе была сознательной, какой и должна быть настоящая воинская дисциплина. Солдаты не боялись командиров. Я не припомню ни одного случая ареста рядового. Офицеры старались облегчить жизнь своих подчиненных, улучшить их питание. Посторонние, которым доводилось пробовать солдатскую пищу, не верили, что она приготовлена для рядового состава. Секрет заключался в искусстве хозяйственников и в умелом использовании некоторых наших специфических возможностей. Раз в месяц мы отправлялись на гидросамолете в Гибралтар, являвшийся порто-франко{82}, и закупали большое количество продуктов, стоивших намного дешевле, чем в Мелилье. Помню, цены на сахар, табак и ликеры были там в четыре раза меньше. Другим источником дохода являлся бар. На все, что в нем продавалось, делалась надбавка в один процент. Полученные от этого деньги шли на улучшение питания солдат. Хотя подобные операции не очень-то разрешались законом, их цель оправдывала себя.
Служба на базе была нетрудной. В моем ведении находился один гидросамолет, обслуживавший верховного комиссара протектората. Мы располагались в порту Сеуты, в маленькой бухте с одним ангаром.
Я провел здесь несколько месяцев. Думаю, следует остановиться и на других преимуществах моей жизни на базе, имевших для меня в то время решающее значение: прекрасное жалованье, полная свобода, отсутствие какого-либо начальства, предоставленные в мое распоряжение гидросамолет, великолепный моторный катер, автомобиль, обширная квартира, никакой работы, так как верховный комиссар редко совершал полеты. Я пользовался всеобщим уважением. Многим нравилось бывать на вечеринках, устраиваемых мною. Гибралтар находился в десяти минутах полета, поэтому я [166] всегда имел погреб с хорошо подобранным запасом вин. Мы могли совершать прогулки на моторном катере и гидросамолете. Одним словом, мой пост был идеальным для любого молодого аристократа, даже чрезмерно избалованного и капризного.
Восстание в «Куатро виентос»
Однажды я полетел в Мелилью, чтобы поменять самолет. На следующий день во время киносеанса ко мне подошел подполковник Камачо и заявил: наступил момент, когда он должен мне кое-что сказать. Несмотря на взаимное доверие, Камачо и я ни разу серьезно не говорили о политике. Камачо, хорошо знавший меня, конечно, не имел оснований предполагать, что я могу быть участником политического заговора. Он и сам никогда не рассказывал мне, что является членом республиканской организации.
По выражению лица Камачо я понял: он хочет сообщить мне что-то важное. Возможно, речь пойдет об авиационной катастрофе или о какой-либо любовной интрижке – единственные для меня в то время серьезные дела.
По самым пустынным улицам Камачо повел меня в порт и возбужденно стал рассказывать о том, что в течение ближайших четырех дней что-то будет готово и я должен этой же ночью отправиться в Мадрид. Из его бессвязной тирады я ничего не понял. Когда же он объяснил, что речь идет о восстании с целью провозглашения республики в Испании, мне, естественно, оставалось только выразить удивление. Я никак не мог понять, почему он обратился ко мне и что меня связывает с этой затеей. Наш разговор походил на диалог между сумасшедшим и глухим. Он не допускал мысли, что я ничего не знал, и поэтому не мог понять моего отношения к его сообщению. Со своей стороны я не совсем разобрался, о чем, собственно, идет речь. Я совершенно забыл о своей беседе в кабаре «Ледяной дворец», которой не придал никакого значения. Мне трудно было представить, что мое знакомство с Рамоном Франко, Легорбуру и другими республиканцами могло создать обо мне мнение как об их единомышленнике. Естественно, я был удивлен, и мне стоило многих усилий догадаться, чего от меня хотят.
Наконец мне удалось кое-что уяснить. Камачо получил сообщение о дате мятежа и список офицеров-республиканцев. [167] Из них он выбрал четырех, которые должны поехать в Мадрид для участия в нем. Очевидно, я был одним из них. Я немедленно ответил: все это абсурд и на меня не следует рассчитывать, ибо я не имею никакого отношения к этому делу.
В Мадрид, как сообщил Камачо, вместе со мной должны были ехать лейтенант Мельядо и младший лейтенант Валье. Мельядо, решительный офицер, пользовался большой популярностью в авиации и располагал солидным состоянием, позволявшим ему превосходно жить. Он не скрывал своих республиканских убеждений и, должно быть, с вполне искренней решимостью и энтузиазмом пускался в эту авантюру. Младший лейтенант Валье считался хорошим летчиком и великолепным радистом. Он также был известен как республиканец.
Камачо беспокоился, какую позицию займут Мельядо и Валье, когда узнают о моем отказе. Тем более что четвертый участник предстоящего путешествия подполковник Августин Муньес Грандес тоже не мог лететь с ними, так как находился в инспекционной поездке, и Камачо не имел возможности связаться с ним. Младшим офицерам могло показаться, что их хотят отправить одних, а старших по чину оставить.
Но меня начинало волновать другое.
Мои друзья из-за своего легкомыслия и неосведомленности рассчитывали на меня и теперь будут думать, будто в решающий момент я струсил и бросил их. Эта мысль брала верх над логическими рассуждениями по поводу абсурдности моего участия в подобной авантюре. Я ей даже не сочувствовал, да и глупо ставить на карту свою жизнь со всем, что я имел. Однако я решил ехать в Мадрид.
В ту же ночь Хоакин Мельядо, Хосе Мария Валье и я приехали в Малагу. Никто из нас не имел ни малейшего представления о дальнейших действиях. Единственное, что сообщил мне Камачо, – надо установить контакт с подполковником авиации Сандино и получить у него инструкции.








