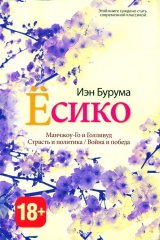
Текст книги "Ёсико"
Автор книги: Иэн Бурума
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Иэн Бурума
Ёсико
Посвящается Эри
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Сегодня это сложнопредставить, но было время, когда японцы обожали Китай. Не все, разумеется, но достаточно многие, чтобы можно было говорить о настоящем буме Китая в Японии. Подобно другим повальным увлечениям в моей стране, Китайский Бум оказался мимолетным: сегодня был, назавтра след простыл. Но пока он длился, впечатлений хватало всем. Китайский Бум обрушился на страну осенью 1940-го, как раз когда наша тупоголовая армия увязла в трясине, которую сама же и создала. Нанкин [1]1
Нанк и н – бывшая столица Китая. Расположен в южной части страны, в 260 км к северо-западу от Шанхая. В 1937 г. был захвачен японцами, которые истребили до 300 тыс. горожан. В 1940 г. в Нанкине японцы учредили марионеточное правительство Вана Цзинвэя для оккупированных частей Китая. – Здесь и далее примеч. ред.
[Закрыть] пал несколькими годами раньше. Наши бомбили Чунцин – без особого толку. Честно говоря, Япония походила на тунца, который пытается проглотить кита.
А где-то в далеком Токио тянулось жаркое, душное лето. Квартал Асакуcа, [2]2
Ас а куса – развлекательный квартал и крупный парк на северо-западе Токио.
[Закрыть]обычно переполненный жизнью, выглядел таким измученным, словно у людей не осталось сил для развлечений. Жизнь и веселье ушли на запад, в район Гиндзы, но даже там унылое настроение мрачно висело в знойном воздухе: кофейни стояли полупустые, бары переживали тяжелые времена, даже еда в ресторанах стала не так вкусна, как раньше. Да и само веселье, хотя и не было официально запрещено, считалось «непатриотичным».
Тогда-то и явился нам этот безумный Китайский Бум – так радуга проступает после грозы в темно-сером небе. Фильмы, снятые в Китае, вдруг стали очень модными. Девушки захотели внешне походить на Ри Коран, [3]3
Ли Сянлань ( кит,Li Xianglan, японское произношение – Ри Коран, японское имя – Ёсико Отака, английский псевдоним – Ширли Ямагути; р. 1920) – легендарная японская певица и актриса, рожденная в Китае. Сделала карьеру в Китае, Японии, Гонконге и США. В 1970 г. была избрана членом японского парламента, где проработала 18 лет.
[Закрыть]кинодиву Маньчжурии. Мы смотрели, как они прогуливаются по Гиндзе: ножки короткие, пухлые и белые, точно редьки-дайкон, фигурки затянуты в шелковые платья. В ход пошла косметика, чтобы сделать глаза более раскосыми и экзотическими, более китайскими. По беспроводному радио целыми днями крутили «Китайские ночи» – популярную песенку в исполнении Ри Коран, вызывавшую беспричинную тоску по сомнительным прелестям ночного Шанхая. Девушки мурлыкали ритмичную мелодийку, в упоении закрывая глаза, и слегка покачивались в такт, как тропические цветы. В кофейне «Китайские ночи» на Скиябаси официантками работали девушки – двойники Ри Коран. На самом деле, конечно, они не очень-то на нее походили. Кривые зубы и отсутствие талии сразу выдавали в них японских девчонок из сельской глубинки. Но они были рядом, совсем близко, закутанные в куски яркого шелка, с цветами в волосах. И уже этого было достаточно. Мужчины сходили от них с ума.
Не исключаю, что азиатский континент показался нам столь привлекательным просто на контрасте – из-за унылого однообразия на домашних фронтах. Да и бум, подобный этому, не был для нас в диковинку. Как я уже сказал, мы, японцы, очень часто в массовом порядке подхватываем опасный вирус и, объятые кратковременной лихорадкой, бросаемся то на одно, то на другое. Можно сказать, это у нас в крови. А может быть, истинная причина куда прозаичнее. Возможно, слушая песенку Ри Коран, люди хоть ненадолго забывали о войнах, экономических спадах, о солдатах, плетущихся в грязи по пропитанной кровью земле. И вместо того, чтобы слыть местом тысяч печалей, затягивающим Японию во все большие ужасы, Китай становился для нас землей очарований, загадочной страной, сулящей неведомые наслаждения.
Сейчас, когда я вглядываюсь в обломки наших глупых фантазий, все это кажется мне страшно далеким. «Китайские ночи» канули в Лету. Гиндза в руинах. Япония – страна развалин. Да и сам я развалина. Но как бы там ни было, ровно через год после своего начала, похожего на извержение вулкана, Китайский Бум закончился. После Пёрл-Харбора все, о чем люди думали, – это о победе над англо-американскими варварами. Оказалось, это была очередная наша мечта – мираж в пустыне, к которому мы влачились в бесплодной надежде утолить жажду хоть самой малости уважения и справедливости.
Но прежде чем продолжить рассказ, я должен объяснить мою собственную любовь к Китаю, которая никоим образом не похожа на тот мимолетный Китайский Бум 1940 года. Чтобы вы могли понять мои чувства, нам нужно перенестись в двадцатые годы, в мою родную деревушку под Аомори, маленькое местечко в глухой крестьянской провинции, жители которой обладали узколобостью лягушек, брошенных в темный колодец. Для меня Китай, с его громадными пространствами, с городами, битком набитыми людьми, и пятью тысячами лет цивилизации, всегда представлялся спасительным выходом из этого колодца. И я был той маленькой лягушкой, которая смогла оттуда выбраться.
Там, где я рос, на любовь к Китаю смотрели не очень-то одобрительно. Был, конечно, сэнсэй Мацумото, худой старик в линялом синем кимоно и очках в роговой оправе, с длинными седыми волосами, которые мотались вокруг его сморщенной шеи, точно обрывки паутины. Китай, который он любил, остался где-то в двенадцатом веке. Он жил в мире заплесневелых конфуцианских классиков, чью мудрость и пытался передать нам – правда, без особого успеха. Вот он появляется перед моим мысленным взором: голова почти касается страниц трактата «Лунь Юй», [4]4
«Беседы и суждения», или «Аналекты Конфуция», – главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция из коротких записей, передающих высказывания, поступки учителя, его разговоры с учениками.
[Закрыть]слабая улыбка играет на потрескавшихся губах, а он выписывает китайские иероглифы длинным коричневым ногтем указательного пальца правой руки, не обращая внимания на хихиканье своих учеников. Даже сейчас, когда я слышу имена Кун-цзы или Мэн-цзы, [5]5
Кун-цзы (Кун-фу-цзы, Конфуций, Кун Цю, Кун Чжунни; 551–479 гг. до н. э.) – китайский философ, основатель конфуцианства Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.) – китайский философ, представитель конфуцианской традиции.
[Закрыть] предо мною встает образ сэнсэя Мацумото с запахом пригоревшего молока из старческого рта.
Отец мой, Сато Юкити, побывал в Китае в 1895-м, когда служил в солдатах. Но черная кошка между ним и страной его бывших врагов не пробежала. Японо-китайскую войну он вспоминал нечасто. Я даже сомневаюсь, представлял ли он, что вообще на той войне было. Лишь изредка, перебрав саке, откидывал голову да затягивал походную песню, прикладывая к губам сложенные ладони и подражая звуку трубы. А потом доставал нас воспоминаниями о том, как командир Кога спас императорский флаг, и прочими байками о чьих-нибудь героических безрассудствах. А то затягивал рассказ о погоде в Маньчжурии, где, не уставал он повторять, было холоднее, чем зимой в нашей заснеженной глухомани, – так холодно, что моча на морозе застывала сосулькой от самого члена до промерзшей земли. На этом месте мама обычно удалялась на кухню и начинала греметь посудой.
Однажды, еще мальчиком, я обнаружил среди отцовских книг лакированную шкатулку, в которой хранилось несколько ксилографий с изображением известных батальных сцен на фоне заснеженных пейзажей. Видимо, картинки эти редко вынимались на свет – цвета на них остались такими же свежими и чистыми, как в день, когда их напечатали: огненно-красные и желтые вспышки пушечных выстрелов, темно-синие зимние ночи. Лошади, от шеи до копыт накрытые красивыми попонами из утепленной шотландки, были выписаны так живо, что почти физически ощущалось, как они дрожат от холода, стоя на снегу. Я до сих пор помню названия: «Тяжелый бой капитана Асакавы», «Банзай, Япония! Победная песнь над Пхеньяном». А китайцы? Они изображались желтыми, скукоженными крысоподобными существами с косичками, узкими глазками-щелочками – и либо корчились от ужаса, либо простирались под сапогами солдат-триумфаторов. Японцы, великолепные в своих черных, как в прусской армии, мундирах, были куда выше, чем эти дохлые китайские крысы. И выглядели почти как европейцы. В то время это не казалось мне чем-то особенно странным. Но, могу сказать, и особой гордостью меня не наполняло. Я не переставал удивляться, отчего победа над такими жалкими врагами подается как величайшая доблесть.
Эти картинки были для меня первым проблеском большого мира, находившегося так далеко от нашей деревушки под Аомори. Но не они зародили во мне мечту оставить насиженное место. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, эти мечты были вскормлены моей тягой к искусству. Я всегда представлял себя художником в душе, человеком театра. Это началось в самом раннем возрасте. Хотя у нас не было особой возможности посетить что-нибудь грандиозное, вроде представления театра кабуки. Для этого пришлось бы поехать аж в Аомори. Наша же деревня была слишком далекой даже для бродячих актеров, исполнявших более вульгарные и низкие виды драмы. Да и почти они нас своим коротким визитом – мой отец никогда не позволил бы мне даже приблизиться к подобным развлекальщикам. Все-таки он служил деревенским школьным учителем, очень гордился своей респектабельностью и считал, что приличные люди не должны смотреть на представления всякой швали.
В тех местах, где я рос, все развлечения представлял один-единственный человек – почтенный господин Тэцудз о Ямадз а ки, торговец сладостями и хозяин «бумажного театра». Обычно он приезжал по праздникам на старом велосипеде марки «Фудзи» и привозил с собой деревянную штуковину, напоминавшую портативный набор ящичков, в которых хранились коробка с конфетами, бумажный экран и пачка картинок, которые он, вынимая одну за одной, проносил перед экраном, одновременно подражая голосам персонажей, на этих картинках изображенных. Поскольку зимой нашу деревню заносит снегом по самые крыши, добраться к нам господин Ямадзаки мог только весной и летом. О том, что он на подходе, мы узнавали по клацанью его деревянных сандалий – он звонко стучал одной о другую, объявляя о своем прибытии. Обычно перед началом представления он торговал конфетами. Счастливчикам, у которых были деньги на сладости, позволялось сесть напротив экрана. Мне такого счастья обычно не выпадало. Мой отец почти никогда открыто не запрещал мне посещать театр продавца сладостей, но очень не одобрял пустой траты денег. Да еще и заявлял, что эти конфеты негигиеничны. Возможно, он был прав, но совсем не конфеты притягивали меня туда.
Внешне господин Ямадзаки не представлял ничего особенного: тощий, в очках, с несколькими прядями густо напомаженных волос, прилипших к сияющей лысине. Истории он всегда рассказывал одни и те же, но оставлял себе простор для импровизации. Когда он подражал фальцетом голосу прекрасной женщины, вы были почти уверены, что этот старый тощий торговец сластями каким-то чудом превращался в ослепительную красавицу. Когда же та вдруг превращалась в привидение, которое в конце истории кралось, как злобный лис, его способность к перевоплощениям в животных-оборотней заставляла нас обливаться холодным потом от страха. Звуковые эффекты для него были так же важны, как и мрачные картинки с храбрыми мальчиками-героями и демонами-лисами. Особенно хорошо ему давались такие драматические эффекты, как раскаты грома, клацанье деревянных сандалий и скрежет самурайских мечей. И все же коронным номером – и самым популярным у нас, самых преданных его поклонников, которые ждали этого номера с упорством истинных ценителей-театралов, – было необычайно трубное пуканье, которое издавал чванливый помещик из особенно затасканной сказки «Принцесса-змея». Он выдавал этот звук, будто живой тромбон, казалось, аж несколько минут без перерыва. Его лицо все сильнее краснело, вены вздувались на лбу – сейчас лопнет. Мы бились в экстазе, не важно, в который уж раз смотрели это бесподобное шоу. Но затем голова его сдувалась, словно проткнутый воздушный шарик, лицо принимало нормальную форму, и он прекращал представление, хотя до финала сказки было еще далеко. Он упаковывал картинки, складывал самодельную сцену и аккуратно укладывал все на старенький велосипед марки «Фудзи».
– Еще, еще! – кричали мы. Но безрезультатно. И должны были терпеливо ждать следующего раза, когда по деревне вновь разнесется стук его деревянных сандалий.
С тех пор мне довелось увидеть много замечательных представлений, в которых участвовали более известные артисты, чем этот скромный продавец сладостей, но первые впечатления дороже золота. Ничто не может сравниться с волшебным очарованием представлений бумажного театра господина Ямадзаки. Я терялся в его историях, мир которых был куда привлекательней, чем тоскливая ежедневность нашей деревни, и не просто привлекательней, но и гораздо реальней. Как вы обижаетесь, когда вас будят посреди особенно красочного, яркого сна, так и я ненавидел, когда рассказы господина Ямадзаки заканчивались на половине. Я изнывал от желания увидеть, что дальше, хотя прекрасно знал каждый следующий эпизод.
У господина Ямадзаки не было ни одной причины обращать внимание на меня, угодливого, свихнувшегося на театре мальчишку, не купившего к тому же ни одной конфеты. Много дней я мотался за ним, как бездомный щенок, предлагая отчистить до блеска его велосипед, упрашивая его взять меня в ученики (как будто отец мог мне это позволить), наконец он соблаговолил со мной поговорить. Стоял жаркий полдень. Он сидел на корточках у обочины пыльной дороги, вытирал лоб хлопчатобумажным платком и прихлебывал из фляжки холодный ячменный чай. Щурясь от дыма сигареты, он спросил меня, кем я хочу быть, когда вырасту. Я ответил, что хочу быть таким, как он: путешествовать повсюду и показывать театральные представления. Я умолял его стать моим учителем. Он не стал смеяться или издеваться надо мной, только медленно покачал головой и сказал, что это очень тяжелая жизнь – быть актером. И он занимается этим только потому, что у него нет другого выбора. Но он видит, что я – умный мальчик. И что могу добиться большего. Да и вообще, не нужен ему ученик. Я, наверное, не смог скрыть своего разочарования, и, чтобы как-то утешить меня, он полез в мешок с конфетами, вытащил из него книгу с картинками и подарил мне.
Торговец сладостями и представить себе не мог, насколько дорог оказался для меня его подарок. Не побоюсь даже сказать – он реально изменил мою жизнь. Ибо так я познакомился с «Речными заводями» [6]6
«Речные заводи», классический китайский роман XIX в., автор Ши Найань; в нем рассказывается о подвигах и приключениях 108 «благородных разбойников» из лагеря Ляншаньбо в правление династии Сун.
[Закрыть]– моей любимейшей книгой всех времен, моей библией, чьи истории о китайских фехтовальщиках и знаменитых разбойниках в четырнадцатом веке разлетелись по всему свету, точно демоны; и я выучил их наизусть, чтобы повторять слово в слово. Я могу рассказать обо всех, о каждом из ста восьми героев: Ши Цзинь, воин с девятью драконами, выколотыми на спине, мот и силач Янь Цин, Го Шэн – вечный соперник Жэнь Гуя, и так далее, и так далее. Эти бессмертные воины, сражавшиеся в болотах Центрального Китая, так отличались от скрюченных желтых уродцев на ксилографиях моего отца, что казались существами другой природы. Гигантами, а не жалкими карликами. У них был стиль, у этих борцов за честь и закон, и они были свободны. Но, пожалуй, главное, что поражало, – это их поистине безграничные возможности. Герои «Речных заводей» могли существовать только на просторах Китая. В сравнении с ними японские солдаты выглядели деревенщиной с мелкими амбициями, теснящейся на островках своей маленькой страны.
Я перечитывал книгу снова и снова, пока бумага не истончилась настолько, что начала рассыпаться. В одиночестве, на заднем дворе нашего дома, я размахивал бамбуковым мечом в воображаемых битвах со злыми правителями, становясь в позиции, которые я выучил по картинкам из книги, исполняя роль Ши Цзина с его девятью драконами или Долгожданного Дождя Сун Цзяна, угрюмого разбойника с глазами феникса. Мы, японцы, высоко ценим преданность и честь, но эти достоинства мы заимствовали у древних китайцев. Даже ребенком, читая «Речные заводи», я уже интересовался судьбой этой великой нации. Как могло случиться, что ее народ пал так низко? В поисках ответа я не придумал ничего лучше, чем спросить об этом у отца, но он не испытывал к «китаезам» ничего, кроме презрения. Тогда я задал вопрос господину Ямадзаки, который наклонил голову и вздохнул. «Не разбираюсь я в таких сложных вещах», – сказал он и посоветовал мне упорно учиться, чтобы в один прекрасный день узнать ответы на все вопросы. Но хотя он и не смог просветить меня относительно печальной судьбы Китая, он освободил для меня место в первом ряду, прямо напротив экрана, прислоненного к его велосипеду, несмотря на то что я никогда не купил у него ни одной конфеты.
2
Впервые я увиделвыступление Ёсико Ямагути в великом городе Мукдене [7]7
Маньчжурское название Шэньяна – крупнейшего города в северо-восточной части Китая. Один из крупнейших городов Китая, расположенных к северу от Великой Китайской стены. Население – около 7 млн 400 тыс. человек, площадь – 7400 км 2.
[Закрыть]в октябре 1933-го. Мукден, который мы называли Хотэн, был самым деловым и космополитичным городом в Маньчжурии, даже более современным, чем Токио в период своего расцвета, до того как американские В-29 превратили нашу столицу в тлеющие руины.
Глубочайшее впечатление произвели на меня ее глаза. Для восточной женщины они были необычайно большими. Она не выглядела ни типичной японкой, ни китаянкой. Было в ней что-то от Великого шелкового пути, от караванов и рынков специй и пряностей Самарканда. Никто не догадывался, что это была обычная японка, которая родилась в Маньчжурии.
До появления нас, японцев, Маньчжурия была диким, пугающим, никому не принадлежащим местом, опасно расположенным в пограничных районах России и Китая. Некогда она была престолом императоров великой династии Цин, но затем в Маньчжурии наступили тяжелые времена, когда императоры перебрались на юг, в Пекин. Военные правители творили что хотели, опустошали и грабили громадную страну, натравливая армии своих разбойников друг на друга, причиняя ужасные страдания обнищавшим людям, которым выпало несчастье оказаться на их пути. Женщин угоняли в рабство, а мужчин убивали или принуждали присоединиться к разбойникам, которые проносились по деревням, как стаи саранчи. Сотни лет бедный, многострадальный народ Маньчжурии питался горькой полынью. А те немногие храбрецы, которые пытались сопротивляться, расставались с жизнью, подвешенные на деревьях вниз головой, с вывалившимися наружу кишками, как чудовищное напоминание всем, у кого только могли появиться подобные мысли. Порядок был установлен, когда под нашей опекой было создано великое государство Маньчжоу-го. [8]8
Государство, образованное японской военной администрацией на оккупированной территории Маньчжурии. Существовало с 1 марта 1932-го по 19 августа 1945 г.
[Закрыть]
Маньчжоу-го стало настоящей азиатской империей, управлявшейся последним потомком династии Цин – императором Пу И. Но оно было также и государством космополитическим, в котором все народы были перемешаны и ко всем относились одинаково. Каждый из пяти главных народов: японцев, маньчжур, китайцев, корейцев и монголов – имел свой цвет на национальном флаге: горчично-желтом с красной, синей, белой и черной полосами. Были еще русские в Харбине, Даляне, Мукдене, и евреи, и много других иностранцев со всех концов земли. Когда я прибывал в Далянь, порт на южной оконечности Маньчжурии, я чувствовал себя так, словно вступал в громадный бескрайний мир. Даже Токио казался тесным и провинциальным по сравнению с ним. Космополитизм здесь просто в воздухе витал. Помимо запахов угольной пыли и растительного масла, можно было уловить острую смесь из запахов маринованной корейской капусты, горячих русских пирогов, жаренной на углях маньчжурской баранины, японского супа-мисо и жареных пекинских пельменей.
А женщины! Женщины Мукдена были самыми прекрасными женщинами к северу от Шанхая: китайские девушки, гибкие и проворные, как угри, в своих обтягивающих шанхайских платьях-ципао; японские красавицы в кимоно, похожие на разноцветных пташек на насесте, ехали на рикшах в кондитерские рядом с Банком Иокогамы; окутанные запахами духов русские и европейские леди, пьющие чай в «Смирнофф», в шляпах с перьями и мехах. Поистине Мукден был райским местом для молодого волка, ведущего беспутную жизнь. А поскольку парнем я был крепким, всегда был хорошо одет, причин жаловаться на отсутствие женского внимания у меня не было.
Каждую осень с начала 1920-х годов мадам Игнатьева, которая однажды пела «Мадам Баттерфляй» в Санкт-Петербурге для царя и царицы, устраивала концерт в танцевальном зале отеля «Ямато» – величественного, но довольно малоуютного заведения, которое своими башенками и зубчатыми стенами больше напоминало крепость, чем гостиницу. Мадам Игнатьева и ее муж, аристократ-белогвардеец, бежали от коммунистов в 1917-м и с тех пор жили в Мукдене. Граф, всегда в безупречной офицерской форме старого образца, с Георгиевским крестом, которым царь наградил его лично, содержал пансион рядом с железнодорожным вокзалом.
Вершиной исполнительского мастерства мадам Игнатьевой была «Хабанера» из «Кармен». Она исполняла также арии из «Тоски» и «Мадам Баттерфляй», но именно Кармен, по мнению любителей музыки, ей удавалась лучше всего. Зал был заполнен до отказа. Хрустальные люстры бросали искристый свет на позолоченные стулья и медали на долгих рядах офицерских мундиров. Все, кто имел хоть какое-нибудь влияние в Мукдене, были здесь, а некоторые приехали даже из Синьцзина, [9]9
Ныне – китайский город Чанчунь.
[Закрыть]столицы Маньчжоу-го: генерал Итагаки из Квантунской армии – основной группировки наших войск в Китае – сидел в первом ряду с Хасимото Тораноскэ, главным синтоистским священником Маньчжоу-го, и капитаном Масахико Амакасу, председателем Японо-маньчжурского общества дружбы. Я заметил еще генерала Ли, председателя совета директоров Шэньяньского банка, который, с усами кайзера Вильгельма, выглядел очень воинственно, господина Абрахама Кауфмана, главу еврейской общины, сидевшего в последнем ряду, чтобы не попадаться на глаза Константину Родзаевскому, хулигану с дурными манерами, который все время надоедал нам своими идеями «почистить» евреев.
И вот в лучах софитов появилась роскошная мадам Игнатьева собственной персоной, в длинном черном платье, с черной кружевной шалью, волочившейся за ней по сцене. Она улыбалась, продвигаясь на середину сцены – в руке красная роза, подбородок вздернут – и отвешивая, в ответ на аплодисменты, короткие вежливые поклоны на все стороны, будто надменный голубь. «Продвигалась» – слово не самое подходящее, она скорее сладострастно плыла, как обычно делают крупные европейские женщины. А сразу за ней шла ее лучшая ученица – милая японская девушка в сиреневом кимоно с длинными рукавами, на которых были вышиты белые аисты. Она была похожа на нежный цветок, который вот-вот должен был распуститься, излучала детскую невинность и в то же время некую экзотическую элегантность, которая у японских девушек, как правило, не встречается. Возможно, она чуть нервничала, ибо, когда мадам Игнатьева уже была готова занять свое место в центре сцены, японка наступила на конец длинной черной шали, остановив учительницу в ее «продвижении». На мгновение улыбка исчезла с лица мадам Игнатьевой, но она тут же взяла себя в руки – и зазвучала «Хабанера». Черные глаза девушки сделались еще больше, словно она молила всех нас о прощении, и ее личико трогательно вспыхнуло.
Именно эти широко раскрытые глаза, как я уже сказал, произвели на меня неизгладимое впечатление. Они не были прекрасными в обычном смысле слова, и были даже чуть слишком крупны для такого личика – почти как у рыбки, – но тем не менее выражали восхитительную ранимость. Когда она, вслед за выступлением мадам Игнатьевой, начала свою первую песню, от ее волнения не осталось и следа. Я помню «Лунный свет над руинами замка», японскую песню, от которой мы все зарыдали; потом «Ich liebe Dich» Бетховена, потом китайскую народную песню, потом русскую народную песню, названия которой я не запомнил, и, наконец, очаровательную «Серенаду» Шуберта. Было совершенно очевидно, что даже в столь нежном возрасте Ёсико не была одной из тех провинциальных певчих пташек, которые превращают концерты в Японии в такое мучение. Ее владение иностранными языками и способность передавать национальный стиль исполнения были исключительными. Только на космополитической земле Маньчжоу-го могло появиться такое сокровище. Знаю, легко говорить задним числом, но уже тогда я понял, что Ёсико, в нежном возрасте тринадцати лет, была на самом деле чем-то очень необычным.
Ёсико родилась в 1920-м. Отец ее был кем-то вроде искателя приключений, таких у нас называют «тайрику-ронин» – скиталец по чужим землям, синофил, бродивший по сопкам Маньчжурии в поисках удачи. Которая, увы, оставалась неуловимой. Большей частью он жил случайными доходами, обучая китайскому языку японских служащих Южноманьчжурской железнодорожной компании. Случайными – не потому, что очень уж мало платили, а скорее из-за слабости к азартным играм. Одним из его учеников какое-то время был и я. До того как ее удочерил китайский генерал, Ёсико вела обычную жизнь японского ребенка с континента, свободно общалась с детьми других национальностей, несмотря на то что получила строгое образование, как и следовало молодой японке. Ёсико родилась за десять лет до рождения Маньчжоу-го. А точнее, за одиннадцать лет до его зачатия. Которое произошло очень громко 13 сентября 1931 года, когда в пригороде Мукдена на железнодорожных путях взорвалась бомба. Выяснить, кто виноват, так и не удалось. Но считается, именно из-за того, что Китай с Японией перепихнулись тогда разок, и родилось Маньчжоу-го. Наша Квантунская армия быстро захватила города вдоль Южноманьчжурской железной дороги, и вся эта территория стала нашей – поначалу только в дневное время, ибо ночью передвигаться по железной дороге было слишком опасно из-за местных бандитов. Но не прошло и года, как прежнее Маньчжурское царство, прогнившее, точно старый заброшенный особняк, и ставшее пристанищем самых мерзких бандитов в Китае, превратилось в современное государство.
Впрочем, поскольку я романтик, мне нравится другая дата рождения Маньчжоу-го. На рассвете первого марта 1934 года Пу И, последний потомок маньчжурской династии, облаченный в желтые шелковые одеяния своих царственных предков, в саду за своим дворцом в Синьцзине произнес молитву солнцу – и официально переродился в императора Маньчжоу-го. По окончании «солнечной аудиенции» он вышел к людям – и новое государство стало империей. Мне, разумеется, не случилось присутствовать на этой церемонии, ибо исполнить ее он должен был в одиночестве. Но я никогда не забуду, как император Пу И выглядел в тот же день, но чуть позже: в изумительном двубортном кителе с золотыми эполетами на худых священных плечах и золотом шлеме с красноватыми страусиными перьями, развевающимися на ветру. Оркестр играл гимн Маньчжоу-го, а император строевым шагом, не сгибая колен, ступал к своему трону в сопровождении принца Титибу, трех офицеров Квантунской армии и десяти маньчжурских пажей из местного приюта. Брюки были ему длинны, очкастое лицо почти скрыто низко нахлобученным шлемом с оперением, а маршевый шаг делал его похожим на марионетку. Сказать честно, комедийности на этой церемонии хватало. Как, разумеется, и ощущения величия происходящего. Для того чтобы лелеять свои мечты, людям нужны очки, дайте им только что-нибудь, во что они могли бы поверить, воспитывайте в них чувство принадлежности к происходящему. Китайцы и маньчжуры, деморализованные более чем столетием анархии и западного господства, нуждались в этом больше, чем кто-либо. И хотя они пытаются забыть об этом сейчас, мы, японцы, дали им это, причем подарили даже больше, чем у них было: великую и благородную цель, ради которой можно жить и умереть.
То было хорошее время жизни для многих японцев, мечтавших о величии Азии и Маньчжоу-го. И лично для меня оно было лучшим. После многолетних мытарств на самых разных работах: репетитор в Даляне, испытатель в Маньчжурской железнодорожной компании (именно тогда я учил китайский), независимый консультант по внутренним вопросам в военной полиции Мукдена – я наконец-то нашел для себя занятие по душе. В Японии, скажу честно, я был неудачником. В качестве студента-экономиста не состоялся – вылетел из вуза, поскольку почти не видел дневного света. Моя жизнь проходила в кинозалах Уэно и Асакусы. Туда же уходили и все мои деньги. Стены моей комнаты были обклеены портретами кинозвезд, которые я ночами крал из кинотеатров. Я страстно мечтал работать в кино – хотя бы простым ассистентом режиссера. Но в Японии нужны связи, а их у меня не было. Ну, и кто я был? Неизвестный мечтатель из деревни в префектуре Аомори.
Однако в Мукдене – под покровительством Квантунской армии – я, Дайскэ Сато, смог открыть свою собственную фирму: «Бюро Сато: специальные услуги для новой азиатской культуры». Услуги, которые я оказывал, были несколько своеобразны и требовали соблюдения определенной осторожности. Можно сказать, что моим бизнесом была информация, поиск сведений, иногда деликатного политического свойства. Для этого нужно было обладать определенным актерским талантом. Дабы слиться с местным окружением, я должен был говорить и вести себя как местный. К счастью, Бог наградил меня хорошим слухом. Друзья иногда шутили, что я не человек, а попугай. Когда я рядом с заикой – я заикаюсь; если у меня прорезается сильный кансайский акцент – я говорю, как торговец из Осаки. Поэтому китайский дался мне относительно легко, к удивлению других японцев. Для моих соотечественников я оставался просто Дайскэ Сато, который иногда ходит в европейском костюме, иногда в японском кимоно, а иногда в форме Квантунской армии. С маньчжурами и китайцами я назывался Ван Тай и носил самую лучшую китайскую одежду, сшитую из тончайшего шелка самым уважаемым портным в Шанхае. Политика была частью моей работы, но настоящим моим полем деятельности была культура, а самой приятной задачей – поиск молодых талантов для маньчжурских радио– и кинокомпаний. На этом-то поприще здесь мои скромные способности и нашли свое применение.
Проблема с развлечениями в Маньчжоу-го была не в отсутствии денег или доброй воли. И киностудии, и радиостанции финансировались японским правительством, которое не жалело средств на закупку лучшего оборудования, какое только можно найти, из Японии, Германии и даже Соединенных Штатов. Киностудии у Маньчжурской киноассоциации были великолепные. И хотя солидная часть этих денег (как и большинство местных актрис) прилипала к рукам офицеров Квантунской армии, их все равно хватало, чтобы снимать высококлассные фильмы. Мукденская радиовещательная корпорация также была абсолютно современной, с новейшими звуконепроницаемыми студиями, а в некоторых легко поместился бы целый симфонический оркестр. Артисты, приезжавшие из Японии, не могли поверить своим глазам – они никогда не видели ничего подобного. Люди иногда забывают об этом, когда критикуют нас за то, что случилось впоследствии. Но факт остается фактом: через Маньчжоу-го мы, японцы, вытащили Азию в современный мир. Именно этим предприятием, которое часто трактуют превратно, мы можем гордиться и сегодня.
Чтобы поднять боевой дух местного населения и заставить его понять, за что мы боремся, привычных лозунгов о японо-маньчжурской дружбе было недостаточно. Не привлекали аборигенов и местные фильмы о том, как японские первопроходцы строят школы и проектируют мосты – глядя на это кино, они скучали до зевоты. Стоит признать, в том нет их вины. Мне тоже от него было скучно. Ум маньчжуров – стоит признать, слишком развитый для нашей обычной пропаганды – был в то же время почти детским с его страстной тягой к развлечениям. Этих людей нужно было просвещать и учить, что вполне естественно, но также и развлекать. Мы хотели снимать хорошие фильмы; нет, даже не хорошие, а самые лучшие, даже лучше тех, что снимали в Токио, – фильмы, в которых воплотился бы дух Новой Азии. А это невозможно сделать без лучших местных актеров, которые пели бы и играли на китайском языке, понимали нашу идею – и при этом достаточно хорошо говорили по-японски, чтобы общаться с режиссерами и операторами, которые обычно приезжали к нам с родины. Именно я должен был искать и находить этих людей, именно это было моей головной болью, которую, правда, частенько облегчала компания очаровательных маньчжурских актрис, чей талант был достоин уважения, хотя и не всегда соответствовал требованиям Мукденской радиовещательной корпорации.








