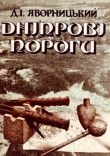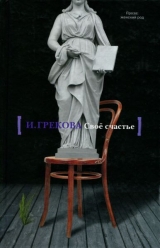
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– От Феликса Толбина.
– Вероятно, правда. Он обычно сообщает достоверные факты.
– Кстати, какого вы мнения о Феликсе? Давайте уж и его оживим.
– Феликса я знаю лучше. В целом я о нем высокого мнения. Исполнителен, вежлив, точен. Правильная речь, в наше время это редко встречается, особенно среди молодежи.
– А как по-вашему, Феликс красив?
– Ну и вопрос! Об этом вам судить, вы женщина.
– Как женщина я на него не резонирую. Не мой диакон волн. Объективно красив, но это красота не нашего времени. Щеки розовые, зубы белые-белые, волосы русые-русые. Как будто его старинный художник писал за деньги, желая польстить.
– Это вы верно подметили.
– А что? Я не такая глупая, как кажусь.
– Вы мне никогда не казались глупой.
– Просто вы меня не замечали. Теперь я у вас отметилась. Ладно, хватит оживлять Феликса. Пойдем дальше. Илья Коринец?
– Полная противоположность. Феликс гладок, обходителен. Илья угловат, строптив, весь в колючках. Человеческий кактус.
– А за что он не любит Фабрицкого?
– Ему кажется, что Фабрицкий недостаточно занят его судьбой. И зря: Фабрицкий занят его судьбой ровно настолько, насколько нужно. Может быть, есть элемент зависти: Илья считает себя неудачником, а Фабрицкий – олицетворение удачи.
– А вы знаете, что Илья безнадежно влюблен в дочку Фабрицкого, Машу? Вчера он узнал, что Маша выходит замуж. Немудрено, что он психует. Может быть, его раздражение против Фабрицкого с этим связано.
– Возможно. Я не знал, а то не был бы так бестактен. А что за девушка Маша?
– Вы, оказывается, способны на человеческие вопросы. Маша – прелесть. Александр Маркович в девичьем варианте. Очень спортивная, как и вся семья. Все четверо – теннисисты. И он, и Галина Львовна, и Гоша, и Маша. Высокой прыгучести. Я их видела на теннисном корте. Четыре крылатых Пегаса.
– Оригинальное сравнение.
– Это не мое. Так зовут машину Фабрицкого: «Крылатый Пегас». Красиво?
– Несколько избыточно. Пегас крылат по определению.
– Это какой-то греческий бог?
– Не бог, а конь. Крылатый конь, на котором в приступе вдохновения ездили поэты. Что вас так насмешило?
– Представила себе нашего Шевчука верхом на Пегасе. Пузом вперед, ноги в стороны… Он недавно мне подарил свои стихи. Размножены на ротапринте. По-моему, ничего. Вам не предлагал?
– Пока нет. Бог миловал.
– Это он вас боится. А всем другим свои стихи навязывает. Уже никто не берет под разными предлогами, а я взяла. Растрогался, руку поцеловал. Глаза такие грустные… Жалко его. Почему он такой… мученик самого себя?
– Судьба незаурядной личности. У него тяга к универсализму приняла отчасти карикатурные формы. Сама по себе эта тяга прогрессивна… Впрочем, нечто подобное я уже говорил, и не при вас ли? Прошу прощения. Старый Мазай разболтался в сарае.
– Игорь Константинович, не обижайтесь, но я ваши разговоры на умные темы не очень люблю. Вы гораздо лучше дома, с котятами, с Марьей Васильевной. В вас начинает просвечивать что-то человеческое.
– Польщен. Чем бы мне вас развлечь, если не разговорами? Музыку любите?
– Обожаю.
– Хотите, угощу вас синтетической музыкой?
– А что это такое?
– Музыка, сочиненная вычислительной машиной. Это мое увлечение, как теперь говорят, хобби. Терпеть не могу этого слова. Если уж на то пошло, то работа – мое хобби.
– А как же она ее сочиняет?
– По моей программе. Дело это не новое, опыты уже были, новое в моей программе то, что машине можно задать любой стиль. Например, русской народной музыки или же церковных песнопений. А можно приказать ей сочинять в манере любого композитора: Чайковского, Вагнера, Моцарта. Хотите, поставлю вам одну и ту же мелодию, обработанную в разных стилях? Мелодия самая простая, всем известная с детства: «Чижик-пыжик, где ты был?»
Полынин включил магнитофон. Зазвучала музыка. Марья Васильевна тревожно завозилась, несколько раз ударила хвостом по подстилке.
– На кого из композиторов это похоже? – спросил Полынин.
– На Пахмутову? – неуверенно сказала Даная.
– Почти. Я пытался здесь подражать стилю Бетховена, видимо не очень удачно. Хотите еще одну?
– Давайте. Только я ничего не понимаю в стилях.
Опять музыка. При первых же звуках Марья Васильевна насторожилась, подняла шерсть дыбом и закричала дурным голосом. Котята проснулись и запищали.
– Пожалейте кормящую мать, – сказала Даная. – Это под кого было?
– Под Баха. Талантливая кошка, тонко разбирается в музыке. Ставишь ей Чайковского – лежит спокойно, Бетховена – начинает бить хвостом, Баха – лезет на стенку. Она у меня индикатор правильности программы. Хотите еще один образец: стиль Шостаковича? У Марьи Васильевны он почти на уровне Баха.
– Нет, спасибо, – испугалась Даная, – знаете, я ведь соврала, что обожаю музыку. Люблю только песни. От классической у меня тоска.
– Что ж, дело вкуса. Чем бы вас еще развлечь? Показать старинные книги? У меня неплохая коллекция.
– Нет уж, пойду, – вздохнула Даная. – Погостила, и хватит. Дайте мне моего Чёртушку.
Она одевалась перед зеркалом, Полынин стоял рядом, держа корзинку, перевязанную платком, в которой возился и попискивал Чёртушка. Даная запахнула пальто, поправила волосы, брови и вдруг сказала:
– Знаете, я очень одинока. А вы?
– Уже привык.
– Может быть, вы все-таки могли бы в меня влюбиться?
– Исключено. Я, знаете, туп на любовь.
– Это я сдуру сказала. Считайте вопрос снятым. И вообще, я люблю одного человека, но без взаимности. Сказать, кого?
– Не надо.
– Ну, давайте корзинку. Спасибо за все. За чай, за котенка, за музыку. Будьте здоровы!
– Я провожу вас.
– Не надо. Ушла.
18. Разговор в лаборатории
– Магдалина…
– Что?
– Ничего. Просто мне нравится звук твоего имени.
– А мне не нравится. Родители, не подумав, назвали какой-то библейской грешницей.
– Не библейской, а евангельской.
– Все равно. До грешницы я не дотягиваю.
– И все-таки: Магдалина, Магдалина… Знаешь, на кого ты похожа с этой прической? На юношу с какого-то портрета эпохи Возрождения или Средних веков. Юношу в черном бархатном колете…
– Ростом мала.
– Это для нашего времени ты мала ростом. С тех пор человечество выросло. Знаешь, какие были тогдашние богатыри? По нашим стандартам – мелкота. Вес мухи. Я недавно в музее примерял мысленно рыцарские доспехи – паты, кольчугу, панцирь. Смешно: на половину меня не хватило бы. Так что когда мы читаем: «Богатыри в стальных доспехах…»
– Стальные души у них были. А где ваши стальные души, сегодняшние мужчины?
– Мы уступили их вам, женщинам.
– И напрасно. Сохранили бы свое при себе.
– Вы же не сохранили женственность.
– Некоторые сохранили. Я – нет.
– И все-таки: Магдалина, Магдалина… Не имя, а музыка. Магдалина, я тебя люблю. Известно тебе это?
– Допускаю. Не уверена.
– И ты это говоришь после… после того?
– Я уже говорила тебе: «то» было ошибкой. Осторожнее, у меня паяльник.
– Не буду. Но почему ошибкой?
– В таких вещах нет логики, нет «почему». Что-то такое не загорелось. Если тебе надо кого-то винить, то вини меня.
– Я хотел бы все-таки знать: чем я тебе не угодил? Чем я хуже других? Хотя это глупый вопрос. Давно знаю, что хуже. Во всем, всегда.
– Не кричи. Ничем ты не хуже других. Между прочим, «других» я не люблю тоже.
– Хорошее утешение. Их много было?
– О нет.
– Кто же именно? Не Фабрицкий ли?
– Таких вопросов ты мне задавать не вправе.
– Не буду. Прости, не сердись.
– Я уже простила.
– Люблю твой гнев: вспыхивает и тут же гаснет.
– Люби мой гнев, это можно.
– Если бы я был художником, я бы написал твой портрет: «Девушка с паяльником». Знаешь, сейчас луч солнца сзади упал на твое ухо, оно засветилось розовым, и я впервые понял выражение «ушная раковина».
– Обыкновенное ухо.
– Меня не покидает мысль, что, если бы я был кандидатом, ты бы иначе ко мне относилась.
– Глупо до предела. Какое это имеет отношение к ученой степени?
– Тебе хорошо, ты уже защитилась.
– Защитишься и ты, если для тебя это так важно. Работать ты умеешь. Если надо, я охотно тебе помогу.
– Не надо. Женщина в стальных доспехах.
19. Овощная база
– Вы знаете, – сказал Фабрицкий, – что нам сегодня предстоит. Обсуждать вопрос не будем, теорию я и без вас знаю. Перед нами конкретная ситуация: предложено проработать день на овощебазе. И мы выходим. Вопросы есть?
– Все ли выходим, и если нет, то почему? – спросил Коринец.
– Отвечаю: Максим Петрович в командировке.
– Как всегда, – подсказал Коринец.
– Как почти всегда. Анну Кирилловну как женщину, скажем деликатно, не самого юного возраста я освободил своей властью.
– А Шевчук почему не явился? – спросила Даная.
– Он у нас на полставки.
– Ну и проработал бы полдня. Без него скучно.
В этот самый момент явился Шевчук. Маслянистый, сияющий, с сигаретой на нижней губе. Все засмеялись.
– В чем дело? Я опоздал?
– Мы как раз обсуждали вопрос, почему вы не принимаете участия в нашем культпоходе, – ответил Фабрицкий. – Некоторые дамы выражали сожаление.
– А я, как видите, явился. И полный трудового энтузиазма. Хочу воспеть поход на базу в стихах. Уже придумал первые строки: «Без этой базы я б загнуться рад, обрыдло было прозябать без базы…»
– Не надо! – застонали кругом.
– Нет, вы вслушайтесь, какие аллитерации: «Прозябать без базы»! Инструментовка на «б» и на «з»!
– Обойдемся без инструментовки, – решительно сказал Фабрицкий.
– А знаете, тут что-то есть, – вмешался Полынин. – Этот метаславянский язык: «обрыдло было». Продолжайте, Даниил Романович.
– Пока есть только четвертая строка: «Как мильонер, перебирать алмазы». Немного подумаю, сочиню и третью…
– Думать не надо, вот она: «Бегу бегом, не требуя наград». Отшлифуйте и вставьте.
– «Бегу бегом, не требуя наград, как мильонер, перебирать алмазы…» – задумчиво повторил Шевчук. – Нет, не то. Вы не уловили духа торжественной медитативности произведения…
Со всех сторон посыпались варианты третьей строки. Шевчук отверг все: «Нет, товарищи, оставьте меня наедине с моей музой».
– Ну, ладно, – прервал стихотворчество Фабрицкий, – перейдем от художественной части к деловой. Объявляю поход открытым.
Двинулись. Впереди оперным шагом шел Фабрицкий в лыжном костюме и вязаной шапочке. Обтянутые икры играли, красный детский помпон болтался на шнурке с боку на бок. Рядом с Фабрицким под пару ему шагала Лора в ярком свитере, в дорогих джинсах. Ее светлые волосы стелились по ветру. По сравнению с этой нарядной парой все остальные выглядели люмпен-пролетариями: старые брюки, куртки, раздрызганные сапоги. Малых вел за руки двух своих близнецов, Рому и Диму. Мальчики катились, как послушные шарики.
На овощебазе пришедших встретила суровая толстая женщина в ватном комбинезоне. Она пересчитала рабочую силу. Дойдя до Малыха с близнецами, спросила:
– А эту мелкоту чего привели?
– Могу уйти, – сердито ответил Малых. – Детский сад на карантине, мать больна, я – кормящий отец. Протестуете – уйду.
– Да ладно уж, пускай будут, только без хулиганства.
Испуганные мальчики сопели носами. Они были в точности одинаковые: черноглазые, крепенькие, мохнатенькие.
Женщина распоряжалась:
– Этих на лук, тех на морковку, а этого, потяжельше, капусту топтать, – указала она на Шевчука. – Сапоги выдам под залог паспорта.
– Паспорта с собой нет. Членский билет Дома ученых годится?
– С фотом? Давай сюда.
Женщина взяла билет, удалилась в кулуары и вынесла огромные, крепко пахнущие резиновые сапоги.
– По полу не топай, только по капусте. Понятно? Остальных – лук, морковку перебирать, гнилье сюда, в бочку. Сидеть на ящиках, только аккуратно, они у нас квелые.
Лора опасливо оглядела ящик, вынула газету, разостлала. Женщина на нее накинулась:
– Разоделась, как на бал. Тоже мне работники! Сразу видно – НИИ. Прошлый раз тоже с ниёв приходили, не столько наработали, сколько по карманам рассовали…
– Потрудитесь вести себя прилично! – сверкнул глазами Фабрицкий. – Как ваша фамилия?
Она не испугалась:
– Шевчук – мое фамилие.
Взрыв хохота, которого не могла понять распорядительница, ее ошеломил. Она только водила глазами. Даниил Романович милостиво улыбался. Кое-как распределив рабочую силу по участкам и отдав распоряжения, женщина удалилась, захватив с собой однофамильца, Фабрицкий открыл «дипломат» и раздал каждому по паре резиновых перчаток:
– Частная собственность на средства производства. Поскольку база ими не обеспечивает, взял эту функцию на себя. За прокат – десять копеек с пары. Кому дорого, могу уступить.
Сотрудники, смеясь, натянули перчатки, сели на ящики, взялись за работу. Рома и Дима, сидя на одном ящике, молча и напряженно толкались спинами.
– Какие воспитанные мальчики! – восхитилась Даная. – Их не слышно и не видно.
– Услышите и увидите, – мрачно предсказал Малых.
Овощи были в ужасном виде. Морковь еще туда-сюда, а лук наполовину сгнил. Облепленные слизью луковицы выскальзывали из пальцев.
– От этого запаха мне прямо дурно, – пожаловалась Лора. – Чувствую, что упаду в обморок.
– Обмороки отмерли еще в начале века с отменой корсетов, – сказал Полынин. – Когда женщины носили корсеты и туго шнуровались, обморок был нормальной физиологической реакцией на что угодно: на мышь, информацию, дурной запах. В наше время, когда женщины носят брюки, они по части обмороков уравнены с мужчинами. Обморок как у тех, так и у других – очень редкое явление.
– Когда на меня упал шкаф, – сказал Малых, – я был близок к обмороку.
– А как себя чувствовал шкаф? – спросил Толбин.
Смех. Нешатов сидел рядом с Ганом и заметил его крайнюю бледность. Покатый лоб покрылся каплями пота. Было видно, что «редкое явление» вот-вот произойдет…
– Игорь Константинович, – спросил Коринец, – вы, кажется, большой сторонник физической работы? Эта вам тоже нравится?
– Нет, эта мне в высшей степени отвратительна. И не из-за запаха, а потому что я вижу загубленный человеческий труд. Мне мучительно жаль всего, что у нас пропадает, гниет, расточается.
– Что же вы предлагаете? – спросил Толбин.
– К сожалению, спрашиваете меня вы, а не более ответственные лица. Но мне кажется, что средства есть. Все знают, какой плодотворной оказалась бионика, идея которой в том, что искусственная структура подражает живому организму. Своего рода «экономическая бионика» тоже могла бы быть полезной. Ведь в личном хозяйстве овощи не гниют? Надо бы что-то позаимствовать из этого опыта. Обходилось бы хранение несколько дороже, но зато не гибли бы те луковицы, которые мы теперь без всяких эмоций бросаем в бочку с отходами…
– Игорь Константинович, ваши конструктивные предложения мы охотно выслушаем на научном семинаре, – сказал Фабрицкий. – А пока что все разговоры о состоянии овощей запрещаю. Проще всего считать, что за гниль отвечаем не мы, а кто-то другой. Конечно, в принципе он должен отвечать за свой участок работы, а мы – за свой. Но на деле этот «он» попросту не существует. Никто не хочет отвечать за овощи, все за науку. Тому, кто первым заговорит о плохом состоянии овощей, предлагаю перевестись на должность директора базы. Посмотрим: будут ли у него гнить овощи?
– Ловок командовать, – сказал Нешатов Гану. – «Запрещаю» – и баста, – тяжелое раздражение против Фабрицкого ворочалось у него в душе. Раздражала лихая манера говорить, раздражал помпон.
– В принципе он прав, – устало ответил Ган. – Критиковать гнилые овощи слишком легко, чтобы этим стоило заниматься.
Бледность Гана становилась пугающей.
– Вам нужно выйти на воздух, – сказал Нешатов. – Вас-то зачем он сюда притащил?
– Как раз меня Александр Маркович хотел освободить. Я сам пошел. Не хочется еще в старики.
Тут из-за двери раздалось неистовое гиканье.
– Что там такое? – с любопытством спросил Фабрицкий. – Овощи взбесились?
Отворили тяжелую дверь и увидели картину: посреди большого чана в резиновых сапогах плясал по шинкованной капусте Шевчук. Из-под ног взлетали клочья капустного месива. В увлечении он азартно гикал. Рядом с чаном, подпершись рукой, стояла толстая хозяйка базы и приговаривала: «Вот мужик! Сила!»
– Я – Том – Сойер. Я – Том – Сойер! – орал Шевчук в такт прыжкам. – Я – крашу – забор! Все – вы – мне – завидуете! Кому – уступить – сапоги? Возьму – дешево!
– Я те дам уступать сапоги! – сказала женщина. – Добро казенное, я за него отвечаю.
Глядя на пляшущего Шевчука, всем и в самом деле захотелось попрыгать, но хозяйка была непреклонна:
– На него записаны, с него и сниму.
– Дивертисмент кончен, – сказал Фабрицкий, – предлагаю вернуться к рабочим местам.
– Где мальчики? – хватилась Даная. Отец был невозмутим:
– Никуда они не денутся. Где-нибудь здесь.
И в самом деле вскоре из глубины хранилища послышался рев. Рома и Дима, перемазанные с ног до головы, подрались из-за большой морковки, которую кто-то почти целую бросил в отходы.
– А вы говорили: не слышно и не видно, – философски сказал Малых. – Теперь и слышно, и видно.
Он отвел близнецов к водопроводной колонке и неумело, по-мужски, вымыл им лица и руки. Спорную морковку демонстративно выбросил:
– Ни тому, ни другому.
Крик мальчиков перешел на другую ноту. В нем слышались попранные права человека. Малых поднял обоих за шиворот, стукнул их друг о друга и усадил на ящик. Рома и Дима успокоились, как по команде, и снова начали толкаться спинами.
– Зря ты их сюда привел, – сказала Магда.
– Ничего, пусть познают жизнь во всех ее аспектах.
Чем дальше, тем меньше было овощей и больше гнили. Запах становился убийственным.
– Предлагаю спеть, – сказал Фабрицкий. – «Нам песня строить и жить помогает». Вы-то не знаете, а я помню, но сначала текст был другой: «Нам песня жить и любить помогает». Потом, из воспитательных соображений, «любить» заменили на «строить». Предлагаю вернуться к старому тексту. А ну-ка хором, раз, два…
Запели – кто в лес, кто по дрова. И только сильный и верный голос Данаи, отдельно от хора, вел мелодию. Нешатов настроился и с чем-то вроде благодарности в душе стал слушать только этот голос. Сам не поющий, он болезненно не выносил фальши. Обернулся на Магду: неужели поет? Нет, сидит с закрытым ртом, обчищает луковицу.
С песней и в самом деле пошло бодрее: скоро бочка с отходами наполнилась до краев.
– Обратимся к администрации, – сказал Фабрицкий. – Забыла она о нас, что ли?
Заглянули в соседнее помещение. Шевчука в чане с капустой не было. Они с администрацией сидели на ящике. Он ей читал стихи. Застигнутый на месте преступления, он с блудливой улыбкой встал.
– Вам что? – спросила администрация.
– Еще одну бочку для отходов.
– Нет у меня бочек. Вы, ребята, пошабашьте. Я вам все равно полный день начислила.
Уходили с базы все, кроме Шевчука, он еще оставался. Лора под шумок подошла к Фабрицкому.
– Александр Маркович, у меня к вам небольшое дело.
– Слушаю вас, – сияя зубами, ответил Фабрицкий.
– Вот, – сказала Лора и вынула из кармана джинсов конверт.
– Что это?
– Письмо. От меня. Вам.
– Сейчас прочесть или дома?
– Лучше сейчас.
Фабрицкий отошел с прохода, где уже теснились уходящие, и где-то над бочкой с солеными огурцами прочел письмо. Нечто вроде модернизированного письма Татьяны. «Я вас люблю, – начиналось оно, – люблю с первого взгляда». Следовало описание первой встречи, пробуждение чувства, говорилось о том, что разница лет ничего не значит. Цитировались какие-то модные шлягеры, вовсе Фабрицкому не известные. Он читал, мысленно отмечая орфографические ошибки, но все же тронутый. Его светло-коричневые глаза быстро бегали по строчкам. Завершалось письмо словами: «Кончаю, страшно перечесть. Надеюсь на ваше благородство, что все будет между нами и не дойдет до общественности. Навеки ваша Л.».
Дочитал, улыбнулся.
– Ну, что? – спросила она. Изогнутая светлая прядь легла на плечо вопросительным знаком.
– Дорогая Лора, вы позволите мне быть с вами совсем откровенным?
– Конечно, Александр Маркович.
– Милая девушка, вы мне очень нравитесь, но у меня правило: в своем отделе романов не заводить. Это был бы инцест.
– Что-о?
– Инцест – по-русски кровосмесительство. Понимаете?
Лора кивнула. Объяснение говорило ей так же мало, как сам термин.
– Если бы вы не работали в нашем отделе, я был бы к вашим услугам. На любые роли, от нежного папаши до пламенного любовника. Вы меня поняли?
– Поняла, – как-то по-овечьи ответила Лора.
– А за ваше чувство – спасибо.
– Отдайте письмо.
– Нет, я его сохраню. На память о вас.
Фабрицкий сделал ручкой приветственное движение и побежал догонять отдел. Лора машинально взяла из бочки соленый огурец и стала его грызть.
20. Дела домашние
Очередь стояла, трижды обернувшись вокруг себя. Первые кольца перебранивались с последними. У Анны Кирилловны были рубцы на руках от двух тяжелых сумок с продуктами, но она все-таки стала в очередь. Вася, мое солнышко! Чего не сделаешь для внука!
Если бы не сумки, стоять было бы даже отдыхом. Надо купить сумку-коляску, ставить ее на пол, и никакая очередь не страшна. Где такие сумки продаются? В Гостином, что ли? Отвлекшись от боли в руках, она размышляла. Ее тревожил Гоша Фабрицкий. Как с парнем быть? Совсем разболтался. Опять не исправил доказательство: все «некогда». Взгляд нездешний, блуждающий, ошалелый. Что они только делают со своими жизнями, эти молодые? Созревают рано, женятся, расходятся, шагают по судьбам детей, и все наобум, очертя голову. Немотивированные поступки, как говорит Полынин. Вернее, поступки с мотивами, неясными самому поступающему. В одной из пьес Островского пьяный купчина вопит: «Как ты можешь мою душу знать, когда я сам ее не знаю?» Так и у меня с Гошей. Как я могу его понять, когда он сам себя не понимает? А ведь знаю его с рождения.
Где, когда, почему превратился он из пухлого ангелочка в загадочного верзилу? Спрашиваю: любил ты Валю, первую жену? Говорит: любил. Почему же развелся? Она меня не устраивала. А Иру, вторую, любил? Тоже любил. И тоже не устраивала? Ага… Понимают ли они под словом «люблю» то же самое, что когда-то понимали мы? Волшебство, чудо, преображение мира? Вряд ли. Может быть, я так понимаю слово «люблю», потому что росла под влиянием великой русской литературы, а ему эту литературу насильно впихивали в школе? Наверно, Гоше нужен был бы другой руководитель, более жесткий, более требовательный, а главное, мужчина, и, чего греха таить, помоложе, более современного склада.
А с этими разводами – прямо катастрофа. Только услышишь – поженились, обрадуешься, а они уже развелись. Слава богу, хоть мои-то не разводятся, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Но у них своя жизнь, со своими колючками.
Внук Вася – чудесный, одно сияние. Разинутый в молчаливой улыбке розовый рот, два зуба снизу, два сверху. Эта четырехзубость у детей особенно трогательна. Дочка Катя когда-то была такая же. Теперь озабоченность, складочка у губ. Жизнь сложна, кому-то она легче дается, нам с Катей – трудно. Казалось бы, живем в достатке, денег хватает, но деньги не все, далеко не все.
Зять целый день на работе. Катя топчется по хозяйству, меня нет. Разумеется, ей хотелось бы тоже работать – не зря же кончала вуз, – а как быть с мальчиком? Ясли? Все знают, что это такое. Мать – на бюллетене, потом – на справке. Разве это работа?
Пожертвовать собой, уйти на пенсию, стать профессиональной бабушкой? Не могу. Пока не могу. Не созрела. Хотя Катя и мечтает об этом. Естественно, ей надо строить свою трудовую жизнь. Когда-то я строила свою, чего-то достигла. Спасибо за все, чего достигла, покойной свекрови Таисии Федоровне. Та была настоящей бабушкой. Скромная, незаметная, любящая. Женщина должна уметь быть незаметной.
Мне этому учиться уже поздно. Всю жизнь была на виду, подтверждала собой тезис о том, что нашей женщине все доступно… Всю жизнь сижу в президиуме, как в день Восьмого марта. Смотрите, чего достигла: и трое детей, и доктор наук… А я вижу возле себя скромный, седенький призрак Таисии Федоровны и думаю: вот кого надо бы прославлять. Тех, кто сумел от себя отказаться, вложить свою жизнь в других…
А ведь жили с ней не очень дружно. Не согласны были в вопросах воспитания. Я уходила на работу, дети – с ней, и я все-таки хотела, чтобы они воспитывались по-моему. Воспитания чужими руками не существует. Молода была, самонадеянна, мало что понимала. Теперь, состарившись, понимаю немногим больше. Где она, мудрость старости? Видно, мне ее уже не приобрести.
Сломать себя, все же уйти на пенсию? Нет, не могу. Из-за учеников. Только им, желторотым, я еще нужна. И то временно. Потом, если способные, перешагнут через меня, пойдут дальше.
Прежде, когда преподавала в вузе, учеников было больше, чувство своей полезности – больше. А что было делать? Отказали голосовые связки. Врачи запретили читать лекции. Сначала лечилась, надеялась, потом смирилась, привыкла, а в глубине души еще и сейчас не смирилась… Снится иногда большая аудитория, ряды скамей, молодые, озорные лица…
Очередь загудела. Какой-то парень в красной куртке, косая сажень в плечах, пробивался вперед, толкнул Анну Кирилловну в грудь. Она возмутилась:
– Как вы себя ведете? Лезете без очереди, да еще толкаетесь!
Он повернулся к ней с румяным презрением на толстогубом лице:
– А ты, бабка, чего выступаешь? Мы на работу идем. Неужто из-за вас, пенсионеров, в очереди стоять? Тебе в крематорий пора, а ты туда же, за апельсинами! Как правдашная!
«Приговорил, – думала Анна Кирилловна. – На пенсию, а там и в крематорий. Надо прислушиваться к голосу масс».
Парень, ругаясь, пробивался к прилавку.
– Не пускайте его!
– Заведующего позвать!
– Да пускай получит, – отозвалась дородная старая женщина. – Может, человеку в самом деле на работу пора.
– А нам не пора? – кричали возмущенные.
– А пенсионеры не люди? – пискнула игрушечная старушка в соломенной шляпке грибом.
Парень тем временем уже получил апельсины и протискивался назад. Очередь жила своей временно-коллективной, копотливой жизнью. Анна Кирилловна уже ни о чем не думала, только ждала.
Дождалась, взяла три кило и, переваливаясь, как утка, поспешила домой. Две сумки да еще бумажный мешок с апельсинами, прижатый к груди. Чувство победителя, взявшего ценный трофей…
Дома у Кати была большая стирка. Стиральная машина ржала и прыгала. Все-таки эта техника у нас не на высоте.
Внук Вася, стоя в манежике, улыбнулся, протянул руку и сказал: «Син». В его ярко-карих глазах, похожих на два каштана, засияли сразу два апельсина. Разумеется, он был мокрый.
– Сейчас, мое сокровище, сейчас, мое солнышко. Сменим ползунки, купаться будем. В тепленькой водичке. Беленькие станем, чистенькие…
Купать Васю было привилегией Анны Кирилловны, которую она никому не уступала. Любила всю церемонию: налить воды в ванночку, попробовать локтем, не горяча ли, наполнить кувшин водой попрохладнее, для ополаскивания, пустить вплавь игрушки… Что-то вечное, идущее от далеких предков, только те купали не в ванночке, а в корыте. Пожалуй, согласилась бы уйти на пенсию, если б отдали ей Васю совсем: делай что хочешь. Да ведь не отдадут.
Раздела мальчика, прижала его к себе, вдыхая чуть кисленький, молочный запах младенческой шеи. Вася немножко трусил и говорил «миля» (прошлый раз ему мыло попало в глаза). Эта прелестная, доверчивая трусость! Она посадила его в воду, он ударил по ней рукой и сказал: «Бах!»
– Слышишь, Катя, он сказал «бах»! – крикнула в кухню Анна Кирилловна. Но Катя из-за рычания техники ничего не услышала. – Он сказал «бах»! – крикнула громче Анна Кирилловна. Катя вошла, вытирая руки. Усталая, чем-то расстроенная. Складочка у губ обозначилась резче.
– Что тебе, мама?
– Ты только подумай, он усвоил новое слово «бах!».
– Ну и что? – не умилившись, сказала Катя и вышла из ванной.
…С девочкой что-то сегодня неладно. Не поссорились ли опять с Тамерланом? (Зятя звали воинственным именем Тамерлан, малоподходящим к его щуплой белокурой внешности.) Дома его нет. Спрашивать не буду.
Скользкое от мыла жемчужно-белое тельце. Благополучно вымыла голову, мыло не попало в глаза. Вася играл розовым крокодилом, странная расцветка – крокодил должен быть зеленым. Только подумать: вот так же купала своих, а потом Гошу. Такой же был беленький, гладенький, скользкий, так же курчавились волосики сзади… Неужели Вася, когда вырастет, тоже будет бросать жен, уходить от детей? Не дай бог до этого дожить!
Выкупанный, вытертый, одетый в чистую рубашку, Вася был великолепен, как первый день творения. Ножки со врозь глядящими пальчиками – новенькие, ни разу не хоженные… Почему человек, вырастая, теряет эту молочную прелесть, грубеет, омозолевает, обызвествляется? Недосмотр природы…
Накормив внука из бутылочки (баловство, которое ему, почти годовалому, разрешалось только на ночь), она уложила его в кровать. Вася потребовал «бабу», что означало соску. Соски ему уже не полагалось: недавно на семейном совете решили его отлучить.
– Не будет тебе «бабу», – сказала Анна Кирилловна, – бросай курить. Я бы сама бросила, да не могу.
Еще несколько раз воскликнув «бабу!» и не получив желаемого, Вася примирился с судьбой, сунул палец и рот и закрыл глаза.
«Ну не прелесть ли! – думала Анна Кирилловна. – Другой бы на его месте устроил скандал».
Она вспоминала младенчество своих собственных детей, которые были строптивы и все без исключения орали по ночам. Эти бессонные ночи, после которых клюешь носом у доски…
Теперешние младенцы почему-то орут мало. Зато вырастают и тут уж орут – дай боже…
Убедившись, что Вася спит, она пошла на кухню мыть посуду, по опыту зная, что там раковина – до краев.
И точно. Катя уже кончила стирать и ушла к себе. Тамерлана все нет.
Тревога точила сердце. Отгораживаясь от нее, Анна Кирилловна мыла посуду особенно тщательно. Зазвонил телефон. Катя кинулась к нему. «Мама, тебя», – позвала она увядшим голосом. Это оказалась Даная.
– Анна Кирилловна, золотко, мне просто необходимо с вами поговорить. Можно я сейчас приду?
– А не поздно ли?
– Я на минуточку. Только облегчу душу, и все.
Даная вошла, как всегда быстрая, взмахнула волосами, села на диван и заплакала.
– Что случилось, Даная?
– Нешатов меня выгнал.
– Сейчас?
– Нет, еще утром. Я вас днем хотела найти, но программа забарахлила.
– За что он вас выгнал?
– В том-то и дело, что ни за что. Я у него ночевала, утром попросила халат, он переспрашивает: «Халат?» – а сам мрачный до невозможности. Повторяю: «Да, халат. А что?» Он сказал: «Халатность», – и рассмеялся. Да так нехорошо, мне стало страшно. Черный смех. Обошлась без халата, умылась так. Стесняться там нечего, одна Ольга Филипповна, фирменная старуха, мы с нею уже друзья. Дальше – готовлю ему завтрак. Не ест. Это бы еще ничего, он вообще мало ест. Но на этот раз он не ел как-то демонстративно. Дальше – хочу причесаться, ищу расческу. Куда-то ее подевала в трансах. Смотрю везде – не нахожу. У него там вещей с три короба, и все кувырком. Засунула руку в ящик стола и вдруг вынимаю оттуда пучочек волос. Ну, знаете, как бывает, когда расчесываешь волосы и сматываешь, что вылезло, на палец. Волосы длинные, черные, явно женские. Спрашиваю: «С какой это брюнеткой ты мне изменял?» А он рассердился и меня выгнал.