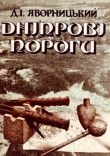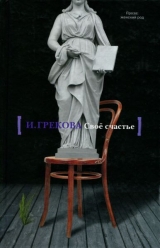
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
41. В больнице
То собрание, с которого Гана увезли на «скорой помощи», вспоминалось ему как в тумане. Пока оно шло, Борис Михайлович слушал все менее внимательно, поглощенный своими ощущениями. Какая-то внутренняя волна поднимала его все круче и круче. Потом он почувствовал острую боль где-то под вздохом. Боль была настолько сильна, что он потерял сознание. Очнулся он в машине «скорой помощи». У него уже не болело, но он хорошо чувствовал, где у него не болит. Рядом сидела молоденькая сестра с тонким профилем и время от времени щупала его пульс. Городские огни убегали вдаль. Носилки, на которых он лежал, приятно покачивало. Должно быть, ему сделали укол. Его клонило ко сну, все вместе было блаженством.
Сквозь блаженство он чувствовал, как его вынесли из машины, внесли в коридор, переложили на каталку. Блаженство длилось. Под потолком горела цепочка ламп. Свет каждой лампы был почему-то не круглым, а спиралевидным. «Двойная спираль», – вспомнил он термин откуда-то из генетики. Что-то это значило, но он забыл что.
Молодая миловидная женщина в розовом халате и розовой шапочке, вероятно врач, о чем-то его спросила. Он не ответил. Его заливала полная отрешенность. Полчаса назад в институте его что-то волновало, сейчас перестало волновать. Там, где-то вдалеке, копошились маленькие человечки со своими маленькими интересами. Он видел их отсюда, из своей высокой отрешенности, и себя вместе с ними, такого же маленького, копошащегося.
Потом с ним что-то делали, должно быть снимали кардиограмму, потому что он поморщился от ощущения мокрого на груди. «Инфаркт под вопросом», – сказал молодой врач, черноглазый, очень высокий, еще увеличенный остроконечным колпаком. К своему диагнозу Ган остался вполне равнодушен. Потолочные лампы сияли и двоились.
Его вкатили в палату, переложили на койку. Блаженство продолжалось. В головах стоял высокий кислородный баллон, похожий на огнетушитель. Тумбочка была застлана салфеткой, крахмальные углы дыбились, один загнулся кверху. Борис Михайлович хотел поправить этот угол, но не мог шевельнуть рукой. Это показалось ему смешным, он попробовал рассмеяться, но тоже не мог. Он смеялся внутри себя, без звука и без движения. Входила сестра, что-то ему давала глотать. Полная заторможенность даже в глотании. Странным образом это тоже было частью блаженства.
Он заснул и видел хорошие сны. Какие-то бабочки летали над некошеным лугом, садились на лиловые цветы. Их лиловизна была отражением неба, тоже лилового от сгустившихся туч.
Утром он проснулся бодрым и по ощущению здоровым. От вчерашнего оставались только небольшое блаженство и частичная отрешенность. Он поднял руку (теперь она его слушалась) и внимательно ее разглядел. Рука была тонкая, бледная, с синими венами. Он не заметил, когда его рука стала старческой, но сейчас на ней явно читался возраст. Другая рука была не лучше.
Принесли завтрак. Он не без удовольствия съел несколько ложек каши, выпил стакан чаю. Сахар выдали ему на весь день, положив его в ящик тумбочки.
День смотрел в окно – хмурый, но прелестный. Ган попытался припомнить вчерашнее. Что-то такое происходило в институте. Нет, ему это было неинтересно. Даже кислородный баллон был интереснее. Он разглядывал его с любопытством.
Палата была на двоих. У противоположной стены лежал белый старик и дышал со свистом (наверно, астматик). Он был лыс, но небрит. Ган не без удовольствия провел рукой по своим волосам. Седой, но не лысый. Какая-то неисчерпанная жизнь переходила в его руку от прикосновения к волосам.
…Врачебный обход. Пришла палатный врач, Валентина Семеновна, та самая миловидная, в розовом халате и розовой шапочке, которая вчера в коридоре что-то у него спросила. Сегодня он мог говорить и отвечал охотно.
Она разговаривала с ним на «мы»: «Ну, как мы себя чувствуем? Давление у нас нормальное, разве чуточку повышено, но ведь нам не двадцать лет?» Борис Михайлович уверил ее, что чувствует себя хорошо, нормально, и это было правдой. Единственно ненормальным в его состоянии было чувство, будто голова куда-то улетает, но он на это жаловаться не стал. Спросил, можно ли ему вставать, она отвечала: «Ни в коем случае, разве через недельку». Ну до чего же милая! Очки у нее были в розовой оправе, и вся она была такая розовая…
Старик напротив долго скрипел, жалуясь на обслуживание и на то, что ему недодали полпорции масла: «Я же знаю, что такое двадцать граммов. Там от силы было десять!» Она говорила с ним внимательно, терпеливо; очевидно, внимательности и терпению их учат на студенческой скамье. «Хорошо бы, если бы и наших инженеров так учили обходительности», – подумал Ган. Опять вспомнил вчерашнее собрание и опять ушел от него мыслью.
Потекли однообразные палатные дни. Он просыпался рано, раньше всех в отделении, и, лежа на своей койке, смотрел в небо. Оно было серьезно-серое, холодное, иногда брызгающее дождем. Постепенно оно окрашивалось с одного боку персиковым румянцем. Приходило утро. Иногда оно приносило с собой солнце, тогда он радовался.
Утро начиналось со звуков. Бряканье ручки ведра. Шлепанье тряпки, которой протирали пол. Скрипение капризного соседа. Все эти звуки были отрадны, в них была жизнь.
Приходила дежурная сестра с букетом градусников в банке. Температура у него всегда была нормальная, но он ее с интересом мерил. У соседа она иногда повышалась, это тоже было любопытно. Обед был целой гаммой разнообразнейших ощущений. Никогда он дома с таким интересом не съедал обед.
Каждый день в посетительский час, с четырех до шести, приходила Катерина Вадимовна. Он ждал ее с радостью, но без нетерпения. Она садилась рядом и глядела на него серыми глазами, целиком сделанными из любви. На вопрос о самочувствии он всегда отвечал: хорошо. Она приносила фрукты. Он их принимал из вежливости, но не съедал, а отдавал нянечке.
Из трех сменяющихся нянечек у него была любимая – Анна Ивановна. Сильно пожилая, веселая, с утра собиравшая по всему отделению бутылки, к середине дня успевавшая их реализовать. Выпив в свое удовольствие, она неизменно «улетала в космос». Там, очевидно, сила тяжести была нормальная, потому что Анна Ивановна ходила вся изукрашенная синяками. Лоб она туго перевязывала сложенной косынкой, за что скрипучий сосед прозвал ее пиратом. К своим обязанностям она относилась равнодушно-отрицательно, только как к источнику рублей. За каждую услугу плата была стандартная: рубль. Как-то Борис Михайлович сунул ей рубль и попросил поправить сбившееся одеяло. Анна Ивановна взяла рубль, одеяло приподняла, уронила и сказала: «И так хорошо». Борис Михайлович с юмором об этом рассказал Катеньке, но та восторга его не разделила.
Странное дело, ему совсем не хотелось читать. Катенька приносила книги, он к ним не притрагивался. Ему и так было не скучно. Одно дерево за окном чего стоило, со всей птичьей мелюзгой, его населяющей, с лимонно-желтыми, подсохшими, на ветру шевелящимися листьями. А вечером, когда в палате зажигали свет, Ган лежал и, щурясь, смотрел на припотолочные лампы, удивляясь разнообразию и разноцветности своих собственных ресниц: ведь это от них шли радужные лучи во все стороны.
Все время звонят с работы, говорила Катенька, интересуются его состоянием, просят позволения навестить. «Хочешь кого-нибудь видеть?» – спрашивала она. Нет, он никого не хотел видеть. Один раз только сказал: «Пожалуй, Нешатова, пусть придет».
На другой день Нешатов пришел с неожиданным и не подходящим к его облику букетом осенних цветов, который Анна Ивановна, благоволившая к Гану, сразу же поставила в бутылку из-под кефира. Нешатов поразил Бориса Михайловича новым выражением лица, тенью загара на впалых щеках. Разговор, как положено, начался с вопроса о самочувствии («Хорошо, хорошо, спасибо!»), потом краем задел служебные дела, но Ган проявил к ним полное равнодушие, даже дисплеем не поинтересовался, не говоря уже об анонимщике. Нешатов произнес имя Магды; Ган тихо улыбнулся, отстранив и эту тему. «Зачем он меня позвал?» – думал Нешатов. Тут Ган спросил:
– Ну, а как с бессмертием души?
– Душа бессмертна, – твердо ответил Нешатов.
– Я рад. Я очень о ней заботился и, кажется, не зря.
– Не зря, Борис Михайлович. Сколько буду жить и дышать, столько же буду вам благодарен.
– Я вас почему-то полюбил, хотя вы и не давали к тому оснований.
– Наверно, потому, что мы любим тех, кому нужны. Это мне сказала одна умная женщина. Не та, про которую вы думаете, другая.
– Я понимаю, – сказал Ган. – А теперь я устал и хочу спать. Спасибо, что навестили. Я рад, что я вам больше не нужен.
Возражать было бессмысленно. Ган закрыл глаза. Нешатов на цыпочках вышел из палаты и тихо прикрыл за собой дверь.
Этой же ночью Ган проснулся от ощущения торжественности. Что-то с ним происходило. Нет, ему не было больно, просто сердце присутствовало и билось в каждой клеточке его тела. Сердце и тело были в одном месте, он сам – в другом. Он хотел нажать кнопку сигнала, но рука не могла дотянуться. Да и не надо было дотягиваться. Он увидел перед собой ярко освещенную солнцем, уходящую вдаль аллею. По этой аллее шла к нему Катенька, и тени по ней скользили снизу вверх.
42. Прощание
Борис Михайлович умер через две недели после собрания, с которого его увезли на «скорой». Он уже уверенно шел на поправку, и смерть его всех поразила – и сослуживцев, и врачей. Вскрытие показало обширный инфаркт.
Хоронили его в яркий осенний день, светящийся той лучезарной желтизной, которая как будто силится внушить: временное вечно. Хоронили на старом загородном кладбище, где крестов и памятников почти не видно за буйным переплеском ветвей.
В гробу Борис Михайлович был бледен и чернобров, очень похож на себя живого, и казалось, что он шутит, что вот-вот раздастся его приятный носовой голос…
Весь отдел был на похоронах, и многие из других отделов. Сам Панфилов приехал на своей черной «Волге», долго и сочувственно жал руку вдове и сказал несколько слов над свежевырытой песчаной могилой.
Катерина Вадимовна, вся в черном, была на вид совершенно спокойна. Не плакала ни во время траурного митинга, ни когда зарыли гроб и над холмиком выросла пирамида венков. Люди начали расходиться; каждый подходил к ней, жал ей руку и произносил несколько сочувственных слов. Она, как маленький черный автомат, говорила всем одно и то же:
– Спасибо. Благодарю вас, что пришли. Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Спасибо…
По обе стороны от нее с обнаженными головами стояли двое ее сыновей, очень похожие друг на друга и на Бориса Михайловича. Они тоже благодарили предлагавших помощь и сдержанно ее отвергали. «Какие интеллигентные похороны», – думал Нешатов. Магда стояла далеко от него, прямо глядя перед собой чужими зелеными глазами. Тишину нарушал тонкий бабий плач Картузова, который, совершенно трезвый, трясся, держась за ограду какой-то могилы.
Расходились, расходились… В отделе знали, что после похорон состоится очередной научный семинар. Фабрицкий специально предупредил, чтобы все были. Дятлову он усадил в Голубой Пегас, остальным предложил добираться, кто как может. Анна Кирилловна, распухшая от слез, растрепанная, ненакрашенная, отказалась пристегиваться ремнем («Мне в нем душно»). «Перекинь через плечо», – скомандовал Фабрицкий.
– Вот так, Нюша, – сказал он, трогаясь с места, – так-то и теряем друзей. Ровесников.
– Только, пожалуйста, сам ничего такого не выкидывай. Мне уступи первую очередь.
– Так и быть, уступаю. Но учти, мне без тебя будет очень плохо.
– Учла. А на пенсию я все равно уйду. Решение принято. Вот только доделаю преобразователь…
– Слышал и больше слышать не хочу. Тебе уйти на пенсию значило бы капитулировать перед гадом.
– Но ведь он остается в отделе. Не могу больше видеть его сусальную морду. Вербный херувим в отставке.
– Потерпи, мы с ним управимся. Кстати, ты не заметила: подходил он к Катерине Вадимовне или нет?
– По-моему, нет. Может быть, как у Некрасова: «Бог над разбойником сжалился, совесть его пробудил»?
– Нет у него и не будет совести. Абсолютно растленный тип. Он мог бы танцевать на могиле Гана.
– Не думаю. На моей и то вряд ли.
Научный семинар начался в назначенное время. Фабрицкий, бледнее обычного, поднялся на кафедру. Без своей улыбки он казался некомплектным…
– Товарищи, мы потеряли нашего большого друга, чудесного человека, нашу душу и совесть – Бориса Михайловича Гана. В том, что он погиб, есть доля нашей с вами вины. Зная, что он болен, мы его не берегли. Давайте больше и лучше беречь друг друга. Пусть каждый из нас подумает, в чем он виноват перед покойным. Почтим его память вставанием.
Все встали, постояли, снова сели по сигналу Фабрицкого. Он продолжал:
– Имею вам сообщить некоторую информацию. Феликс Антонович Толбин только что подал мне заявление об уходе. Я его удерживать не стал. Гораздо хуже то, что аналогичное заявление подала мне и Даная Ивановна Ярцева. Я пытался ее отговорить, но она непреклонна. Ее уход ставит в тяжелое положение лабораторию Анны Кирилловны. Надеюсь, что первая лаборатория, которую, естественно, возглавит Магдалина Васильевна, окажет своим товарищам посильную помощь.
Работы по цветному дисплею идут успешно. Рад отметить, что в них хорошо проявил себя наш новый сотрудник Владилен Григорьевич Бабушкин. Отличную работу Юрия Ивановича Нешатова мы уже отмечали.
Товарищи, мы пережили ряд серьезных потрясений, в которых некоторые из нас, в первую очередь я сам, вели себя не лучшим образом. Пусть это послужит нам уроком на будущее.
Сегодняшнее заседание научного семинара я предлагаю посвятить памяти Бориса Михайловича Гана. Вспомним наряду с ним и всех тех, кто, сам оставаясь в тени, делает нашу научную жизнь возможной. Тех, на кого мы сваливаем самую черную, самую неблагодарную работу. На этой работе человек не приобретает ни славы, ни почета, ни степеней, ни званий. Он только звонит по телефону, отвечает на звонки, согласовывает, раздобывает, убеждает, отчитывается. За последнее время, оставшись без помощи Бориса Михайловича, я понял, какую тяжесть он снял с моих плеч и возложил на свои. Один из уроков, которые мы должны извлечь из происшедшего: научная работа не делится на «основную» и «вспомогательную», на «чистую» и «грязную». Умение ориентироваться в деловой сфере – это качество, без которого сегодняшний научный работник неполноценен. Прошли времена чудаков-паганелей. Отныне моими заместителями вы будете все по очереди…
Зал зашумел.
– Может быть, я и не прав, – продолжал Фабрицкий. – Но за последние дни я изучил дела Бориса Михайловича и пришел к выводу, что мы погубили замечательного инженера, талантливого ученого, не дав ему развернуться. Мы утопили его в административной работе только за то, что он с ней справлялся лучше других. Мой сегодняшний доклад будет посвящен его биографии и его трудам.
Борис Михайлович Ган родился в Петрограде 4 ноября 1916 года в семье учителя математики…
После доклада Даная подошла к Дятловой:
– Анна Кирилловна, простите меня! Я знаю, я поступила по-свински…
– Вы меня просто убили! Как же можно было, не предупредив, не посоветовавшись? А как я без вас буду кончать преобразователь?
– Анна Кирилловна, честное, благородное слово, я не могла поступить иначе, понимаете, не могла! Может быть, даже наверняка, мне будет плохо. Но такая уж я и есть. Лист Мёбиуса.
– Не понимаю. При чем тут лист Мёбиуса?
– Художественная аналогия. Но вы меня не слушайте. Это я так.
– И вообще последнее время вы от меня отошли.
– Так я же все время сидела на этом дисплее…
– Да, я понимаю. Дело в Нешатове.
– Вовсе нет! Нешатов был мое заблуждение.
– Кто-то еще появился?
– Не буду говорить. Не знаю. Анна Кирилловна, а помните нашу с вами американку?
– Не помню. Что такое американка?
– Не помните, так и не надо.
43. Обязанности
Нешатов, бреясь, порезался. Он залепил порез полоской пластыря и помедлил, разглядывая себя в зеркало. Ну и лицо! Сильно немолодое, несвежее, с морщинами у глаз, со скобочками от носа ко рту. И действительно, как говорила Даная, одна бровь выше другой… Целую вечность он себя не разглядывал.
Бегло постучавшись, вошла Ольга Филипповна.
– Давай белье-то. Стирка у меня замочена.
Нешатов поискал и нашел несколько рубашек, полотенец, маек (трусы и носки он стирал сам). Пыльная запущенность комнаты его поразила. Комната была как он сам. И то и другое надо менять.
– Куда собрался-то, Юрь Иваныч?
– А почему вы думаете, что собрался?
– Галстук повязал. Днями-то расхристанный ходишь.
Нешатов подумал и снял галстук.
– Не торопись, торопыга, – сказала Ольга Филипповна. – Слова молвить нельзя, уже фордыбачишься. И чего я в тебе нашла? А ведь прирос к сердцу, будто кровь родная. Сын приедет, загодя душа болит: как я без тебя буду? Вот дура-то старая. Был бы мужик мужиком, а то гвоздя не вобьешь. Толку от тебя, как от собачки маленькой.
– А что, сын собирается приехать? – с легким беспокойством спросил Нешатов.
– Обещался к январю. Все жалела тебе сказать, а теперь к слову пришлось.
– Совсем или временно?
– А кто его знает? С женою.
«Новое осложнение, – подумал Нешатов, – искать комнату. Комнату найду, Ольги Филипповны не найду».
– Если не полажу я со снохой, – сказала она, – ты меня не бросай. Где ты, там и я. Новую жизнь начнешь, и меня где-нибудь сбоку. Деньги-то у меня есть, скопила. Еще и тебя поддержу.
– Спасибо, Ольга Филипповна.
Зазвонил телефон. Нешатов к нему ринулся.
– Ишь ты, на рысях. Недаром галстук вывязывал, – заметила полувслух Ольга Филипповна.
– Юра, это ты? – спросил отдаленный, странный голос. Даная, что ли? – Это я, Марианна.
– Что тебе нужно? Говори скорее, я тороплюсь.
– Юра, Павел попал в тюрьму. Приезжай скорее, а то я с собой покончу.
– Что за безумие? – крикнул Нешатов, но поздно: короткие гудки, трубка повешена.
Набрал номер – никто не подходит.
– Что случилось-то? – спросила Ольга Филипповна. – Серый стал, как портянка.
– Звонила Марианна. Сын Павел попал в тюрьму.
– Ах ты, господи-батюшки! Напасть какая! Поезжай к ней, к мученице. Мало она от тебя натерпелась, еще от сына. Кривое горе.
– Я поеду. Только позвоню.
Он набрал номер. Тоненький, нездешний голос произнес: «Хеллоу?» – с английским акцентом.
– Это кто? – спросил Нешатов.
– Соня.
– Мама дома?
– А кто ее спрашивает?
– Сослуживец, Юрий Иванович Нешатов.
– Сейчас запишу. Юрий… Иванович… «Не» или «Ни»?
– «Не». Не-ша-тов. Мама давно ушла?
– Девять минут. Нет, уже девять с половиной. Велела мне принимать телефонограммы.
– Слушай, Соня. Прими такую: «Юрий Иванович просил передать, что задерживается по не зависящим от него причинам».
Послышалось напряженное дыхание. Соня писала старательно. Нешатов изнемогал.
– Перед «не зависящим» запятую надо?
– Не надо. Прости, Соня. Кончаю разговор, вешаю трубку.
– С ребенком, что ли, задумал взять? – спросила Ольга Филипповна. – Ой, берегись!
– Никого я не задумал взять. До свидания, Ольга Филипповна, я тороплюсь.
– Беги, беги. Это же страх подумать! Авось горе тебя в разум введет.
Подходя к своему бывшему дому, с сердцем где-то в горле, Нешатов ожидал увидеть толпу любопытных, тело Марианны на асфальте, машину «скорой помощи»… Но во дворе все было спокойно. Капал редкий дождик, прыгали воробьи, играли дети.
Поднявшись наверх, он позвонил. Никто не шел. Наконец голос – хриплый, тусклый:
– Кто здесь?
– Это я, Юрий.
Дверь отворилась. Марианна стояла за ней – бледная, старая, с чернильным пятном на щеке.
– А я уже думала, что ты не приедешь.
– Как же я мог не приехать?
– Я в свое время могла, и ты мог.
– Почему у тебя щека в чернилах?
– Писала записку.
– Предсмертную, что ли?
– Ага.
– Дура.
– Теперь ее можно ликвидировать.
Она разорвала на четыре части тетрадный листок и бросила в корзину.
– Ну, кому ты этим хотела помочь? Ему? Мне?
– Просто больше не могла жить.
– Идиотизм. Ну, давай, опоминайся, расскажи мне все по порядку. Только сначала вымой лицо.
Она послушно пошла в ванную. Комната была чем-то не похожа на прежнюю. Да, не было книг. Из-под тахты глядели кеды огромной величины, какие-то кедовые гиганты, синие с красной подошвой. «Неужели Пашины?» – подумал он с неприятным испугом. Прошлый раз, когда мальчик был у него, он не поглядел на его ноги…
Вошла Марианна, уже в порядке: вымылась, причесалась, даже как-то смыла поразившую его старость. Она стала рассказывать почти спокойно, подергивая и оправляя платок на плечах:
– Паша уже давно связан с какой-то темной компанией. Парни, знаешь, такие долговязые, распахнутые до пупа, рубаха узлом завязана. Девчонки раскрашенные, курят, ругаются. Мат у них считается особым шиком, выпендриваются друг перед другом. Пыталась войти с ними в контакт – куда там! Нам, педагогам, это труднее всего. У них на нас аллергия. В лучшем случае выслушают улыбаясь, а то поворачиваются спинами, свистят, уходят. Ты себе не представляешь – это страшно! Какая-то неподконтрольная сила. Прут – и все.
– Учатся, работают?
– Кто как. Кто числится в школе рабочей молодежи, кто в ПТУ, а кто и нигде. Вышла у них потасовка, из-за дисков каких-то, что ли. Пашу помяли, два ребра сломаны, отлеживался дома, тут-то я от него все и узнала. То есть не все, многое он утаил, как я теперь понимаю. Метался, мучился, чего-то боялся, брал с меня слово, что не выдам. В школу давно уже ходить перестал. Меня вызывали: «Где ваш сын?» – «Не знаю. Говорил, что в школе». Стыдно до смерти, сама педагог, а что я могла с ним сделать? Придет голодный, немой, слова от него не дождешься. Ест и свистит. «Паша, не свисти!» – «Хочу и буду». Попал на учет в детскую комнату милиции. Этакие верзилы – «дети»! Им самим смешно. Формально дети, ведает ими толстая бабеха в погонах, а надо бы мужика крепкого, чтобы боялись. Меня туда вызывали: «Где отец?» – «Нет отца». – «Тогда сами примите меры к своему сыну, ему одна дорога – в колонию». Я не верила, думала, обойдется…
Марианна начала крупно дрожать.
– Успокойся, пожалуйста, – сказал Нешатов.
– Можно я возьму тебя за руку?
– Бери.
Влажноватые, костистые пальцы вцепились ему в руку. Было неприятно, но он терпел. Горе схватило его за руку, нельзя было стряхивать горе… Да еще такое, в котором сам виноват…
– Слова до него не доходят. Я не знала, как подступиться.
– Я понимаю, – сказал Нешатов. – Он ко мне приходил один раз за деньгами.
– Ты ему дал?
– Очень немного. Двадцать рублей. И те он в конце концов не взял.
– Бедный мальчик! Ты понимаешь, я не верю, не верю, что он виноват.
– А что там произошло?
– Ограбление квартиры. Вещей унесено что-то на тридцать тысяч. Магнитофон, проигрыватели, книги… Кое-что нашли у нас. Паша не отпирался… Его увели. Видел бы ты, как он уходил! «Не отчаивайся, мама». Взрослые слова, а глаза как у ребенка – те самые, желтые… Не верю, не верю! Он на себя возьмет вину из благородства. Это все у него наносное: грубость, цинизм. А в глубине души он благороден. Я перед ним виновата…
– Я больше тебя виноват. Тот раз он приходил, хотел поговорить по душам, а я его не задержал, мне было некогда. А потом я про него просто забыл. Разные происшествия на работе… Да, забыл о своем сыне. Никогда себе не прощу…
– Чаю хочешь? – спросила Марианна.
– Пожалуй, давай.
Она ушла на кухню. Нешатов сидел, подперев руками голову, в которой гудели мысли. Тот самый телефон, сдвоенный, из-за которого все произошло… Кому-то надо позвонить, с кем-то посоветоваться. Гана нет, советоваться не с кем. Тут он вспомнил, что есть Фабрицкий, набрал номер.
– Слушаю, – сказал светлый, бодрый голос.
– Александр Маркович, извините, это говорит Нешатов.
– Что-нибудь случилось?
Нешатов вкратце изложил положение дел.
– Понял, – сказал Фабрицкий. – Завтра на работу можете не приходить. Займемся выяснением, если надо – хлопотами. Главное, не теряйте бодрости – вы не один.
– Спасибо, Александр Маркович. Огромное спасибо.
Марианна внесла чай.
– Фабрицкий обещал помочь, – сказал Нешатов. – Это волшебник.
– Паша не виноват.
– Фабрицкий поможет выяснить. Если кто поможет, то он.
Пили чай в молчании. Чашки звякали о блюдца. «Надо позвонить Магде, – думал Нешатов, – а как это сделать при Марианне?»
– Послушай, – сказал он. – У тебя есть валокордин?
– Нет, а что?
– Прихватило сердце. Ничего страшного.
Она испугалась:
– Дать капель Вотчала? Валерьянки?
– Не то. Нужен валокордин.
– Я сейчас. К соседям сбегаю, ладно?
Прогрохотал лифт. Нешатов набрал номер.
– Магда, дорогая! Слава богу, ты уже дома.
– Да, я так беспокоилась, когда вы не пришли. Думала, что-то случилось. Немного успокоилась, когда Соня передала мне телефонограмму.
– Действительно, случилось. Мой сын Павел попал в тюрьму.
– Боже мой! Как же это? За что?
– Еще неясно. Какая-то шайка. Я сейчас у своей бывшей жены Марианны. Она в ужасном состоянии. Убеждена, что Павел не виноват, его запутали. Она мать. Но мне почему-то тоже кажется, что не виноват. Оставил на столе мои две десятки…
– Какие десятки?
– Долго рассказывать. Марианна с минуты на минуту должна вернуться. Я звоню без нее, чтобы не причинять лишней боли. Понимаешь?
– Понимаю.
– Я теперь должен быть здесь. Может быть, долго к тебе не приду. Может быть, совсем. Понимаешь?
– Я все понимаю.
– Это ничего, что я перешел на «ты»?
– Я и не заметила. Ничего.
– Спасибо тебе.
– Только это ничего не значит. Сейчас не обо мне речь. Когда такое горе, надо посторониться.
– Магда, какая ты светлая. Справедливая.
– Жестокая.
– Будь со мной жестокой. Не прощай меня. Я виноват, я кругом виноват. Весь этот год… Кладу трубку. Идут.
Вошла Марианна.
– Валокордина нет. Есть корвалол. Годится?
– Давай. Мне уже лучше.
– Накапать? Сколько капель?
– Двадцать пять.
Дождь пошел сильнее.
1981