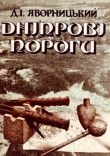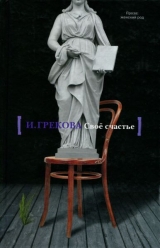
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
8. Нешатов приглядывается
«Мы вас торопить не будем», – обещал Ган. И правда, никто его не торопил. О нем словно забыли.
Он сидел в общей комнате за своим угловым столом, читал отчеты, старался вникнуть, приглядывался. Пока что получалось плохо. Чем больше он читал, тем меньше понимал. Гордость и упрямство мешали ему признаться в своем бессилии.
Ребусы, ребусы… Какие-то специальные, незнакомые ему термины. Смысл некоторых он, зная английский, кое-как понимал, другие оставались непонятными. Он рылся в списках литературы, доставал книги, журнальные статьи – не помогало. Сезам не открывался. Что ж, это естественно. Однажды он выпал из науки, из круга идей – и не мог войти обратно. Как не прирастает отрезанный палец, пересаженный орган. Организм отторгает чужеродный белок.
А как просто все это было – в той, предыдущей жизни! Они с товарищами что-то придумывали, мастерили – азартно, весело. Прокладывали свою немудрящую тропку по целине. Ныне там, где была эта тропка, разлеглась широкая, изъезженная дорога. Кто только по ней не катит!
Всего этого было слишком много: отчетов, статей, рефератов, препринтов. Он барахтался в избытке информации, тонул, курил (когда рядом не было Гана) папиросу за папиросой, а потом воровски открывал форточку…
А неуправляемые мысли все уходили в сторону, показывали ему картинки. Особенно преследовала одна: букашка на берегу моря. Обыкновенная букашка, красная с черным. Взбегали волны на песок и несли букашку. Она шевелила ножками, пытаясь уцепиться за грунт. Как только ей это удавалось, приходила следующая волна… В этих книгах, отчетах он был как та букашка.
С азбуки надо было начинать, с самого начала. Он хватался за популярную литературу, которую его коллеги презрительно называли «научпоп». Читал украдкой, заслонив грудой отчетов.
Ну и что? Эти книги были еще хуже. Вместо того чтобы трезво, просто, спокойно объяснить читателю, что к чему, они из кожи лезли вон, чтобы его позабавить. Картинки, картинки, несмешные человечки с дурацкими прозвищами, а то и полураздетые грудастые девы с выпученными глазами… А чего стоил тон этих книжек – лакейский, ернический, с прибаутками и подковырками! Закрывая книгу, он каждый раз убеждался, что ничего нового не узнал.
Казалось бы, чего проще – спросить у товарищей по работе. Нет, этого он не мог. Страшно было появиться перед ними этаким голым королем. Впрочем, однажды он попробовал задать вопрос Малыху – этот как будто был попроще других. Развернул отчет, показал особенно неясное место: «Как это понимать?» Малых прочитал абзац и лаконично отозвался: «Понимать не надо».
Универсальным пониманием обладал, кажется, один Полынин. Ходячий справочник, энциклопедия. Этот человек был ему неприятен, но все же изредка Нешатов к нему обращался:
– Игорь Константинович, посмотрите, мне не совсем ясно: откуда эта формула?
(«Не совсем»! Ничего ему не было ясно!)
Полынин брал журнал своими цепкими, длинными пальцами, проглядывал страницу и говорил что-нибудь вроде:
– И, батенька, что же это вас на такую ерунду понесло? Посмотрите-ка лучше в трудах четвертого симпозиума, там есть дельная статья Аббота. Этот вопрос у него под орех разделан.
– Простите, какая статья?
Полынин небрежно выписывал название статьи по-английски своим оригинальным, туда-сюда клонящимся почерком. Нешатов добывал статью. И что? К непониманию отчета прибавлялось непонимание статьи Аббота…
Странное дело, единственная, с кем он заговорил о своем тотальном непонимании, была Даная Ярцева, та, которая крикнула про воблу. Быстрая, сноповолосая, с маленьким ярким ртом, она забежала как-то в общую комнату, где он в одиночестве кручинился за своим столом, увидела его лицо и рассмеялась.
– Что такой грустный? – спросила она. Похоже, на «ты». Он с облегчением отодвинул в сторону отчет.
– Да вот ничего не понимаю.
– А и не надо! До конца никто не понимает. Важно схватить общий смысл. Слушаем же мы песню на чужом языке? Слова непонятны, а песня – да.
Подхватив рукой воображаемую длинную юбку, заигрывая с воображаемым микрофоном, она запела на каком-то языке, отдаленно напоминающем английский. Английскими – точней, американскими – были интонации, придыхания, полувывернутые зовущие губы. Он слушал не без удовольствия.
– Ну-ка, о чем я пела? – спросила она.
– О любви.
– Совершенно точно. Слова ничего не значили, английского я не знаю. А песня в целом ясна. Так и с отчетами надо. Не копаться в мелочах, а слушать песню.
Нешатов смотрел на нее и лениво думал: «Скорее полна, чем худа. Скорее красива, чем некрасива. Хочу ли я с нею спать? Скорее нет, чем да».
Все-таки что-то в ней было, какое-то электричество, косой взгляд зелено-ореховых глаз. Он не хотел, чтобы она уходила. Но она взяла со стола ведомость, сделала ему ручкой, сказала «гудбай» и ушла.
После этого разговора ему стало чуть легче. Может, и в самом деле она права? Слушать песню.
Вот кто откровенно не понимал и даже песню не слушал, так это Лора. С нею часто Нешатов сидел вдвоем в комнате, но они почти не разговаривали. Тонкая, высокая, светлая и грустная, какая-то нестеровская. Ей бы свечу в руки, белый плат по самые брови. В отделе она числилась инженером, окончила какой-то институт, правда заочно. Ее так и называли «заочная девушка». Знаний у нее не было никаких. По замыслу Гана, взявшего ее на работу, она должна была вести все делопроизводство отдела; она вроде и вела, но тоже как-то заочно, забывчиво, путая бумаги, теряя записи. На машинке печатала одним пальцем, с ошибками. Пробовали ее учить программированию – куда там. Синус путала с интегралом. Да она и не хотела учиться. Подлинным ее капиталом были ноги – длинные, стройные, с высоким подъемом.
Почти постоянное присутствие Лоры в «общей» раздражало Нешатова. Впрочем, его многое тут раздражало. Раздражали долгие речи Полынина – какая-то умственная чесотка. Раздражал Малых, молитвенно глядящий Полынину в рот. Раздражали Магда с Толбиным, между которыми все время проскакивали искры. Раздражали шум и гам, заполнявшие комнату всякий раз, когда в ней собиралось больше двух-трех человек (эту разноголосицу он мысленно называл «гусиным хлевом»).
Утомляло и обилие людей, которых он не знал в лицо и не мог соотнести с каким-нибудь именем. Черт их знает, были они из этого отдела или из какого-нибудь соседнего. Некоторых он видел чаще других и уже научился узнавать.
Заметен был Илья Коринец – тонкий, удлиненный юноша с синим пятном на нижней губе, с университетским значком на груди и с университетским скепсисом на оригинально некрасивом лице. Из его иронических выступлений Нешатов понял, что он бывший аспирант Фабрицкого, что диссертация у него готова давно, лежит и устаревает, потому что за два года не удалось выяснить, к какому номеру специальности она относится. Сейчас Коринец работал у Дятловой и был, по-видимому, ее правой рукой, но бунтующей правой рукой. Сама Анна Кирилловна тоже иногда заходила в «общую» и каждый раз справлялась у Нешатова: «Ну как, еще не определились?» – на что он угрюмо отвечал «нет», про себя посылая ее к черту.
Приятнее других был, пожалуй, профессор Кротов Максим Петрович – редкозубый, обаятельный, со смуглой лысиной в распаде темных волос, с мягко-картавой, льющейся речью. Его лаборатория стояла в отделе несколько особняком, экспериментальных работ не вела, занималась общей теорией человеко-машинных комплексов и съедала уйму машинного времени – львиную долю отпущенного на весь отдел. Как только Кротов появлялся в общей комнате, сразу же начиналась дружеская свара из-за машинного времени: сотрудники убеждали его умерить свои аппетиты, он отвечал «хорошо, постараюсь» своим милым картавым голосом, а когда очень уж нападали, говорил: «Пощадите, братцы, ну грешен, грешен».
В числе прочих материалов Нешатов читал и отчет Кротова под длинным названием «Математическое моделирование этической мотивации индивидуального и коллективного поведения автоматов», которое было ненамного короче самого отчета, изложенного крайне лаконично: одни формулы. Отчет был образцом современной манеры изложения математических идей, которая словно бы главной целью ставит себе скрыть от читателя эти идеи.
Однажды Нешатов отважился заговорить с Максимом Петровичем по поводу такой манеры, решительно ее осуждая. Тот охотно согласился, но сказал, что такой стиль освящен традицией, что публикации в математических журналах приходится ужимать до одной-двух страничек, лишь бы «забить заявочный, колышек»; пишущему так легче, читающему – труднее… На что Нешатов ответил: «А нельзя ли вообще употреблять только одну букву; читать будет невозможно, зато писать – очень легко!» Посмеялись, после чего Максим Петрович сказал: «А вообще-то вы правы, мы на этом стиле больше теряем, чем выигрываем». Этот случай Нешатов запомнил потому, что впервые в институте он с кем-то вместе посмеялся.
9. Шевчук
Шли дни. Особое положение, почетное безделье тяготили Нешатова. Он почти обрадовался, когда Ган пригласил его к себе и задал бестактный вопрос:
– Ну как дела?
– Паршиво, – признался Нешатов. – Читаю, читаю, а понятнее не становится.
– Это бывает. Пожалуй, хватит вам читать отчеты. Пора взяться за конкретное дело и убедиться, что не боги горшки обжигают. Кстати, вами живо заинтересовался Даниил Романович Шевчук.
Нешатов насторожился. Имя Шевчука он не раз слышал. Шевчук был одной из достопримечательностей отдела. Не только отдела – всего института.
Видный ученый, он отличался не только талантливостью (талантливых было много), но и особой, из ряда вон плодовитостью. Чего только он не плодил! В каких жанрах не работал! Устные: доклады, выступления, «круглые столы». Письменные: книги, статьи, эссе, предисловия… Темы – любые, от общей наукометрии до эстетики пчел. Писал неудержимо, писал в перерывах между заседаниями, телефонными разговорами, консультациями, приемами гостей, хождениями в гости. Писал развратным почерком, примостясь где попало – на краю стола, на пульте машины или на собственном колене, не выпуская изо рта сигареты, не нуждаясь ни в тишине, ни в уединении. Все, что он писал, было ярко, самобытно, талантливо. Все – за исключением одного: стихов. Да, к сожалению, Шевчук писал еще и стихи – на редкость скверные. Как выразился однажды Полынин: «Сказать про стихи Даниила Романовича, что они плохие, – значит ограничить их сверху…»
И вот поди ж ты – поэтический зуд неодолимо преследовал Шевчука. Свои стихи он ценил больше всей остальной своей продукции, а в научные статьи всегда старался пропихнуть несколько строк столбиком, подписанных «Я. Мудрый» (этот псевдоним он выбрал, увидев где-то во Львове улицу Я. Мудрого). Тот факт, что вирши Шевчука иногда все-таки попадали в печать, можно было объяснить только его магическим влиянием на женщин, которых немало в составе редакций. Отнюдь не красавец, он пользовался большим успехом, ибо был абсолютно женолюбив, мог дышать только воздухом женского восхищения. Дело это взаимное: женщины вообще тяготеют к тем, кто искренне в них нуждается… Близость с женщиной была для него вовсе не обязательной: в большинстве случаев энергия разряжалась в разговорах. «Астральный бабник», – сказал про него тот же Полынин.
Нешатов Шевчука еще ни разу не видел. Работая на половине ставки, тот посещал институт нерегулярно. Отчеты Шевчука по теме «Искусственный интеллект» Нешатов читал, но с отвращением. Какая-то заумь, распутный, якобы философский жаргон. На каждом шагу «универсум», «социум», «парадигма»… Само название темы казалось, видимо, автору недостаточно пышным; он всюду, где мог, заменял его на «Опыт общей теории синтезирования и протезирования интеллекта»… Бррр…
– А что ему от меня нужно? – полувраждебно спросил Нешатов.
– Деловой помощи, – ответил Ган. – У него положение сложное. Один инженер сдает кандидатский минимум, другой уволился, две сотрудницы – в декретном. Любит окружать себя женщинами, забывая, что они время от времени рожают. Услышав про вас, он прямо загорелся.
– Что я не рожаю, это факт. А в остальном вряд ли я ему могу помочь. Не протезист.
– А мы посмотрим. Попытка не пытка.
Ган набрал номер.
– Даниил Романович? Привет. Что, если я зайду сейчас к вам вместе с Юрием Ивановичем Нешатовым?
Незримый собеседник долго крякал утиным голосом.
– Тем лучше, – сказал Ган, – приходите в общую, там просторнее.
Он положил трубку и пояснил:
– Даниил Романович сейчас придет. И не один, а с Дураконом.
– Кто это Дуракон?
– Сами увидите.
Вышли в общую комнату. Через несколько минут за дверью раздался маслено-бархатный баритон, командовавший «направо», «налево», «прямо». Дверь приоткрылась, и в щель просунулось нечто извивающееся, змеевидное. У этого чего-то было три головы, из которых пыхало пламя.
– Ой, кошмар! – взвизгнула Лора, поджимая ноги.
Змей просунулся полностью.
– Стоп! – сказал баритон.
Змей остановился, а вслед за Дураконом (это, видимо, он и был) вошел его хозяин, брюнет младшего пожилого возраста, смуглый, толстоватый, ноги врозь. Одет он был в ярко-малиновый бархатный пиджак, сильно потертый, узкий в животе (одной пуговицы недоставало). У горла раскинул крылья пышный галстук-бабочка, синий в белый горошек.
– Это Даниил Романович Шевчук, – представил его Ган, – а это наш новый сотрудник Юрий Иванович Нешатов.
Нешатов поклонился куда-то между Шевчуком и Дураконом. Шевчук, сияя нержавеющими зубами, подошел к нему и протянул руку. По дороге он споткнулся о Дуракона, тот начал было двигаться, но хозяин сказал ему «цыц». Дуракон остановился, вздрагивая сочленениями.
– Рад познакомиться, – сказал Шевчук. Он был похож на заговорившую маслину – лоснящийся, вкрадчивый. И вместе с тем в его улыбке было что-то обезоруживающее, детское. Рука была теплая, небольшая, с тонкими пальцами, желто окрашенными никотином.
– Даниил Романович, – обратился к нему Ган, – чем ваш воспитанник может нас сегодня порадовать?
– Чем хотите. Задайте ему сами программу действий.
– Ну пусть проползет от этого шкафа до того угла, а по дороге заползет, скажем…
– Под стул Лоры, – галантно предложил Шевчук.
– Ой, нет! – закричала Лора. – Я его боюсь!
– А вы, Магда, не боитесь?
– Ничуть, – сухо ответила Магда.
– Тогда он проползет под вашим стулом, – еще любезнее сказал Шевчук. – Проползти под стулом смелой женщины – особая привилегия.
Он внимательно оглядел комнату, пошевелил губами, присел на корточки рядом с Дураконом и не очень громко начал ему что-то втолковывать.
– Что он делает? – спросил Нешатов.
– Закладывает в него программу с голоса, – ответил Ган.
– Оп-ля! – крикнул Шевчук. Дуракон задвигался. Размером с большого варана, он полз, извиваясь, скребя кольчатыми сочленениями пол. Кое-где возле ножек столов он задерживался и начинал усиленно содрогаться. Люди сочувственно, но молча следили за ним. Он двигался куда нужно. Шевчук положил на пути Дуракона толстый отчет; тот, сохраняя направление, с усилием через него переполз, но через три отчета, положенные один на другой, переползать отказался; попросту растолкал их брюхом и двинулся дальше. Благополучно проползя под Магдиным стулом, только чуть помедлив у его ножек, Дуракон достиг цели – противоположного угла комнаты, – уперся в стенку и стал извиваться.
– Эх, я, недотепа, – сказал Шевчук, – забыл заложить «стоп». А ну-ка стоп!
Дуракон продолжал извиваться, словно хотел проломить стену.
– Стоп, болван! – крикнул ему Шевчук громовым голосом. Дуракон остановился. Одна из трех голов погасла.
– Не выносит грубого обращения, – пояснил Шевчук. – Дело, конечно, не в числе голов. Три головы – это художественная деталь, дань народному фольклору. Он вполне мог бы обойтись одной.
– А зачем ему даже одна? – спросил Нешатов.
– Мало ли зачем? Скажем, паять что-нибудь… Там поглядим.
Он выплюнул на пол вконец размокшую сигарету и немедленно зажег другую. Ган сморщился, но промолчал. Видно, положение Шевчука в отделе было особое.
– Ну как вам понравилось? – спросил Шевчук.
– Конечно, ползающее устройство… Кажется, такого еще не было?
– Не было. Но исполнение… Явно не перл технической мысли. Память не на жидких, а на твердых кристаллах. Надежность, как вы видели, неполная. Однако на наивные души производит впечатление. Иван Владимирович любит его демонстрировать посетителям. Приглашает нас с Дураконом к себе в кабинет, на столе коньячок, сигареты… Но все это пройденный этап, хотелось бы щегольнуть чем-то принципиально новым. У меня к вам, Юрий Иванович, особый разговор, приватный. Может быть, зайдете ко мне, в мой грот чародея?
– Могу, – не очень охотно согласился Нешатов.
Шевчук взял Дуракона под мышку и, поглаживая его, двинулся по коридору. Нешатов шел следом; хвост Дуракона вибрировал.
«Грот чародея» оказался закутком между двумя шкафами в комнате, густо засоренной книгами, микросхемами и радиодеталями. Белокурый молодой человек, сидевший среди этого развала, равнодушно поглядел на вошедших и опять углубился в книгу. Видно, душой он был уже не здесь.
Нешатов отыскал в куче деталей отвертку-индикатор, быстро починил Дуракону голову. Попробовал им покомандовать; тот, естественно, слушаться не стал.
– Привык к моему тембру, – как бы извиняясь, сказал Шевчук. – Согласитесь, тембр оригинальный.
Через полчаса Дуракон был забыт. Шевчук с Нешатовым сидели в «гроте чародея» и разговаривали. Точнее, говорил Шевчук.
– Не кажется ли вам, что наука – это способ смотреть на мир через множество узких окошек, а вовсе не панорама с широкой веранды?
– Не кажется, – угрюмо отвечал Нешатов.
– А мне кажется. И возникает вопрос: видим ли мы при этом одно и то же? Сомневаюсь, – Шевчук зажег новую сигарету и продолжал: – Вот мысль, вчера пришедшая мне в голову, еще не опубликована. Наука больше всего похожа на цирк. И там и там – презрение к любителям. И там и там – понятие высшего достижения, рекорда. И там и там – парадигмальность.
При слове «парадигмальность» Нешатов дрогнул, но смолчал.
– И там и там – клановость, – говорил Шевчук, – чувство принадлежности к среде. И там и там – гамбургский счет, точно устанавливающий, кто чего стоит. Клоун – это аналог методолога, который обязан уметь все и никого не должен заменять…
– А себя вы считаете методологом? – спросил Нешатов.
– Разумеется. Но вернемся к теме. Ученый строит математическую модель, а потом говорит: это и есть реальность. В результате она и ведет себя как реальность. Индусский ученый Сингх назвал это синдромом Пигмалиона. Вся проблема искусственного интеллекта, в сущности, сводится к синдрому Пигмалиона…
– Извините, у меня дела, – сказал Нешатов, вставая со стула.
– Ну, как ваша беседа с Даниилом Романовичем? – спросил Ган. – Достигнуто взаимопонимание?
– «Взаимо» – нет. Он, возможно, меня и понял, потому что я молчал. Я его не понял. «Парадигмальность»…
– Я так и думал, что этим кончится, – грустно сказал Ган. – А жаль. У Даниила Романовича бывают яркие технические идеи.
А в общей комнате тем временем шел разговор о Шевчуке. Первую скрипку, как обычно, вел Полынин.
– Даниил Романович, – говорил он, – человек ярко талантливый и так же ярко уклоняющийся от нормы. Талант и норма вообще враждебны. Личная его беда – безвкусица, которая из него так и прет. Его стихи, малиновый пиджак, псевдоним «Я. Мудрый»… Я говорю «беда», но это условно. Преизобилие во всем, отсутствие «умеренности и аккуратности», может быть, не беда его, а счастье. Самые блестящие идеи зарождаются как раз в таком умственном кавардаке.
– Его стихи ужасны, – содрогнувшись, сказала Магда.
– Мне они тоже не нравятся. Но, возможно, это ограниченность моего сознания, привыкшего к узкой специализации и относительному совершенству во всем. А Даниил Романович в своей откровенной неумелости даже трогателен. Вы бы посмотрели на его лицо, когда в каком-то журнальчике, чуть ли не «Следопыт», были напечатаны несколько его стихотворных строк! С какой невинной радостью он всем показывал этот журнальчик со врезкой: «Поэт Я. Мудрый сосредоточивает свой пафос на морально-космической теме»! В такие минуты из-под его сегодняшнего, скажем, зрелого облика выглядывает толстый мальчик, которому дали пирожное…
– Этот мальчик, – сказал Коринец, – вполне мог бы обойтись репутацией ученого и не позориться стихами.
– А вот поди ж ты, ему позарез нужно выразить себя еще и в поэзии. Знамение времени, очередной виток спирали. Когда-то в давние времена существовал тип всесторонне развитой выдающейся личности: ученый был одновременно и художником, и поэтом, и изобретателем, и врачом, иной раз – магом и шарлатаном. Потом человечество пошло по пути все более узкой специализации и на этом пути достигло больших успехов. И вот в наше время все чаще проявляются признаки обратной тяги – к универсализму. И Даниил Романович этому яркий пример.
– Ярко-малиновый, – хихикнула Лора.
– Это тяга не к универсализму, а к халтуре, – ворчливо сказал Малых. – Ему хочется задаром попастись на чужих угодьях. На наш век хватит точных наук, нерешенных задач. Каждую надо решать, надрывая пуп. Тут не порхание нужно, а честная усидчивость. Вы же сами, Игорь Константинович, остаетесь в пределах точных наук?
– Это во мне, как и в вас, говорит инерция мысли. Реликты мировоззрения философов-просветителей восемнадцатого века, веривших в универсальную силу разума. Полагавших, что спасение мира – в точном, трезвом знании. Это там, в восемнадцатом веке, корни позднейшего культа техники, веры в то, что технический прогресс сам по себе может дать человечеству счастье и процветание. Сегодня мы все больше убеждаемся, что это не так. Нельзя отрицать значения математики, физики, техники, но без должной гуманитарной основы они ничто…
Малых издал хрюкающее междометие.
– Но вернемся к предмету разговора – к нашему Даниилу Романовичу. Ему, с его талантом, тесно в рамках точных наук, он из них выламывается. В наше время немало таких, выламывающихся. Математик вдруг бросается в лингвистику, в теорию стиха, инженер – в психологию, социологию, медицину… На первых порах все это, может быть, не очень удачно. Не обладая должной гуманитарной культурой, они зачастую творят глупости, но сама тенденция прогрессивна. Время требует разрушения барьеров. Такие люди, как Даниил Романович, – ценнейшие мутанты в науке, от них пойдут новые линии. Думая о таких, выламывающихся, я всегда их жалею. В православном богослужении есть замечательные слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении душ их Господу помолимся…»
– Игорь Константинович, неужели вы верующий? – спросила Лора с безграничным изумлением. – Вот уж не ожидала!
– Я не верующий, но получил строгое религиозное воспитание, моя бабка удивительная была женщина, столп добродетели. В детстве веровал, потом, разумеется, отошел от веры. Но до сих пор думаю, что во всем этом что-то было, чего не стоило отбрасывать. Например, понятие «грех». Это понятие жгло. «Не бросай хлеб на пол – грех». А десять заповедей? «Не убий», «Не укради», «Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна»…
– Что значит «не послушествуй»? – спросила Лора.
– Краткий смысл этой заповеди: не пиши ложных доносов. В человеческом обществе должны существовать такие табу, нарушение которых внушает ужас. Упразднение их – одна из причин распространенности в наше время так называемых немотивированных преступлений. «Почему ты его ударил ножом?» – «А так…» Заметьте, что классические мотивы преступлений – корысть, желание получить наследство, устранить соперника и прочее – отошли, по крайней мере у нас, на второй план. В каноническом детективе прежде всего ищут, кому бы это могло быть выгодно? В условиях, когда преобладают немотивированные преступления, эта схема не годится. Надо бы создать новый жанр «антидетектив» – специально по расследованию абсурдных, нелогичных преступлений, не приносящих никакой выгоды преступнику…
– А вы напишите такой антидетективный роман, – посоветовал Толбин. – У вас хорошо получится.
– Нет, я работаю только в устном жанре. Так сказать, устный графоман.