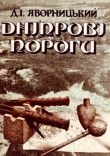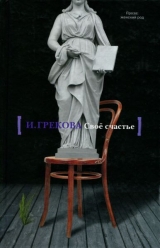
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
23. Новогодняя ночь
В два часа ночи раздался звонок, Нешатов подошел.
– Юра, это ты?
– Я.
– С Новым годом тебя. С новым счастьем!
– Ах, это ты…
– А ты думал кто? Что же ты не поздравляешь меня с Новым годом?
– Виноват, поздравляю.
– Как я ждала этого Нового года! В декабре ты обещал: в будущем году… Можно я сейчас к тебе приеду?
Нешатов молчал.
– Не хочешь? Я все равно приеду. Схвачу такси…
– Послушай, Даная…
– Поздно, неси назад.
Короткие гудки. Он огляделся. Титанический беспорядок. Больше, чем всегда.
Новый год он встречал с Ольгой Филипповной. Выпили шампанского. Расцеловались. Пили еще какую-то бурду. Телевизор бесчинствовал: какие-то приплясывающие кадры, на миг покрывающиеся рябостью. Актеры, актрисы, изо всех сил имитирующие счастье, и не какое-нибудь, а «новое». Что ж! Их работа.
Вырубил звук. Актеры и актрисы молча разевали рты, мучились. Не выдержал, ушел к себе. Только собрался спать – звонок. Даная. Прибирать бессмысленно. Как черпать воду решетом. Только перегоняешь пыль и вещи с места на место. Ольгу Филипповну он давно отлучил от уборки, она уж и не порывалась.
Старуха за стеной уже ложилась, вздыхая, что-то приговаривая. До чего же она уютная, со своим бормотком, своими историями… Может быть, он такой потому, что у него никогда не было бабушки?
Во дворе сиял фонарь, вокруг него носились в сумасшедшей пляске хлопья снега. Они окунались в свет фонаря и сразу же пропадали в крутящейся тьме. Точно так же ровно год назад…
Звоночек раздался тонкий, маленький. Пошел открывать. На пороге Даная – яркая, румяная, с хлопьями на плечах, на нависшем меху лисьей шапки. Она сразу же поцеловала его в губы; от нее пахло морозом, вином, зеленым луком.
Странно, ему было приятно, что она пришла. Сняла пальто, шапку, отряхнула снег, встала перед зеркалом, легким движением руки снизу вверх взбила ржаные волосы, вынула тюбик помады, подкрасила губы, потерла их одну о другую; лизнула палец, пригладила, подщипнула брови… Он смотрел, поражаясь целесообразности каждого ее движения. Это не то что его уборка – с места на место.
– Что ты меня так рассматриваешь? Будто ни разу не видел.
– В этом году ни разу.
Она засмеялась.
– Хорошо я смеюсь? Анна Кирилловна говорит, что мой смех как золотой дождь.
– Это преувеличение. Скажем, серебряный.
– Выпить-то у тебя найдется? Хочу выпить с тобой. Мечтала.
– У Ольги Филипповны осталось полбутылки какой-то красной бурды. Она уже спать легла, не хочу беспокоить.
– Великое дело! Я ее побеспокою, а заодно и с Новым годом поздравлю.
Через минуту «золотой дождь» шел уже за стеной. Старуха даже как будто довольна была, что ее разбудили: смеху Данаи вторил ее басовитый хохоток.
Нешатов возился у письменного стола и опять перекладывал вещи с места на место. Лучше не становилось. Он сбросил всю кучу на пол, вытер стол газетой. Даная все смеялась, ему было уже досадно, что она так долго не возвращается. Какого черта? Наконец отворилась дверь, она вошла с подносом: закуски, рюмки, полбутылки вина.
– Ну, не молодец ли я? Все достала. И Ольга Филипповна была мне рада. Ты чего молчишь?
– Я думал, ты пришла ко мне, а не к Ольге Филипповне.
– Ревность? Что-то новое. Я рада. Говорят, ревность – тень любви.
– Бывает тень без предмета, ее отбрасывающего.
– Сегодня я тебе не верю. На самую чуточку, на кончик мизинца, но любишь.
Нешатов не возражал. Она расставляла все принесенное на столе и вдруг споткнулась.
– Осторожнее, там мои бумаги!
– Чего ж ты их на полу держишь?
– Прибирал к твоему приходу.
– Странный способ прибирать. Впрочем, тебе идет беспорядок. Мне тоже. Мы с тобой такие нестандартные, как беззаконные кометы, говоря словами Пушкина. Все хочу списать эти стихи и выучить, но забываю. У тебя нет елки?
– Нет. С чего бы это у меня могла быть елка?
– С того же, с чего у всех добрых людей.
– Я не добрый человек.
– Пусть так. Но сегодня ты почему-то добрей обычного.
– Просто пьян.
– Тогда будь пьян, если ты от этого добрей. Знаешь, я принесла елочные свечи. Давай зажжем их так, без елки, и будем с тобой пировать.
– Чудачка. Делай как знаешь.
Она вынула из сумки коробку юбилейных свечей. Накапав стеарину прямо на стол, расставила свечи вокруг тарелки с закусками. Две оставшиеся изогнула, подвесила к ушам наподобие сережек, фитилями кверху. Скомандовала: «Зажигай!» Он нехотя вынул спички и зажег все свечи, кроме двух последних.
– Зажигай и эти! – храбро сказала Даная.
– Это дурость. У тебя загорятся волосы.
– Пускай горят ко всем чертям.
Она сама зажгла обе свечи, качавшиеся у ее щек. Колеблющийся свет, бросая черные тени, выделил из небытия короткий прямой нос с продолговатыми прозрачными ноздрями, глубокую ложбинку от него к привздернутой верхней губе, все лицо, ставшее внезапно и загадочно красивым. Огоньки свечей, синие у корня, красноватые вверху, тянулись уже к волосам.
– Даная, сумасшедшая, сейчас же погаси!
– Гаси сам.
Он дунул на свечи. Едкий дымок пополз кверху. Данаино лицо, только что прекрасное, погасло и стало заурядным.
– Не понимаю, – брюзгливо сказал Нешатов, – с чего тебе вздумалось устраивать иллюминацию?
– Так Новый год же! И, кроме того, наш с тобой юбилей.
– Какой юбилей?
– А ты не помнишь? Три месяца…
Он вспомнил. Вороха сухих листьев. Шуршание куртки. Данаино лицо в темноте. Запах грибов. По ощущению – три жизни назад.
– Не помню, – сказал он. – И вообще не зли меня.
– От тебя нужно было бы сразу, тут же, уйти. Чтобы не я тебя искала, а ты меня.
– Что ж, уходи.
– Пока не могу. Не бойся, это пройдет. Я по опыту знаю. А пока потерпи. Давай выпьем этой бурды.
Огоньки свечей дрожали в гранатовой жидкости. На вид вино было хорошее. Выпили.
– Да, не фонтан, – сказала Даная. – Знаешь, о чем я думала, когда ехала к тебе? Строила мысленно график потребления спиртных напитков в функции времени. Кривая идет себе и идет, с небольшими пиками в субботу и воскресенье, и вдруг, в двенадцать часов ночи первого января, – грандиозный пик, за пределы миллиметровки. Причем пик асимметричный: крутой подъем и пологий спад. После двенадцати люди еще допивают. Давай допьем!
Допили. Есть не хотелось. Вилки скребли по тарелкам с противным звуком.
– Я ведь пришла уже со встречи, – болтала Даная. – Мы роскошно встречали, у Малыха. Тебе нравится Малых? Мне – да. Весь какой-то усеченный, но приятно усеченный. И жена такая же и близнецы – Рома и Дима. Все коллективно произошли от ежа. Мальчики сидели за столом, пили лимонад и дрались молча. Но когда отец скомандовал «спать», взялись за руки и покорно пошли. По дороге пинали друг друга ногами. Это у них форма общения, язык жестов. Все в отца. В нем тоже смесь бунта и послушания. Как он обожает Игоря Константиновича, ты заметил?
– Я как-то к нему не приглядывался.
– Напрасно. Малых – это явление природы. Странно, всех зовут по имени, а его по фамилии. Его даже жена зовет «Малых». Что ж, до революции это было принято, звать по фамилии. «Онегин, я тогда моложе…» – пропела Даная. – Сегодня она звала бы его Женькой.
– А кто там был? – спросил Нешатов как бы нехотя.
– Почти все свои, отдельские. Во главе с Фабрицким. Они с женой Галиной Львовной такой шейк отгрохали – хоть стой, хоть падай. А ведь ему шестьдесят! И ей не меньше пятидесяти! Видел бы ты, что они выделывали! Пегасы! Она стройная, складная, ни намека на живот, ноги прямо от шеи растут. Не скажешь, что бабушка. А про него только петухи не поют…
– Что это значит?
– Мамино присловье. Она всегда так говорила, когда хотела похвалить. Вымою посуду, похвастаюсь, а она: про тебя только петухи не поют! Подумать, я уже старше, чем была мама, когда умерла. Обгоняем своих покойников.
– А еще кто был?
– Многие. Анна Кирилловна в розовом. Максим Петрович с женой. Даже танцевал, как медведь в цирке. А из молодежи я – меня условно можно причислить к молодежи, – Илюша, Феликс, Магда…
– А она в чем?
– В бордовом вечернем, до полу. Каблуки. Губы не крашены, волосы – блеск. Я думала, что ты платьями не интересуешься.
– А я и не интересуюсь. Просто так спросил.
– Спросил, потому что Магда.
– Отстань ты от меня со своей Магдой.
…Нешатов смотрел в окно. Там разгулялась форменная метель. Пляска снежинок вокруг фонаря становилась все безумнее, и сам фонарь, накренившись, куда-то летел…
– Знаешь, Юра, – сказала Даная, – я не должна была бы тебе говорить, но скажу, я сейчас пьяная. Когда обсуждали, кого пригласить на встречу Нового года, речь зашла о тебе. И, представь себе, Фабрицкий был против. Сказал: «Воздержимся. Человек для нас новый. Еще не вошел в коллектив. И неизвестно, войдет ли». Странный какой-то был у него тон. Как будто он что-то плохое про тебя знает.
– Это ты предложила меня пригласить?
– Ну, я.
– Кто тебя тянул за язык? Я все равно не пошел бы. Прошлый раз я встречал Новый год в больнице. По сравнению с той встречей – любая другая не тянет.
– А какая была встреча? Неужели вам вино давали?
– Конечно, нет. Ничего спиртного, кроме валокордина, и то не вволю, а по назначению врача. К твоему графику потребления напитков мы не добавили ни капли. Но все-таки ночь была особая, какая-то историческая. Врачей почти не было, а дежурные сестры, санитарки смотрели телевизор вместе с больными. Новогодний концерт, все пошли туда, и только мы трое остались в палате. Мы – это старик с паркинсонизмом, мальчик-студент и я. Так хорошо, душевно поговорили. С виду милые, тихие, нормальные люди. А внутри чего только не нагорожено! Какие-то подвалы, чердаки, забитые мыслями, как старой мебелью. И у каждого внутри что-то стучит, твердит. У нас с мальчиком: «Я, Я, Я». А у старика: «Мы, человечество». Содержания разговора уже не помню. Может быть, он вообще был без содержания, разговор как таковой, разговор как стихия. Помню только, что мы в нем что-то такое отменили, какие-то предрассудки, табу. И в их числе Новый год. От него мы отрешились, даже на минутную стрелку ни разу не поглядели. О том, что он наступил, мы узнали по бою часов кремлевской башни и по шуму в столовой… За окном, во дворе, светил фонарь и летели снежные хлопья, совсем как сейчас…
– Не смотри туда, забудь. Смотри на меня. Я к тебе пришла. Думаешь, легко было оттуда уйти? Не пускали.
– Скажи, а когда Фабрицкий возражал против того, чтобы меня приглашать, что сказали другие?
– Анна Кирилловна сказала, что ты симпатяга и совсем не чужой, а свой в доску.
– Я не симпатяга. И не свой в доску. Нигде я не свой.
– Юра, раз уж я начала выдавать тебе секреты, покачусь по наклонной и выдам еще один. Только поклянись, что никому не скажешь.
– Я и так не скажу. Я, как ты заметила, не болтлив. В трезвом состоянии. А пить я с ними не собираюсь.
– Так вот, у Фабрицкого какие-то неприятности. Мне Нинка, секретарша директора, сказала: на него пишут письма. На него, и на бабку, и вообще на всех докторов.
– Что ж, это естественно. На него должны писать письма. Он на них напрашивается.
– Ты как будто считаешь это правильным?
– Личное дело автора.
– А вдруг Фабрицкого снимут?
– Ничего страшного. Найдется другой. Может быть, распорядится, чтобы делали мой дисплей.
– Юра, ты сегодня странный. Сам на себя не похож.
– Просто пьян. А пьяный я прекрасен. Не правда ли?
– Для меня ты всегда прекрасен.
– А для себя – никогда.
– А я, говоря между нами, себя, Данаечку, очень люблю. Такая душечка (восклицательный знак). И за что только ей досталась такая неудачная жизнь? Мужей не любила. Любила не мужей. Детей не было. Один Чёртушка, да и тот оказался не котом, а кошкой.
– Да, не повезло тебе с ним. Да и со мной тоже.
– Ну, скажи толком: почему ты меня не любишь?
– В таких делах не спрашивают «почему».
– Любишь Магду?
– Привязалась ты ко мне с этой Магдой. Сказано: нет, не люблю.
– Если не Магду, так кого? Неужели эту змею, Марианну? Кстати, как ее отчество?
– Андреевна.
– А фамилия?
– Моя. Если за это время не изменилась. Могла развестись в одностороннем порядке. А на что тебе ее фамилия?
– Просто так. У тебя ее карточки нет?
– Нет.
Нешатов вспомнил ту, с выколотыми глазами, и передернулся спиной.
24. Соперницы
Марианна Нешатова вернулась с работы в семь часов – проводила родительское собрание. Одна из самых тяжелых работ: тридцать человек, и у каждого свое дитя – центр мира.
Лифт, как нарочно, не ходил. Она стала подниматься по лестнице. Сердце… Рановато вы стали жаловаться на сердце, Марианна Андреевна.
Сверху вниз, галдя и пересмеиваясь, шла компания юнцов. Шаркали подошвы по ступеням, стонала гитара, которой, видимо, стукали по перилам. Марианна поджалась внутренне, как всегда, когда встречалась с такими компаниями на улице, во дворе… В хохочущем многоголосье она различила голос сына, его типичное «пля-а-вать!». И в самом деле он спускался по лестнице вместе с другими, без шапки, вяло замотанный шарфом, вихляя ногами, глубоко засунув руки в карманы. Юнцы были долговязые, небритые, нетрезвые. Позади всех топала какая-то девушка, невзрачная, серая лицом.
– Паша, – окликнула Марианна.
Он остановился на площадке, отстав от компании. Бледный до синевы, кривой плечами, коленчатый.
– Привет! Это ты кстати появилась. Слушай, мать, подбрось десятку.
– Паша, я тебе вчера дала двадцать пять. Неужели потратил?
– Занял в долг одному парню.
– Не «занял», а «дал в долг», – автоматически поправила Марианна. – «Занять» можно не парню, а у парня.
– Правильность родной речи, – скривился Павел. – До чего вы все нудные, педагоги. Вот и наша русачка такая же: ей говоришь, а она ошибки поправляет. Пля-а-вать на содержание, была бы форма. В общем и целом гони десятку.
– Паша, ты знаешь, у меня эти десятки на полу не валяются. Каждая достается трудом.
– А труд надо уважать, и тэ дэ, и тэ пэ. Мораль мелкой буржуазии. Не хочешь просто дать – займи. Извиняюсь, дай в долг. Верну с процентами.
– Под какие такие доходы ты занимаешь деньги?
– А это уж мое дело. Может быть, я по ночам грузчиком работаю.
– По ночам ты не работаешь, а спишь. Утром в школу тебя не добудишься.
– Теперь уже и спать мне нельзя! И это называется воспитание! Юному организму необходим сон.
– Не паясничай.
– А ты не задерживай. Меня ждут. В последний раз спрашиваю: дашь?
– Нет.
– Ну и подавись своей десяткой.
– Паша!
Снизу раздался свист, и несколько голосов крикнули:
– Раз, два, три… Ушат!
– Что это значит – «Ушат»? – спросила Марианна.
– Моя подпольная кличка. Некогда мне с тобой. В общем, не жди.
И загрохотал вниз по лестнице.
Марианна продолжала свой тягостный путь наверх. Руки у нее дрожали. Снизу доносилось греготание. «Грегочет какая-то тварь» – это Помяловский, «Очерки бурсы». И Паша с ними. Ключ бился, не попадал в скважину. Вошла. Та самая, отдельная, двухкомнатная, которой так радовались тогда с Юрой. Юры нет. Паши нет. И винить некого, сама виновата во всем.
Заглянула в кухню – там остатки какого-то пиршества. Бутылки, окурки, грязная посуда. Из крана течет вода. И не завернули… Начала мыть посуду. Мыть и ставить. Мыть и ставить. За стеной прогрохотал лифт. Напрасно пешком поднималась, надо было подождать.
Каждая моя слеза заслуженна. Но Паша-то, Паша в чем виноват? Вырос без отца. Когда спрашивал: «Где папа?» – отвечала: «Папа от нас ушел». Среди его товарищей немало было таких, брошенных. Старалась дать ему побольше, чтобы не чувствовал себя обездоленным. Работала на полутора ставках, давала уроки… Хочешь магнитофон – пожалуйста. А ему ничего не надо было, кроме отца…
Вся беда в этом чувстве вины перед Пашей. Если бы не оно, воспитала бы его лучше. Хотя кто знает? Воспитание – всегда загадка. И мы, педагоги, ничуть не лучше умеем воспитывать, чем простые смертные. Где, где, когда я его упустила? Если бы знать! Впрочем, зачем знать? Другого сына у меня уже не будет.
Позвонили в дверь. Коротенький, робкий звонок. Неужели Паша вернулся? Не может быть! Нет, не он. Незнакомая женщина, щеголеватая, в импортных сапогах, шапка лисьего меха, из-под шапки желтые волосы.
– Марианна Андреевна?
– Это я.
– Меня зовут Даная. – Рука у гостьи была энергичная, маленькая, теплая.
– Раздевайтесь, проходите, пожалуйста. Только извините, у меня беспорядок.
Сказать про эту обстановку «беспорядок» значило ничего не сказать. Нагажено было экзотично, преднамеренно. Брюки переброшены через люстру, горшок с цветком опрокинут, корни жалобно высунулись в воздух. Мальчики забавлялись…
– Только что пришла с работы, – пыталась оправдаться Марианна.
– Ничего, я привыкла, – сказала Даная. «Значит, это у них семейное», – подумала она.
Сели. Марианна скрестила на коленях тонкие руки. Даная волновалась.
– Марианна Андреевна, я пришла к вам без приглашения. Адрес узнала в справочном. Нужно было позвонить по телефону…
– Номер переменился.
– Дело не в этом. Если бы я позвонила, вы бы мне наверняка отказали встретиться. А мне нужно было видеть вас обязательно.
– Пожалуйста, я вас слушаю.
– Дело в том… Ну, коротко говоря, дело в том, что я любовница вашего мужа.
– У меня нет мужа.
– Все равно, бывшего мужа. Мне необходимо с вами о нем поговорить.
– Почему со мной?
– Потому что вы его хорошо знаете.
– Допустим, что так. Знала, во всяком случае.
– Как вы думаете, способен он на дурной поступок?
– Странный вопрос. Пожалуй, способен. Но не на пользу себе, а во вред.
– Это вы хорошо сформулировали. Я тоже что-то такое чувствовала. Попутно еще один вопрос: вы когда-нибудь были брюнеткой?
– Никогда.
– Значит, этот вариант отпадает.
– Какой вариант?
– Неважно.
– Даная… А по отчеству?
– Просто Даная. Я еще моложусь. А вы?
– Даная, я не понимаю, что за странные вопросы. С Юрой что-нибудь случилось?
– Боже упаси. Ничего не случилось. Просто я его люблю, но не понимаю и хочу лучше его понять. Мне хочется разобраться, почему он несчастен. И как с этим бороться? Если бы я могла сделать его счастливым ценой отдачи другой женщине, я бы его отдала обеими руками, честное пионерское. Его горе прямо разрывает мне душу, это красиво сказано, но правда. Поэтому я к вам и пришла. Конечно, вы не можете обеспечить, чтобы он меня полюбил. Но помогите мне хотя бы понять его. Может быть, я к нему найду более удачный подход. Наш разговор, конечно, не похож на разговор двух соперниц. Если бы я была счастливая соперница, с моей стороны это было бы нетактично. Но я несчастная соперница… – Даная уткнулась лицом в ручку кресла и зарыдала. Марианна растерялась:
– Успокойтесь, выпейте воды. У меня есть сердечные капли. Дать?
Даная трясла головой:
– Не поможет. У меня сердце как у слона. И вообще плакать полезно. Это даже в одном научном журнале написано… – Она высморкалась. – Надо открывать… свои шлюзы…
– Ну, открывайте, я подожду.
Отплакавшись, Даная повеселела:
– А почему у вас брюки висят на люстре?
– Это не у меня. Это развлекался мой сын Паша с товарищами.
– У вас сын? Тоже для меня ново. Сколько же ему лет?
– Скоро семнадцать. В девятом классе.
– Похож на Юру?
– Что-то общее есть.
– Ведь Юра, строго говоря, нехорош. Красивы в нем только глаза и общая отвлеченность. Я иногда сама не понимаю, что я в нем нашла. Есть у нас в отделе Феликс Толбин. Он и Юра – это небо и земля. Феликс – буквально красавец. Зубы белые-белые. И особая такая улыбка – молниеносно возникающая и молниеносно пропадающая. Ну что бы мне влюбиться в него?
– Даная, вы меня извините, я хочу здесь хоть немножко прибрать.
– Не надо. Здесь хорошо. Нелепо. Эти брюки на люстре. Как раз под стать моему настроению.
– Вы курите? – спросила Марианна.
– Очень редко. После тяжелых переживаний. Мой кот Чёртушка, впрочем, не кот, а кошка, я его по инерции зову котом, – оказывается, очень любит есть окурки. Залезет лапой в пепельницу, вытащит окурок и жрет. Причем только окурки, целая сигарета его не интересует. Это явление меня так заинтересовало, что я даже утешилась в своем горе.
– А я курю.
– Давайте закурим. Будем считать сегодняшнюю встречу за тяжелое переживание.
– Только перейдем на тахту.
Перебрались на тахту, поджали ноги и закурили. Через час они разговаривали уже на «ты».
– Какие у тебя красивые ноги, – говорила Даная, – вечный предмет моей зависти. У меня ноги тоже ничего, прямые, но массивные, особенно сзади. В целом-то я смотрюсь. А как ты с ним познакомилась?
– На дне рождения у моей подруги. Танцевали. Юра тогда был очень красив, поразил меня с первого взгляда. Лицо какое-то летящее. Похож на архангела Гавриила, или кто у них там является к деве Марии.
– Я в архангелах не разбираюсь. Блондин?
– Светлый шатен. Рубашка нейлоновая, белая, тогда их только начинали носить. Без галстука, шея высокая. Я пришла на вечер с одним мальчиком, Витей, мы с ним собирались жениться, а увидела Юру – и все кувырком. Витя забыт, все забыто, только Юра, его глаза, руки… Крутили какую-то заграничную пластинку, называлась «Вечернее танго», Юра меня обнимал, и было слышно, как под нейлоновой рубашкой бьется его сердце, а я все падаю, падаю…
– Я это понимаю, во мне от него тоже все падает.
– Ну, теперь его и сравнить нельзя с тогдашним. Это была какая-то магия. Я подошла к Вите и велела ему немедленно уйти домой. Он ничего не понял, но послушался. Я осталась свободная, и мы с Юрой опять танцевали, а я все заводила ту же пластинку. Другие возражали, тогда в моде был рок-н-ролл, а танго пахло стариной, как теперь говорят, «ретро». И мы в этом «ретро» купались. Чудесный был вечер. Стали расходиться, Юра пошел провожать и на площадке лестницы, не доходя до моей коммунальной квартиры, сказал, что меня любит. Представь себе – черная лестница, кошками пахнет, и тут же его лицо, и эти слова… Будто прожектором все осветилось. Нет, словами это передать невозможно.
– Я понимаю. Именно магия. Я в кино видела, как факир заколдовывал кобру. Что-то общее, безусловно, есть.
– С факиром или с коброй?
– С обоими. Но больше с факиром. У меня к Юре тоже возникла любовь с первого взгляда. Увидела его глаза, одну бровь выше другой – и всё. Готова.
– Тогда у него брови были на одной высоте, – суховато сказала Марианна. – И глаза совсем другие.
– Почему ты от него ушла? Разлюбила?
– Я не ушла и не разлюбила. Ушел он, разлюбил он. А я просто споткнулась о другого человека. Нестоящий был человек. Натерпелась я от него – дай боже.
– А другие потом у тебя были?
– Бывали.
– Любила ты их?
– Нет. Впрочем, одного, пожалуй, любила. Много меня старше. Ничего не вышло: женат, дети, внуки, и у меня Паша…
– Понятно. А скажи, ты к Юре ходила, когда он был… там?
– В том-то и горе, что не ходила. Чего-то боялась. Разговора с ним боялась. Его глаз…
– Вот уж не думала, что ты трусиха. Вид у тебя смелый. Ты кто по профессии?
– Педагог. Преподаю в школе русский язык и литературу.
– Так это же счастье – быть педагогом!
– Я недопедагог. И вообще недочеловек. Баба я, и больше никто. Боюсь чужого несчастья.
– А я не боюсь. Ни сумасшедших, ни преступников, ни подлецов, ни слабых. Они даже меня как-то вдохновляют. Все от него отвернулись, а мне тут-то и интересно.
– Хороший ты человек… Женщина.
– Просто шалая. Время от времени мне надо менять свою судьбу. Вывернуть ее наизнанку, как лист Мёбиуса.
– Какой лист?
– Мёбиуса. У которого только одна сторона. Первый раз слышишь?
– Первый раз.
– Сейчас я тебе покажу. Есть у тебя бумага, ножницы, клей?
Все нашлось. Даная вырезала бумажную ленту и, вывернув ее, склеила концами:
– Вот он, лист Мёбиуса! Сколько у него сторон, как ты думаешь?
– Понятия не имею.
– Думаешь, две?
– Ну, две.
– А вот и нет! Сторона у него одна. Веди пальцем и убедишься.
Марианне было неинтересно: одна так одна. Даная огорчилась:
– До чего же вы, гуманитарщики, равнодушные! Ничем вас не проймешь.
Марианна вдруг заплакала.
– Ой, прости, – воскликнула Даная, – прости, если обидела. Ты что, ревнуешь?
– Нет, нет.
– Ты в самом деле не сердишься, что я с ним?
– В самом деле.
– Правильно делаешь, потому что я не с ним. Мне иногда кажется, что я даже не люблю его по-настоящему. Любить по-настоящему можно только человека, которому ты нужна. А я ему не нужна. Ну, что ты плачешь, Марианна? Не надо! Ну, хочешь, я с сегодняшнего дня порву с ним навсегда, хочешь?
– Мне от этого легче не будет.