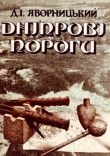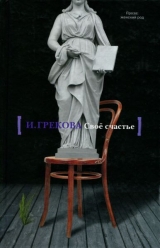
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
6. Так и живем
Сидя в своем закутке, Ган говорил по телефону. Разговор был длинный, сложный. Речь шла о фотоэлементах, совершенно необходимых отделу, но не предусмотренных заявкой на материально-техническое оборудование. «Куда же ты смотрел, мил человек? – спрашивал собеседник. – У нас же плановое хозяйство!» Мил человек хотел сказать, что нельзя все предусмотреть заранее, жизнь вносит коррективы в любой план, но промолчал: собеседник знал это не хуже его. Да и любой человек, связанный с деловой жизнью, это знает, постиг на собственном опыте. Множество мелких абсурдов. Не то чтобы этих фотоэлементов вообще не было, на нет и суда нет, – в том-то и дело, что они были, где-то находились физически, а вся трудность состояла в том, чтобы занести их в какую-то рубрику и произвести некий обмен бумагами. Не классические «товар – деньги – товар», а мистические «бумага – бумага – бумага». Говорят об экологии, а сводят леса на бюрократическую переписку…
– Ну, ладно, звякни мне через пару недель. Бывай здоров, некогда, – сказал собеседник. Ган услышал короткие гудки и тоже положил трубку.
«Так и живем, – подумал он. – Нервы, кровь, сердце – все в жертву фикциям». Вещь обычная: пару недель будет стоять работа, но сейчас, в его неустойчивом состоянии, с комом в груди под левым лацканом, его угнетало все. Море организационных мелочей – снабжение, выбивание, согласование, – в котором он до сих пор плавал уверенно, не без удовольствия, вдруг представилось ему во всей своей беспросветности. Мир обратной перспективы, где искажены все пропорции, где мелочи вырастают в проблемы, а настоящие проблемы решаются сплеча, без размышлений. Где никто не хочет взять на себя ответственность, всякий старается перепихнуть ее на другого. Где благополучие каждого сложным образом зависит от умения перепихивать. Перепихнуть, но не переборщить. Он всегда гордился своим умением разбираться в этом мире, видеть под внешней пеной слов и восклицаний реальные движущие силы. До сих пор чутье ему не изменяло. А сейчас…
Уйти? Уступить свои права и обязанности Толбину? Пускай повоюет. Растущий кадр. А что, справится. Незаменимых нет.
Уйти, но куда? К научной работе он уже неспособен, надо смотреть правде в глаза. Когда-то мог, подавал надежды. Снова начинать поздно. Может, и в самом деле выйти на пенсию, начать на досуге писать… А что он может написать? Какие-нибудь «Записки хозяйственника». Бред!
В дверь постучали. «Войдите». В дверном проеме появилась, весь его заполнив собой, Анна Кирилловна. Каждый раз в чем-то новом, на этот раз – в голубом, юном. Она протиснулась между шкафами и с трудом уселась на единственный стул, боком приткнутый к столу Гана.
– Анна Кирилловна, я знаю, за чем вы ко мне пожаловали. Фотоэлементов нет.
– Так это же хана! – сказала Анна Кирилловна, пылко закуривая. – А когда будут?
– Предложили «звякнуть» через две недели.
– Я им звякну! Я им так звякну, что своих не узнают. Я до министра дойду!
– Доходите, – спокойно сказал Ган, – но получения фотоэлементов это не ускорит. В лучшем случае лицо, предложившее мне звякнуть, получит нагоняй. И в следующий раз будет тормозить любую нашу заявку.
– Так что же нам, остановить работу?
– Займитесь теорией.
– Вы знаете, что особой теории в нашей работе нет. Теория там на уровне дважды два – четыре.
– Попробуйте доказать, что не четыре, а пять.
Анна Кирилловна тихонько и не очень сильно выругалась.
– Ну-ну, не огорчайтесь, – сказал Ган. – Что-нибудь да придумаем. Несколько элементов мне обещали в одном дружественном НИИ. Разумеется, взаймы, с отдачей.
– Вот за это спасибо. А как насчет Нешатова? Когда вы мне его дадите?
– Похоже, он к вам идти не хочет. Я подключил его к группе Вишняковой. Не знаю, что из этого выйдет. Человек сложный.
– Со мной он не был сложным.
– Что делать, времена меняются.
– Вы его не уговаривайте идти ко мне. Я как-нибудь сама его заманю. Когда приведем автомат в человеческий вид. Все.
Анна Кирилловна вышла. Ган снова взялся за телефон. Несколько раз набирал номер – занято. Опять постучали в дверь. На этот раз вошел Нешатов – бледный, жесткий, решительный.
– Здравствуйте, прошу садиться, – сказал Ган.
Нешатов сел на косо поставленный стул и сразу же начал:
– Борис Михайлович, я пришел подать заявление об уходе. Я не могу здесь работать. Извините, что доставил столько хлопот.
Он положил на стол заявление.
– Что случилось?
– Ничего не случилось. Не могу. Не понимаю. Как говорится, не сливаюсь с коллективом. Одним словом – не могу.
– Постойте, не торопитесь. Бумагу возьмите назад. Сложите вчетверо, суньте в карман. А теперь рассказывайте. Кто-нибудь вас обидел?
– Никто. Напротив, все со мной даже слишком предупредительны. Кстати, вы им говорили о моем прошлом?
– Честное слово, не говорил.
– Все равно. Меня здесь принимают за кого-то другого. Ждут от меня того, чего я не в силах дать.
– Каждого из нас люди принимают за кого-то другого. А и существует ли он в действительности, этот истинный «я», а не кто-то другой? Большой вопрос. Каждый человек существует не сам по себе, а во множестве перевоплощений, отраженный сотнями глаз других людей. Или, вернее, одним коллективным глазом, имеющим множество фасеток, как глаз мухи. Вы когда-нибудь думали о том, как муха может сливать все эти изображения в одно?
– Нет, признаться, не думал. Как-то было не до этого.
– Опять ваша язвительность. А мне насчет глаза мухи приходилось задумываться. Была у меня идея, уже давно, использовать принцип мушиного глаза в датчике машины. Тогда еще о бионике речи не было, не знали даже такого слова. Ничего из этой идеи не вышло. Не довел до конца. Не было со мной в одной упряжке хорошего инженера вроде вас.
– Только не хвалите меня. Мне от этого физически худо. У меня аллергия на лесть. Когда меня хвалят в глаза, я покрываюсь волдырями.
– Охотно верю. Постараюсь не хвалить. А как насчет бессмертия души?
– Под вопросом. Можно я закурю?
– Так и быть, вынесу.
Зазвонил телефон. На этот раз чего-то требовали от Гана – назойливо, мелко. Он терпеливо отвечал: «Не могу, не могу, не в моих возможностях», – и в конце концов сказал: «Попробуйте позвонить через две недели».
Нешатов курил. Сложенный вчетверо лист бумаги с заявлением об уходе поскрипывал у него в кармане. Пожалуй, поторопился, надо было сперва посоветоваться с Ганом. Этот человек с бледным лбом действовал на него умиротворяюще: какое-то волнами идущее теплое понимание. Каждый раз, говоря с Ганом, он испытывал ощущение безответственного комфорта, какое бывает при малой болезни: предписан постельный режим, ничего не надо делать, тепло, лежи.
– Ну, – сказал Ган, – а теперь говорите, в чем дело. Только на днях мы с вами были в лаборатории. Вы познакомились с милыми людьми, присутствовали на опыте, мне даже показалось, что вам было интересно, или я ошибся?
– Нет, не ошиблись. Слабые признаки интереса возникали. Знаете, как отрезанная нога лягушки дергается под действием тока. Отключи ток – она не дергается.
– Так не будем отключать ток!
Опять телефон. Ган что-то долго и мягко объяснял незримому собеседнику, который, судя по звуку голоса, был раздражен. Кончил каким-то умиротворяющим обещанием.
– А как вам понравились люди? – спросил он, положив трубку. – Ваши будущие коллеги? По-моему, они прекрасны. Каждый в отдельности и все вместе.
– Я их не понял. Если можно, расскажите мне о них. Объясните.
– Задача не из легких. Можете ли вы объяснить самого себя? «Познать самого себя» – эталон мудрости. Что ж, давайте попробуем. Номер один: Магда. Душа и глава группы. Существо, безусловно, незаурядное. Талантлива, умна. Честна и правдива до крайности. Того же требует от людей, иной раз к их неудовольствию.
– Не добра.
– Добра, но по-своему. Деловую помощь всегда окажет. Обращайтесь без стеснения, если надо. В общении нелегка, но надежна. Обещает – не обманет. Прекрасный работник. Может, когда нужно, сидеть дни и ночи, не считаясь со временем.
– А семья?
– Семьи как таковой нет. С мужем разошлась, никогда об этом не говорит, но, по слухам, это был негодяй первостатейный. Есть дочка лет десяти-двенадцати, за ней, кажется, бабушка смотрит. Магда о себе почти не рассказывает. Деловита, собранна, вся в работе.
– Женщина эпохи НТР?
– Если хотите, да. Женственность в ней есть, но она глубоко запрятана, утаена. Только иногда пробьется во взгляде, в бронзовом блеске волос…
– Борис Михайлович, да вы о ней говорите как влюбленный.
– Я в нее не влюблен, это было бы противоестественно. Но понимаю, что в такую женщину можно влюбиться. Вы не находите?
– Пока нет. Давайте дальше.
– Номер второй: Феликс Толбин. Человек тоже по-своему незаурядный. Умен, способен, точен, трудолюбив, прекрасная память. Был в аспирантуре у Фабрицкого. Написал диссертацию – не блестящую, но вполне кондиционную. Очень много в нее вложил. Когда закончил, оказалось, что точно такую тему уже разработал кто-то другой. Причем получил более общие результаты, из которых толбинские вытекают как частный случай. Что ж, бывает. Досадно? Конечно. Годы работы пошли прахом. Толбин перенес это очень болезненно, но держится молодцом. К его чести надо сказать, что эта история никак не отразилась на его отношениях с Фабрицким. Они лучшие друзья.
– Как же будет с его диссертацией?
– Напишет новую. Думаю, Магда ему поможет.
– Такие формы товарищеской взаимопомощи у вас приняты?
– И даже очень. Мы непрерывно помогаем друг другу.
Опять телефон. Ган взял трубку и без раздражения сказал: «Вы не туда попали».
– На ком мы остановились? На Толбине. Думаю, с ним будет все благополучно. Номер третий: Малых. Кстати, он требует, чтобы его фамилию склоняли: Малых, Малыха, Малыху и так далее. Как вы видели, не терпит своего имени «Руслан». А жаль, хорошее имя. Знаете, говорят, люди делятся на кошек и собак. Малых – типичная собака. Пылок, привязчив. Обожает своего научного руководителя, Игоря Константиновича Полынина. Теперь готов обожать вас.
– Это-то меня и смущает.
– Потерпите. Еще что? Женат, двое детей, мальчики-близнецы, точные копии его и друг друга. Разумеется, обожает жену и детей.
– Хороший специалист?
– Безусловно. Фабрицкий вообще плохих не берет.
– Я буду первым исключением?
– Уверен, что нет. Есть вопросы по Малыху?
– Пожалуй, нет. Остался тот, постарше, в очках.
– Полынин? А вот это загадка. Рассказать о нем, что знаю, берусь. Объяснить не могу. Вещь в себе. Человек, несомненно, блестящий, широко образованный…
– Болтливый.
– Есть отчасти. Любит держать трибуну. Но не зря: часто высказывает дельные мысли. Знает массу языков, не только читает и пишет на них, но и разговаривает. Включая самые экзотические: японский, венгерский. В пункте анкеты «какими языками владеете?» написал «разными». Солидное научное имя не только у нас, но и за рубежом. Все это на поверхности, остальное под замком. Никого близко не допускает. Кстати, к вопросу о собаках и кошках. Полынин – кошка в химически чистом виде. Кошка, которая гуляет сама по себе. Что еще? Да, не женат. И, сколько мне известно, никогда не был. Старый холостяк, в наше время уникум.
– Мне этот уникум не понравился.
– И зря. Интереснейшая личность.
– Возможно, во мне говорит зависть. Может быть, если бы…
– Понимаю. Но не спешите зачислять себя в неудачники. Самая плохая позиция.
– Не буду спешить. Видите, какой я послушный.
– Тогда разорвите заявление и бросьте в корзину.
Нешатов, колеблясь, послушался.
– Так-то лучше, – одобрил Ган. – Ну как, стала душа бессмертнее?
– Самую чуточку.
– Приходите каждый раз, когда усомнитесь в ее бессмертии.
– Хорошо. Поскольку я остаюсь, скажите, чем мне заняться?
– Возьмите у Лоры отчеты за последние годы, почитайте, разберитесь. Присмотритесь к тематике отдела. Мы вас торопить не будем.
Нешатов вышел. Ган вынул платок, отер лоб и руки. Он устал. Разговор с Нешатовым был тяжел даже физически. Надо ли было его уговаривать? Может быть, ушел бы и дело с концом?
Ган отворил форточку с косым крестом и подставил лоб под свежую струю воздуха.
Зазвонил телефон.
«Так и живем», – сказал себе, подходя, Ган.
7. Вечером
– На такую зарплату хрен у вас кто пойдет, – сказал Картузов. – Лучше ящики пойду грузить, капустой торговать, помидорами. Утечка, усушка, какой-никакой, а приварок. И от людей уважение. А кой мне почет техником? Ни тебе инженер, ни тебе золотарь. Нынче честь – возле еды-питья да мануфактуры. А вашу эн-тэ-эр я в гробу видел. На такую зарплату…
«Хоть не ругается, и то спасибо», – подумала Магда.
– Николай Федотович, мне совсем немного от вас надо. Только эту гайку отвернуть. Сама не могу, руки слабые.
– Эх ты, комариха! – пожалел ее Картузов, взял гаечный ключ и загремел им, пытаясь ухватить гайку. – Ставят таких тоже. Ни лудить, ни паять, только книжки читать.
– Паять я умею, – обиделась Магда. – Все свои схемы сама паяю.
– Это такое присловье. Про вашего брата-ученого. Фыр-фыр, у него идеи! Давай ему двести двадцать! А у меня самого, может, идеи не хуже ваших.
– Что же вы их не осуществите?
– А когда? Как просплюсь, все забываю. А у пьяного идей до пса, а руки не ходят. Так и живу. А жалко! Идеи – высший класс, как огурчики. Боюсь, кто-нибудь сплагиачит. Подслушает этакий очкарик, выдаст препринт…
«Ну, пошли умные слова, – думала Магда, – сейчас начнет ругаться». Но Картузов не спешил с руганью.
– Раз, два, взяли! – бормотал он, орудуя ключом. – Три, четыре, взяли… – ключ все соскальзывал. Картузов отвернул гайку, но не ту.
Магда рассердилась:
– Заверните обратно! Я не ту просила отвернуть, а эту!
– Постой, не торопись! – Картузов размахивал ключом. – И ту отверну, и эту! У меня идеи зашевелились! Все раскручу, разверну к чертовой матери. Завтра соберу по своей идее. Ты запиши, чтоб не забыть: правое напряжение подать налево, левое – направо. Будет в сам-раз!
– Николай Федотович, не надо!
Она потихоньку-полегоньку отталкивала его от установки.
– Прошу вас, оставьте как есть. Завтра мне Феликс все сделает.
Картузов произнес несколько ругательств, вставляя в промежутках «Феликс-Меликс». Видно, он и впрямь собрался разнести установку к чертям. Магда узеньким кулачком ударила его в грудь. Он безмерно удивился:
– Драться вздумала, пигалица? Да тебя от земли в телескоп не видать! Мышь в коробу!
– А ну-ка вон отсюда! – крикнула Магда.
Картузов уронил ключ:
– А я что? Я ничего. Я на своих на двоих. Ты на меня не смей! Экая фасонистая! – куражась, он все же пятился спиной к двери, а Магда его подталкивала. Робость на его лице боролась с восхищением. – Ну и баба! – бормотал он. – Шамаханская царица! За такую бабу десятку не жаль! Бери последнюю! Два поллитра!
Вынув из кармана десятку, Картузов помахал ею в воздухе. Магда озверела, вытолкала его за дверь (откуда силы взялись?). Ключ повернула на два оборота и села, переводя дух.
Картузов снаружи бился об дверь и бубнил:
– Магда Васильевна, а Магда Васильевна! Если оскорбил, то извиняюсь. Докажу, только дверь расшибу к чертовой матери. Магда Васильевна! Ягодка вы моя! Я вас вот как уважаю. Вы мне как родная мать. Когда я вас оставлял без последствий?
Толчки и призывы становились все реже, наконец смолкли. Ушел? Нет, вздыхает.
«Дура несчастная, – ругала себя Магда, – взялась переделывать узел, а сама гайки отвернуть не могу. Феликс был прав, когда предлагал отложить на завтра. Позвоню-ка ему, пусть приходит на выручку».
– Слушаю, – сказал голос.
– Феликс, это я.
Голос загорелся, расплавился:
– Магда, милая, как я рад!
– Что ты сейчас делаешь?
– Ничего. Жду тебя. Приходи сейчас. Слышишь?
– Я не о том. Видишь ли, Картузов…
– Так я и знал! Что за манера всегда говорить о работе? Нет других тем? Нам с тобой нужно в конце концов объясниться. Приходи, честное слово, я тебя не трону. Только поговорим. Имею же я на это право, черт возьми? После того, что было?
Магда положила трубку.
…После того, что было? Была одна ночь. Одна-единственная. Не надо было и ее. Сама виновата. Как ему объяснить? Нечего и пробовать, бесполезно.
Телефон зазвонил. Она не подошла. Незачем. Несколько звонков опять, и все смолкло. Вспомнила о Соне, и, как всегда при мысли о дочери, ее обдало горьким теплом. Бедная девочка! Много ли мы общаемся? Сказала: приду пораньше, и вот…
Она погасила верхние лампы; в лабораторию, чуть обождав, вошел лунный свет, и тени листьев задвигались по полу. Судя по ним, на улице было ветрено. Вышла. Картузова, слава богу, не было.
У выхода пожилая дежурная в суконной куртке решала кроссворд. Магда повесила ключ.
– Что так поздно-то? – спросила дежурная. – Ан не наработалась?.. У тебя с кибернетикой как?
– Да ничего, – неуверенно сказала Магда. – А что?
– Слово: десять букв, первая «и», последняя «я», в середине «фе», основное понятие кибернетики?
– Информация, – быстро ответила Магда.
– Подходит, – сказала дежурная. – Я про кибернетику не люблю, я про артистов. Я всех артистов наизусть знаю. И по кино, и по телевидению…
А на улице и впрямь было свежо, ветрено. Луна кувыркалась среди облаков. Магда шла, вдыхая сырой, родной воздух. Шла сквозь ночное мигание города, цепочки огней, смену зеленых и красных сигналов. Машины проносились, шурша шинами по асфальту, и, удаляясь, щурили красные глаза.
Широкий мост перенес ее на ту сторону Невы; вода под ним текла темно, неслышно, холодно. Отражения огней были как золотые гвозди, вколоченные в реку; чуть размытые, они дрожали, стремились, текли. Любимая, холодная, темная вода. Феликс, южанин, этого не понимает. В ту ночь уговаривал уехать отсюда, начать новую жизнь. А для нее эта сырость, эти дожди, эта Нева, эти мосты – непокидаемы.
Вот и дом, старый, петербургский, с каменными тумбами у ворот. Черная лестница. В новых домах черных лестниц давно нет. Поднялась, отперла дверь, вошла. У порога стояла Соня, тонкая, высокая, бледная, с траурными черными глазами, этакий квартирный фантом.
– Почему не спишь?
– Мамочка, ты же обещала прийти пораньше, – упреком на упрек ответила Соня.
Тонкий голос с интонациями шестилетнего ребенка звучал странно в устах такого высокого существа. Долговязая девочка, жертва акселерации, она была почти на голову выше матери. Читать нотации, глядя снизу вверх, было противоестественно; сподручнее было оправдываться, что Магда и сделала:
– Сонечка, ты должна понять: я на работе, мало ли что могло меня задержать!
– А зачем обещала? Это нечестно!
Соня захлопала длинными ресницами, на которые уже выкатывались слезы.
– Только не плачь, маленький. Я тебя прошу.
– Хочу и плачу. Имею право. Ты меня обманула.
– Ну ладно, плачь. Но только в бутылочку.
– Ох да, совсем забыла.
Соня побежала, нескладно выбрасывая длинные ноги. Магда сняла пальто, вошла в комнату. У стола сидела Соня с аптечным пузырьком в руке.
– Это нечестно! – сказала она, обращаясь ко всему миру. – Как только взяла бутылочку, плач прекратился. Буквально ни одной слезы!
– Что поделать? Следующий раз наплачешь.
У них с Соней был уговор: плакать только в бутылочку, а когда наберется полная, мама даст за нее три рубля. Такой суммой Соня еще никогда не владела и плохо представляла себе, как ее можно истратить. Она разглядывала бутылочку на свет:
– А куда делись прошлые слезы?
– Наверно, высохли.
– Это нечестно. Плачешь, стараешься, а они высыхают. Давай по-другому договоримся: я наплачу, измерим сколько, и когда в сумме наберется бутылочка, ты мне дашь три рубля. Договорились? Интересно, сколько в ней кубических сантиметров?
Соня жила в странном мире мер – линейных, квадратных, кубических, в мире минут, секунд и терций, градусов и их долей. Это ей заменяло старинный сказочный детский мир, где волшебные принцы целовали в уста спящих красавиц…
Она принесла графин с водой, маленькие весы с набором разновесок. Началось наливание. Слезы были забыты: никак не удавалось попасть струей воды в горлышко. Вскоре мать и дочь хохотали, наливая и разливая воду. Наконец удалось и налить, и взвесить. Странное дело: пузырек с водой весил двадцать граммов, а без воды – двадцать пять. Этот парадокс ничуть не смутил Соню:
– Вес воды – минус пять граммов. Значит, объем – минус пять кубических сантиметров.
– Сонюшка, это же абсурд. Объем отрицательным не бывает.
– Почему? Все бывает отрицательным.
«Боже мой, до чего же их приучают формально мыслить, – думала Магда, – эти множества с первого класса… Отрицательный объем уже не вызывает сомнений. А может быть, в ее мире отрицательный объем – нечто вроде волшебного принца?»
– А бабушка спит? – спросила она, чтобы сменить тему.
– Нет. Письма читает. Расстраивается, – Соня посмотрела на часы, – уже два с половиной часа. Я засекла.
Магда стукнула в дверь соседней комнаты.
– Ты, Машенька? – спросил голос.
– Я, Софья Николаевна.
– Войди. Тебе можно.
За столом сидела еще нестарая, красивая, снежно-седая женщина с такими же, как у Сони, траурно-черными глазами. Перед ней лежали стопки писем.
– Машенька, если бы ты знала, читаю, пытаюсь осмыслить свое прошлое… В чем я была виновата?
Черные глаза поплыли, совсем как у Сони.
– Ни в чем вы не были виноваты.
– Может быть, если бы я воспитала его иначе…
– Говорят, дело не в воспитании, а в генах. Не мучьте себя. Уберите-ка в стол ваши реликвии и пошли пить чай. Я с работы принесла эклеры, совсем свежие, тают во рту.
Проза жизни помогла. Софья Николаевна уже улыбалась, вытирая глаза. Услыхав про эклеры, Соня закричала «ура!» и побежала ставить чайник. Такие ночные пиры они себе иногда позволяли.
За столом говорила больше всех Соня – сама себя перебивая, но вдохновенно.
– Мамочка, ты когда-нибудь видишь сны не от себя, а от другого лица?
– Кажется, нет.
– А я вижу! Например, от лица линейки. Вообще неодушевленных предметов. А сегодня я видела сон от лица молодого мужчины. Ему, то есть мне, двадцать два года. Я хочу стать моряком, а тетя не позволяет. Тогда я ее убил.
– Боже мой! – ахнула Софья Николаевна. – Убил свою тетю! Что за дикость! Вот видишь, Маша, я тебе говорила, что ей рано читать Достоевского.
– Ничего не рано! – обиделась Соня. – Я ее не под влиянием Достоевского убил, а совершенно самостоятельно.
– Экий бред! – сказала Магда. – И тебе не жалко было, когда ты убил свою тетю?
– Не жалко.
– Ну и поколение растет, – вздохнула Софья Николаевна. – Никакой морали!
– Постойте, сейчас разберемся, – сказала Магда. – Слушай, Софья, говори правду, всю правду и ничего, кроме правды. Было тебе жалко тетю?
Соня смутилась:
– Ну, совсем немножко, под самый конец, перед тем как проснуться.
– Жалел ты, что ее убил?
– Жалел, – призналась Соня и заплакала.
– Стоп, в бутылочку, – напомнила Магда.
– Сумасшедший дом! – сказала Софья Николаевна. – И я такая же!
– А теперь, молодой мужчина, тебе пора спать, и никаких отговорок.
– С одним условием: ты мне расскажешь про иглу.
– Договорились.
Соня пошла мыться, а Магда со свекровью разговаривали вполголоса.
– Не понимаю этого воспитания, – роптала Софья Николаевна, – девочке тринадцатый год, она и без того инфантильна, а ты еще поощряешь, рассказываешь про какую-то дурацкую иглу…
– Это у нас вошло в традицию.
В самом деле, уже несколько лет, с тех пор как ушел отец и Соня плохо стала спать по ночам, Магда каждый вечер рассказывала ей сказки своего сочинения. Чем глупее, тем лучше. Любимая была – про иглу. Софья Николаевна этого не одобряла. С одной стороны, Раскольников (рано), с другой – про иглу (поздно). Когда Володя ушел, она без колебаний осталась с Магдой и Соней, хотя любила сына. Хотя воспитание девочки ее ужасало. Ложится бог знает когда, не высыпается. Какие-то дикие фантазии – моряки, убийства…
Соня мылась долго, пускала пузыри над раковиной, наконец разделась на ночь, влезла в свою кургузую, не по росту, пижаму и, перед тем как лечь, немножко попрыгала на тахте. Черные прямые волосы метались по лицу, пружины звенели и крякали. Попрыгав, она забралась под одеяло, выпростала из-под него узкие, красивые руки и потребовала:
– Про иглу.
– На чем мы остановились?
– Неужели не помнишь? Она сначала была иглой большого размера, с ножку стола. Потом хозяин переплавил ее на сковородку. А потом что?
– Потом, – фантазировала Магда, сама ужасаясь бедности своей фантазии, – она пошла жить на кухню и там подружилась с посудой. Особенно с одним маленьким ситечком…
Магда рассказывала про иглу, пока не увидела, что Соня спит.