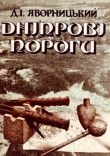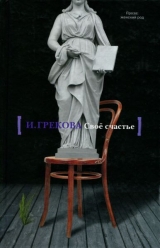
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
10. Диалог
– Анна Кирилловна, меня всегда поражает, как вы, такая пожилая, можете войти в психологию молодой женщины. Ну не совсем молодой, а такой, как я. Мы с вами говорим – правда? – как две подружки. Я вам все про себя рассказываю…
– Кстати, Даная, сколько вам лет?
– Не выдадите? Сорок два. Но я всем говорю, что тридцать девять. На этом я решила остановиться. Сорок – ужасное число. Слышите, как оно звучит? Со-рок. Рок. Что-то роковое. Из тридцати девяти я когда-нибудь сразу перейду в пятьдесят. Или даже в пятьдесят пять. Пенсионный возраст. Я думаю, в пенсионном возрасте мне будет уже спокойно. Получай свои сто двадцать, и никакой любви.
– Боюсь, у вас это не выйдет.
– Я тоже боюсь. Я о вас часто думаю: как вы пережили этот ужасный рубеж, пятьдесят пять? Это ужасно – пенсия! Не сама пенсия, а право ее получать. Песенка твоя спета, пора на заслуженный отдых. Когда я лично бездельничаю, это отдых не заслуженный, а незаконный, тем и хорош. Я вообще вся незаконная.
– Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил.
– Это Евтушенко?
– Нет, Пушкин. Даная, вы порой до ужаса необразованны. Пушкина надо знать.
– Прочту как-нибудь. Когда проходили Пушкина, я была влюблена. В Кольку Бакшеева, из соседней мужской. Тогда мы раздельно учились с мальчиками, но не помогало, все равно влюблялись. С Колькой мы взаимодействовали по комсомольской линии: он активист, и я активистка. И вот довзаимодействовались! Встречались в саду на скамейке. В этих встречах тоже было что-то беззаконное. Как вы сказали? «Как беззаконная комета…»
– В кругу расчисленном светил.
– Неплохо. Так вот, я про Кольку Бакшеева. Мы выходили в сад после уроков, садились рядом на скамейку и перещипывались.
– Как это?
– Просто щипались по очереди. Главная задача – щипнуть побольнее, но чтобы не крикнуть, не вздрогнуть, даже не сморщиться. Мы с ним тогда все в синяках ходили. Я на уроке, бывало, задеру рукав и смотрю, и все сердце во мне обмирает. От этих синяков я чувствовала к нему какое-то рабство. А больше между нами ничего не было, платоническая любовь, если не считать того, что однажды он меня поцеловал в синяк.
– Где был синяк?
– На ноге, повыше колена. Но вы не думайте, это тоже было на платоническом уровне. Я тогда худая была прехудая, на таких параллельных ногах, как римское «два». Ни тени будущей красоты. Он-то был красив, как греческий бог. Ему бы не школьную форму, а фиговый лист. Между прочим, меня всегда интересовало, как у них эти листы держались. На клею, что ли?
– Никак они не держались. Их вообще живые люди не носили, делали их только на статуях.
– Интересно. Так вот, я о Кольке Бакшееве. Расстались мы с ним из-за Данаи. То есть из-за меня, потому что я Даная.
– Как так?
– Очень просто. Меня в школе Дашей звали. Он от кого-то узнал, что я не Дарья, а Даная, и обалдел от восторга. Какое, говорит, счастье, и ведет меня в Эрмитаж. И показывает мне картину Рембрандта. Знаете?
– Конечно.
– Я обхохоталась. Картина самая глупая. Неужели он меня такой видит? Лежит баба голая, коротконогая и руку вперед протягивает, будто на бедность просит. Колька мне объясняет: на нее, мол, идет Юпитер в форме золотого дождя, и это, мол, прекрасно. А на меня смехунчик напал. Кругом маринованные старики и старушки дореволюционного производства, глядят на меня с осуждением, ржу – и все. Колька прошипел, как змея: «Пошли отсюда». Вышли на площадь. Все еще ржу, хотя слабее. Спрашиваю: «Тебе эта Даная нравится?» Отвечает грозным голосом: «Это гениально». А я говорю: «Она же коротконогая, поставь ее во весь рост, и тебе будет стыдно». Ничего не ответил и провожать меня не пошел, даже не попрощался и исчез за Александровской колонной… Как подумаю я, как вспомню свою жизнь – все они от меня уходили, каждый за свою Александровскую колонну…
– Даная, не огорчайтесь, вы еще молоды, у вас все впереди.
– Это с высоты вашего возраста я могу казаться молодой, а по абсолютной шкале…
– Вот помяните мое слово: вы еще найдете свое счастье. Вы полюбите, и вас полюбят. И тогда вы придете ко мне и скажете: «Анна Кирилловна, вы были правы». Хотите пари?
– Идет. Американку?
– Пускай американку, хотя я и не знаю, что это такое.
– Вот видите, я не знаю Пушкина, а вы – американку. Баш на баш. Пари-американка – это когда можно требовать все, что захочешь. Раз в институте я выиграла американку у одного парня. Велела ему купить в аптеке соску-пустышку с кольцом, взять ее в рот и так пройти весь Невский от Московского вокзала до Адмиралтейства. Шел и сосал. Смеху было!
– Вот вы уже и смеетесь, я очень рада. Ваш смех, Даная, как золотой дождь.
– Правда? Удачное выражение, когда-нибудь употреблю. У меня вообще талант быть счастливой, но жизнь не дает ему развернуться. Знаете, когда я родилась, еще не было Второй мировой, повсюду был мир, и этот мир осветил меня изнутри. На меня все смотрели и смеялись. На фотографии я похожа на маленький чемодан, знаете, такой желтый, кожаный, с мягкой ручкой. В раннем детстве я себя вижу таким желтеньким чемоданом. И волосы у меня были желтые-желтые, мягкие-мягкие, один локон сохранился. В блокаду они почти совсем вылезли, свалялись под шапкой, ни разу не мытые.
– Вы, значит, пережили блокаду?
– Да. Но я почти не помню ужасов голода. Помню, как мы с мамой поджаривали на железной печке ломтики черного хлеба. А еще отдирали обои и варили из них суп, они же на клею, а клей – из муки. Совсем ничего получался суп, только бумага горьковатая. Мама говорила: ешь, это органическое. Я тогда не понимала, что значит «органическое», думала – вкусное. Когда потом, в школе, начали проходить органическую химию, я узнала, что это значит, и тут же разревелась от этого слова. Никто не понимает, почему я реву, как чокнутая, а про себя все «мама, мама». Она была красивая, вроде меня, но, конечно, очень исхудала за блокаду. Теперь я понимаю, что она голодала больше других, почти все отдавала мне. Если бы у меня были дети, я бы тоже так поступала. Но у меня не было детей, ни от одного мужа.
– Сколько же у вас было мужей?
– Два.
– Вы их любили?
– Нет. Особенно второго: такой широкий, лицо как зад автомобиля. Но я о маме. Она была ужасно самоотверженная. В принципе она была оптимистка, а вот когда мы пережили блокадную зиму и все вокруг нас умерли, она стала все чаще говорить, что и мы вернее всего умрем. Я в это не верила, я чувствовала в себе необычайную, яркую, сильную жизнь. Я говорила ей: «Мама, держись за меня, во мне жизни много, ты не умрешь». Может быть, не такими словами, я была еще маленькая, но смысл такой. Потом нас эвакуировали. Дорогу туда я почти не помню, какие-то деревья бежали мимо, ягиный лес. По такому лесу должна была курсировать Баба-яга в ступе. А когда мы приехали в какой-то большой город, кажется Свердловск, нас, ленинградцев, повели в столовую и хорошо накормили. Столовая просторная, высокая, столы большие, светлые, один к одному, и никакого затемнения – это особенно нас поразило. За каждым столом сидели люди, перед каждым – тарелка. И они ели. Это было что-то фантастическое, такой грандиозный пир. Мама немножко поела, больше не могла с непривычки, сидит, глаза большие, и все время повторяет одно и то же: «Тепло… люди… едят…» И плачет. Поплачет – и опять как заведенная: «Тепло… люди… едят…» Я на всю жизнь это запомнила. Иногда тяжело до невозможности, кажется, лучше не жить. Тогда я вспоминаю эту столовую и говорю себе маминым голосом: «Тепло… люди… едят…» И, представьте, помогает.
– Молодец, Даная. Я у вас эту фразу позаимствую. А дальше что было?
– В Свердловске нас не оставили, а повезли дальше, в село, где была разнарядка на эвакуированных. Привели в избу. Хозяин страшный, черный, в волчьей шапке, похож на Пугачева, борода валяная. Спрашивает: «А ло́поть-то есть? Давай лопоти́ну!» Я потом уж узнала, что «лопоть», «лопотина» – по-уральски «одежда». А тогда мы поняли так, будто «лопать» – значит «есть». Мама говорит: «Нет, откуда же, мы из Ленинграда». Хмыкнул в бороду и сказал что-то вроде того, чтобы ложиться нам на полу, авось не провалится. Говорят они там, на Урале, быстро-быстро, все как будто спрашивают, с повышением на конце, я не сразу научилась понимать. Он ушел. Мы с мамой легли на полу, все, что было, на себя навертели, холодно, пол ледяной. А через щели в перегородке свет пробивается. «Что там, мама? Можно я погляжу?» Поглядела в щелку. И, батюшки, что там было! Горит керосиновая лампа, накрыт стол, а на нем чего только нет! И капуста, и огурцы, и яйца, и мясо какое-то, наверно, соленое. Хозяин яичницу ест, капустой закусывает, хрустит. «Мама, – шепчу, – что там делается, посмотри!» Она тоже заглянула и говорит: «Тайная вечеря». Спрашиваю: «А нас они покормят?» – «Судя по всему, нет». И легли мы опять на холодный пол, обнялись и не спали до утра. Сени были нетопленые. Мама тогда, видно, и простудилась.
А утром приходит хозяин – веселый, борода расчесана – и говорит: «Ну-ка, гости незваные, убирайтесь отсель, вас к Митрофановне поставили». И отвел нас на другой конец деревни к старушке Митрофановне, мягкая такая, белая, у нее кот и чижик, и кот чижика не ест. И сама Митрофановна добрая-предобрая, солнышко в морщинах. Говорит: «Я гостям всегда рада, особенно ленинградцам. Поживите у меня, все веселее будет. Картошки много, целый подпол, не пропадем». И первым делом она нас накормила. Вынула из печи горшок похлебки. Картофельная с луком. Ничего я ни раньше, ни позже вкуснее не ела.
На другой день мама слегла больная. Наверно, воспаление легких. Привезли из дальнего села фельдшерицу, девчонка молодая, ничем помочь не могла. Я плачу: «Мама, не умирай!» Держу ее за руку, силу свою вдуваю. Не вдула. Все-таки умерла. Осталась я одна с Митрофановной. Она меня и воспитывала, пока не приехал за мной дядя-полковник, мамин брат. Увез к себе в Ленинград, восстановил прописку. Я училась в школе, он меня воспитывал, но не воспитал. Жена его воспитывала – не воспитала. Это у Пушкина хорошо сказано про беззаконную комету, в точности про меня. Окончила школу, ушла от них, поселилась отдельно, теперь и не видимся. Очень им с теткой мой образ жизни не нравится. А какой образ жизни? Живу и живу… Да, Анна Кирилловна, чуть не забыла вам сказать. Я влюбилась.
– В кого же это?
– В Нешатова.
– Боже мой! Прошлый раз это был Феликс.
– С Феликсом вышло недопонимание. Однажды он меня приглашает кататься. У него машина, желтый «жигуль». Поехали за город. Прекрасное озеро, все в кругах-кругах, камыши, а вдали закат, такой пламенный, именно не огненный, а пламенный, говоря красивым слогом. Самая обстановка. Вышли из машины. Думаю: для чего он меня сюда привез? Не для разговоров же о фортране? А он – на берег. Молчит, а я жду. Начал копать ногой песок. А я все жду. И вдруг он говорит, что любит Магду. Как вам это понравится? Вывез на природу, чтобы излагать свою любовь к Магде. Я так и села.
– На песок?
– Нет, в фигуральном смысле. Вообще-то у меня чутье, но на этот раз оно меня обмануло. Я не очень переживала, недолго. Мне Феликс даже не особо нравится. На его лице написано благополучие, не мой жанр. Подумала-подумала и влюбилась в Нешатова. Вы его знаете?
– Очень хорошо. И именно потому не советую вам в него влюбляться. Человек тяжелый, сложный, с фокусами. Он вас измучает.
– Поздно. Неси назад.
– Куда назад? И что назад?
– Это у нас с мамой была такая поговорка. Когда уже ничего не сделаешь: поздно, неси назад. А откуда она пошла? Давно, еще до войны, мы были с ней в театре. Я сама-то не помню, она рассказывала. Сидим, смотрим на сцену. Я мало что смыслю, но смотрю. И вдруг мне захотелось – понимаете? Говорю маме на ушко. А она какой-то трагический момент досматривает. Досмотрела, взяла меня под мышку и несет из ложи. А я ей: «Поздно, неси назад».
11. Ольга Филипповна
Дни шли однообразно, не быстро. Вот уже и листья облетели, подувать стало из окна. Нешатов все сидел над журналами, отчетами, бился как рыба об лед. В отделе он по-прежнему чувствовал себя чужим. Только дома с Ольгой Филипповной отводил душу. С нею он был откровенен. Пропадало взрослое самолюбие, появлялся ребенок – незащищенный.
– Не гожусь я для этой работы, – жаловался он. – Стараюсь, стараюсь, ничего не могу понять. Как будто по-египетски читаю или на языке майя.
– Что и говорить, тяжело вашему брату, – говорила Ольга Филипповна. – Пастуху легче: кнут на руку – и пошел. А ты поднатужься!
– Пробую, не выходит.
– А ты встряхивай свою энергию, ты ее взбалтывай, во как!
Она трясла в воздухе воображаемой энергией.
– Голова у меня пустая, нечего взбалтывать.
– Голова пустая от недостатка сахара в организме. У каждого организма свой индивидуум. Твоему сахар нужен. Слушай-ка жизненный факт, не в газете прочитала, а знаю. Племянница в школе училась ну на одни тройки. Мать-то, сестра моя, ее кормила, но не ахти. Тут соседка надоумила, говорит, сахару ей давай пять раз по пять кусков. Можешь себе позволить. Начала давать. И веришь не веришь, у девки стали одни четверки да пятерки. В институт поступила, окончила, теперь инженером. А ты, я смотрю, сахару вовсе не ешь. Откуда у тебя уму взяться?
– Не люблю я сахара.
– А ты насилушки. Поправиться тебе надо, штаны валятся, где душа, где тело. Я тоже не из таких чтобы толстых, кость широкая, а сала нет. Не липнет ко мне сало. Запрошлым годом в санатории была, питание четырехразовое и все по калориям. Мне врач контрольное задание дал. Сначала как будто на лад пошло, на полтора кило поправилась, а потом стало мне скучно, отдала кило четыреста назад, только сто грамм и привезла.
– А почему вам скучно стало?
– Все питайся да питайся. Я этого не люблю. Иной раз покушаю с аппетитом, а разом станет мне скучно, и не хочу я вовсе кушать, не берет душа. Икру красную и ту не надо, не то чтобы нормальный стол. Наверно, рак во мне есть.
– Бросьте, Ольга Филипповна! Никакого рака у вас нет, – говорил Нешатов, а сам холодел.
– А что? Я рака не боюсь. Все равно помирать в скором времени. Конечно, лучше бы от инфаркта, чем от рака. Экая хитрая! Все бы так хотели. На всех инфарктов не напасешься. Их, наверно, по спецталонам дают. А помереть не имею против. Я свое пожила, сына вырастила, выучила, внуков нет. Отчего не помереть?
– А я-то как же, Ольга Филипповна?
– Ты мужик, без бабы не останешься. Какая-нибудь да возьмет. Больно ты сам переборчив. Ну Марьяна, бог с ней, она сама от тебя отгульнула. А чем тебе Алла плоха? Девка крупная, спелая, наливная. Жил бы себе да жил, и никакая Филипповна не нужна.
– Вы мне всегда будете нужны, Ольга Филипповна.
– Ай-ай-ай! Так я и поверила. Старуха нужна, молодая нет.
…А и в самом деле, нужна была ему старуха! Что-то в ней извечное, неисчерпаемое. Суровость и доброта. Он любил слушать истории, которые она рассказывала. Все поучительные, все как одна грустные, все как одна про любовь. Любовь как таковую Ольга Филипповна не одобряла.
– Ты послушай, Юрь Иваныч. Вот на нашей улице, в доме двенадцать, аккурат где булочная, какая беда приключилась. Живет женщина-вдова, пенсионерка, у ней дочь в институте учится. Живут ничего, у нее пенсия шестьдесят, у дочери стипендия сорок, да и старик им оставил на книжке не то две тысячи, не то три. Квартира двухкомнатная, дом новый, не панельный, кирпичиками, вода холодная-горячая, мусоропровод, отчего не жить? Живут. Так вот беда – полюбила дочка молодого человека. Хочу, говорит, замуж. А он без профессии. Учился – бросил. На завод – бросил. Нигде не приживется, все не по нем. Смотри, говорит мать, он и тебя бросит. А они, молодые, разве мать слушают? Люблю, говорит, и точка. Что поделаешь? Выдала ее мать за ее паразита за ненаглядного. Все как по чину: кольца, фата, ресторан, не справишь – осудят. Почти всю книжку очистила, на донышке осталось. Въехал к ним, значит, этот самый муж. Волосья длинные, задница обтянутая, ничего не работает, только требует. «Столичные» смолит с утра до ночи. Тещу дискредитирует, кричит на нее голосом: продай обстановку, ковры-вазы, деньги подай на урок английского. Хочу, говорит, в институт международных отношений. Старуха – дочери: уйми своего паразита. А та от паразита без ума, только свечки ему не ставит. Мать-то, теща, от таких переживаний сама не своя. Была баба ничего, стала страшная. Встречаю ее, спрашиваю: «Что с тобой, Глаша?» – ее Глашей зовут. «Ничего», – говорит. «Как живешь-то?» – «Живу, – говорит, – хорошо». Вот какая скрытная! А у самой уже были они, эти мысли. Одно утро подумала: не хочу больше жить на белом свете. Подумала, приспособила в сдвоенном санузле веревку сквозь вентилятор, захлестнула себя за шею, ручки сложила и удавилася. Приходят – она уж похолодела. Этому-то паразиту как с гуся вода, есть или нет матери, а дочь переживает, в положении была. Разом почернела и скинула. А он, паразит, на ней развелся, разделил личный счет и другую к себе прописал. Та на него работает, а он только и знай смолит. Как есть тунеядец. Вот что она, любовь-то, делает!
Таких историй о кознях любви у Ольги Филипповны было множество. И к каждой припев: вот она какая, любовь! Где она, тут и горе.
– Не у всех же так, – возражал Нешатов. – Вот вы же с мужем счастливы были?
– Была. Так я не по любви выходила, а по сватовству.
Как-то вечером сидели они у него в комнате. Ольга Филипповна вязала и рассказывала, а он слушал. Раздался звонок.
– Кто бы это на ночь глядя? Верно, соседка за чем-нибудь. То у нее соли нет, то сахару, то яичко займет, то батон. Как есть нескладеха, – сказала Ольга Филипповна и пошла открывать. Вернулась не сразу.
– К тебе, Юрь Иваныч. Твоя. Я пойду.
Вошла Марианна. Он не сразу ее узнал. Постарела, поблекла. Прежний образ проступал-проступал, как на снимке в ванночке с проявителем, наконец проступил. Нешатов смотрел на нее с болью в груди.
– Зачем пожаловала? – спросил он. Голос неприятный, хриплый.
– Ты мог бы по крайней мере предложить мне сесть.
– Садись. Вот стул.
– А ты?
– Я постою.
– Мне так неудобно разговаривать.
Сели. Марианна оглядела комнату.
– Какой у тебя беспорядок. Эти книги в розницу на полу. Гантели, куча бумаг. Позволь, я у тебя приберу.
– Не позволяю. Надеюсь, ты не прибирать сюда пришла?
– Нет. Поговорить.
– О чем?
– О Паше. Он меня тревожит.
– Меня он больше не тревожит.
– Напрасно. Он же тебе сын.
– Возможно. Тебе, вероятно, нужны алименты. Теперь я работаю, готов платить, пожалуйста.
– Дело не в деньгах. Я зарабатываю достаточно. Но я несчастна и одинока.
– Он тебя бросил?
– О нем я и думать забыла. Ты пойми, это было безумие. Увлеклась ненадолго. Очнулась, но было уже поздно.
– Зато я не очнулся.
– Сколько времени можно помнить? Ведь мы уже немолоды. Паше шестнадцать лет.
– Ну, хорошо, допустим, – заговорил Нешатов, постепенно распаляясь, – тогда это было безумие, временное увлечение. Допускаю. Я по-своему тоже безумствовал, сошелся с женщиной, чуть не женился. Скажем, два безумия. А потом? Когда мне было плохо, когда я был под следствием? Где ты была? А когда я лежал в больнице? Где ты была? Тебя не было. Тебя нет. Ты вымысел, понимаешь?
– Только не кричи. Прости меня, я виновата.
– Не может быть виноват человек, которого нет.
– Я вдвойне виновата, перед тобой и перед Пашей. Может быть, все-таки будем опять вместе?
– А разве мы когда-нибудь были вместе? Никогда, даже в молодости.
– А в поезде, когда ехали на юг?
Нешатов отвернулся.
– Были мы вместе? – торжествуя, спросила Марианна.
– Ну да. Тогда были.
– А что играли по радио?
– Неоконченную симфонию.
– Ты это помнишь?
– Это я помню. А что было потом – забыл. Все отравлено, все скомкано. И не надо больше ворошить прошлое. И не надо приходить. Что тебе в конце концов от меня нужно?
– Мне ничего не нужно. Паше нужен отец.
– Этим не могу служить. Непригоден.
– Я пойду, – сказала Марианна. Он проводил ее до прихожей, помог надеть пальто. Эти когда-то гордые плечи…
– Выставил, как паршивую собаку, – подвела итог Ольга Филипповна. – Сечь вас, мужиков, некому.
12. Читающий автомат
Общая комната № 214, куда временно поместили Нешатова, была для работы, в сущности, непригодна: проходной двор. Двери все время открывались и закрывались, входила то одна, то другая группа, говорили, галдели, спорили, ссорились. Коллектив был дружный, но мелкие стычки на научные темы возникали непрерывно. Часто они выносились на доску, которая всегда была исчерчена схемами, формулами, карикатурами. Звонил телефон, подошедший орал во всю мочь, переспрашивал, записывал. Сюда же, в общую комнату, приходили заказчики со своими претензиями, представители министерства, проверяющие комиссии. Сюда же несли корреспонденцию, циркуляры, приказы по институту. Все это поступало в распоряжение Лоры, которая отнюдь не была гением порядка и могла иной раз часами искать нужную бумагу, не теряя своей нестеровской отвлеченности.
Нешатов сидел в этой комнате как-то наособицу, обычно молчал, но его присутствие стесняло людей; без него все они (кроме Полынина) чувствовали себя свободнее. Даже Малых, готовый его обожать поначалу, теперь отчужденностью Нешатова удерживался на расстоянии. Сам Борис Михайлович Ган, который в своем кабинете вел с Нешатовым длинные разговоры (ради бессмертия души), и тот, расставаясь с ним, вздыхал облегченно. Люди вообще мало любят неблагополучных, а терпкое, застарелое неблагополучие явно читалось на впалощеком, асимметричном лице Нешатова с широко расставленными свинцово-серыми глазами. Все были с ним вежливы, но общения не искали. Только Даная Ярцева, забежав в «общую» (она всегда торопилась), каждый раз кидала в его сторону лукавый зелено-ореховый взгляд. На этот взгляд он не отвечал, ниже склонялся над книгой.
Конечно, о нем судачили за его спиной. Однажды, войдя в «общую», он заметил, как быстро оборвался разговор и замер смех. Стесненный, он направился к своему столу, этой ежедневной Голгофе, покинуть которую мешала гордость. Молчание продолжалось. Было даже облегчением, когда в комнату по обыкновению шумно ворвалась Анна Кирилловна в ярко-голубом джемпере, с ярко-оранжевыми волосами. Лора спросила не без ехидства:
– Анна Кирилловна, вы, кажется, изменили цвет волос?
– Болван парикмахер, – ответила та. – Говорю ему: сделайте мне цвет опавших листьев. А он сделал цвет взбесившегося апельсина.
– А мне нравится, – сказал Максим Петрович Кротов. – Открытый прием. Надо красить не под натуру, а так, чтобы сразу было видно: «Осторожно, окрашено!»
Посмеялись добродушно. В отделе вообще любили посмеяться над цветовыми фантазиями Анны Кирилловны, и она охотно присоединялась. Не была обидчива.
– Юрочка, я за вами. У всех в отделе вы уже побывали, а у меня нет. Как раз вчера наш автомат начал сносно работать… Пойдемте со мной.
Нешатов мялся. Как раз сегодня идти к Анне Кирилловне было ему не с руки…
Она глядела на него снизу вверх круглыми, карими, умоляющими глазами. Только подумать – его научный руководитель! В то время для него почти божество. Где-то наверху, в недосягаемости. Моложавая, веселая, звонкоголосая… А теперь он с жалостью глядел на редкие оранжевые кудри, на неровно накрашенный рот, на стоячие подведенные бровки, поперек одной из которых легла моршна… Что только делает время с женщинами! И как они не понимают, что все ухищрения делают их не моложе, а старше?
– Давайте, будьте умницей, пойдемте в мою лабораторию. Не понравится, не буду удерживать, честное слово.
Вот неудачно: именно сегодня, когда у него впервые забрезжила идея… Но все равно в общей комнате работать нельзя.
Она торопливо шла по коридору, похожая на голубого слона. Ноги почему-то были в носках, несмотря на сезон. Она говорила, чуть задыхаясь:
– Вот увидите, вам понравится. Тематика перспективная. А люди! Высший сорт. Илюша Коринец – молодой светоч, капризен, строптив, в универсальной оппозиции, но золотое сердце! Даная – та просто душечка. Женщина без границ. Прелестная непосредственность, а ведь умна! Игорь Константинович последнее время стал ходить редко, но мне даже не жаль: перед его скепсисом я прямо пасую, всякая идея останавливается в горле. Есть два эмэнэса, но те новички, к теме еще не приобщились…
– А как называется тема?
– «Машинное чтение печатных и рукописных текстов». Название длинное, мы просто говорим «читающий автомат».
– Как, и рукописные читает? – с невольным интересом спросил Нешатов.
– Ну, до рукописных еще далеко, а с печатными кое-как справляемся. Правда, только один шрифт, точнее, гарнитура. Считывающая головка сканирует поле знака…
Нешатов слушал вполуха. Все это было вполне тривиально.
– А рукописные? – бестактно повторил он.
– Пока плохо. Можно, конечно, заставить человека писать по трафарету, но все понимают, что это не то. Саша Фабрицкий неосторожно подписал задание, а нам расхлебывать… Я очень надеюсь на вас.
Нет, не буду я с вами этого расхлебывать, думал Нешатов. У меня своя идея. Если выйдет – стоило приходить в институт.
«Лаборатория» оказалась даже не отдельным помещением, а просто выгородкой в машинном зале. Какая-то перебранка слышалась за шкафами, о каких-то сверках и тестах, кто-то орал: «Не пудрите мне мозги!» Дятлова постучала кулаком по фанерной стенке, поднялось облачко пыли, спор продолжался, но тише. «Это из нечаевского отдела, – сказала она, – у нас такого не бывает. А где Илюша? Ау!»
Из-за стойки вышел Илья Коринец, тот самый удлиненный юноша с синим пятном на губе, которого Нешатов уже знал в лицо.
– Знакомьтесь, это Юрий Иванович Нешатов, мой бывший ученик, а это Илюша Коринец, ученик теперешний, даже не мой, он аспирант Александра Марковича, так сказать, приемный ученик…
– Мы встречались, – сухо сказал Нешатов.
– Тем лучше. Илюша, продемонстрируйте Юрию Ивановичу читающий автомат.
На лице Коринца выразилось презрение, синее пятно дрогнуло;
– Чего там демонстрировать, один стыд. Позавчерашний день техники. Да и сама задача сегодня неактуальна. Вопрос был моден несколько лет назад…
– «Моден»! – передразнила Дятлова. – Наука не джинсы. А по-моему, последний вариант вполне сносен. Читает внятно, отчетливо…
– По складам, – вставил Коринец. – Буки-аз-ба.
– Не все сразу. Дайте время – научится.
Она напоминала бабушку, при которой ругают за тупость ее любимого внука.
– А голос? – спросил Коринец.
– Голос действительно неприятный. Еще повозимся и изменим тембр. Все в наших руках.
– А мне его тембр даже нравится, – это сказала Даная, внезапно возникшее из угла ржановолосое видение, улыбающееся глазами, губами, даже бедром. – Тембр властный, сразу видно – мужчина.
– Вот видите, Илюша, у нашего автомата есть даже поклонницы. Все признаки человека.
– Не все. У него нет, например, совести, а у меня, к сожалению, есть.
– Бросьте, Илюша. Мировая скорбь вам не к лицу. Давайте демонстрируйте.
– Вам же хуже. – Коринец удалился в один из углов выгородки. Возникли какие-то скрипы, пиликанье, птичий щебет, и вдруг на фоне шума зазвучал нечеловеческий, безобразный голос. Он произносил один за другим отдельные звуки:
…н-о-с-т-и – к-и…
– Стоп, – сказала Дятлова, – убавьте звук. И сколько раз вам говорить: не начинайте с середины фразы!
Короткое молчание, и снова нечеловеческий голос, правда чуть потише. Он скандировал по буквам:
н-е-о-г-р-а-н-и-ч-е-н-н-ы-е – в-о-з-м-о-ж-н-о-с-т-и – к-и-б-е-р…
Внезапно звук оборвался.
– Черт! – раздалось из угла. После синтетического живой человеческий голос, даже ругающийся, был отраден, как зеленая лесная лужайка после продымленного шоссе.
– Что случилось? – спросила Анна Кирилловна.
– Пропал звук.
– Слышу. Восстановите.
– Пробую. Все на соплях.
Несколько писков, всхлипов и скрежетов, и звук пропал окончательно.
– Неограниченные возможности кибернетики, – резюмировал Коринец, выходя из угла.
– Не иронизируйте. Еще вчера он отлично работал.
– Это проделки Картузова, – сказала Даная. – Вчера в конце рабочего дня он все тут вертелся и говорил об энтээр.
– Ладно, спишем неудачу за счет Картузова. Я думаю, Юра, вам все понятно?
– Непонятно – зачем? Уж не говорю о тембре.
– Тембр – дело наживное. А вообще читающий автомат очень может быть полезен. Например, для слепых. Даже этот несовершенный образец…
Коринец мефистофельски засмеялся:
– Неужели вы всерьез думаете, что можно каждого слепого снабдить даже таким несовершенным образцом?
– Думаю, – храбро ответила Анна Кирилловна.
– А главное, не предпочтет ли этот слепой сам читать книгу пальцами, по старинной системе Брайля? Это по крайней мере не терзает слуха. Вы спрашиваете: для чего это? – обратился он к Нешатову. – Не для чего, а почему. Задание не обсуждают, его выполняют. По возможности досрочно. А нужно это или нет – судить не нам, а начальству.
– Илюша, давайте без демагогии. Вы преувеличиваете. И в конце концов нельзя успешно работать, если не веришь в идею.
– Можно. Все зависит от того, как понимать «успешно». Можно выполнять и перевыполнять план, висеть на Доске почета, получать премии…
– Видели? «И ничего во всей природе благословить он не хотел». Вот и работай с такими людьми. Пока был Толя, все шло хорошо. Идея была его, и он в нее верил.
– А кто это Толя? – спросил Нешатов.
– Толя Зайцев, наш инженер. Перешел в академический институт, где больше платят. Обычная история – утечка мозгов. Без него как без рук.
– Может быть, мне попробовать? – неожиданно для себя сиплым голосом спросил Нешатов.
– Ой, Юрочка, золотко, будьте отцом родным!
– Есть у вас схема?
– Где-то есть.
Нашли схему. Нешатов погрузился в нее. Даная стояла рядом, заглядывая ему через плечо; он коротко сказал: «Отойдите». Она послушалась. Он подошел к установке, тронул один, другой тумблер, поиграл сопротивлениями, емкостями… Наконец-то он чувствовал себя на месте. Через малое время писки и чириканья прекратились, и опять возник синтетический голос, вещавший о неограниченных возможностях кибернетики…
– Хватит, – сказал Нешатов и выключил голос.
– Юрочка, вы гений.
– Просто грамотный инженер. Даже не инженер, а техник. С этой неполадкой мог бы легко справиться Картузов, если бы соответствовал своему назначению.
Тут отворилась дверь, и вошел молодой человек в голубой джинсовой паре, худощавый, впалогрудый, – общее впечатление доски, чуть прогнутой в верхней части. Лицо красивое, хотя и немужественное. Синие глаза, смуглая кожа, мягко вьющиеся полудлинные волосы.
– Анна Кирилловна, вы меня вызывали. К вам можно?
– Конечно, Гоша. Заходи, рассказывай.
Нешатов хотел уйти, но Анна Кирилловна его остановила:
– К вам у меня отдельный разговор. Подождите, мы скоро.
Нешатов присел поодаль, рядом с автоматом. Считывающая головка напоминала клюв большой птицы. Гоша с Анной Кирилловной сели за стол. Вид у нее был воинственный, у него – виноватый.