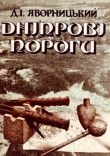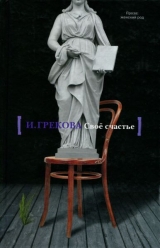
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
15. Сон и явь
С Данаей я сошелся случайно, не любя. Так и не полюбил.
Она подозревает, что я тайно влюблен в Магду. Это не так. Но чем-то она меня беспокоит. Не притягивает, скорее отталкивает. Глаза у нее такие светлые, что даже страшно. Загар сошел, но привлекательнее она не стала.
Но вот сегодня ночью мне приснилась любовь, и, как ни странно, она была связана с Магдой. Волна любви. Прибой любви – через голову. Любовь, окрашивающая весь мир. Колеблющаяся, как качание лодки. Мы с Магдой катались в лодке, я греб, она у руля. Какой-то был торжественный, оркестровый вечер. Безумное солнце садилось, испуская острые лучи, ножами пронзавшие облака. От весел бежали смуглые вихорьки. Листья кувшинок плавали на воде, большие, как тарелки. А в воздухе плыла любовь. Сон был прекрасен – олицетворение любви как стихии, любви самой по себе, без участников. В присутствии такой любви было бы нелепо, святотатственно прикоснуться к Магде, обнять ее, поцеловать. Это была любовь как таковая, как явление природы. Дождь, град, буря, туман, закат, облака, любовь.
Днем я видел Магду в лаборатории, специально пришел проверить, сличить со сном. Ничего похожего! Эта была не та, в лодке. Сидела с паяльником, была неженственна, резка, с погасшими волосами (во сне они светились). Нет, эту, реальную, я не люблю.
Вчера опять приходила Марианна, хотела убрать комнату, уговаривала вернуться. Опять: «То было увлечение, прости меня». Я солгал, сказал, что люблю другую. Она плакала. В сущности, она еще красива, и, пожалуй, можно было бы вернуться, в полной уверенности, что скоро убегу опять. Это было бы подлостью и по отношению к ней, и по отношению к сыну. И в какой-то мере даже по отношению к Данае.
Фабрицкий – тот искренне любит всех баб, начиная с жены и кончая вахтершей, проверяющей пропуска. Бабник-универсал. Может быть, его хронически заполняет та неперсонифицированная любовь, которую я испытал раз в жизни, и то во сне? Может быть, я просто ему завидую?
Нет, не в этом дело. Он меня раздражает весь, с его пылкой любовью к жизни, к себе, к своей мужественности, распорядительности, расторопности. Он словно не живет, а гарцует на невидимом коне. Младший Фабрицкий, Гоша, тоже мне неприятен. Конь есть и под ним, но помельче и спотыкается.
В сущности, я никого не люблю, кроме, может быть, Ольги Филипповны.
Сегодня, после работы, разговор с Данаей на лестнице. Она хочет вечером прийти, но я говорю: нет, я занят.
– Чем ты занят? Сам собой?
– Отчасти.
– Любишь Магду? Я видела, как ты на нее смотрел.
– Магда? Ты все равно не поймешь. Это сон, и тот выдуманный.
Это я сказал Данае в лестничном пролете, опершись на перила. Я стоял пониже, она – повыше и легла на перила грудью. Глаза постепенно наполнялись слезами, как раковина, в которую плохо проходит вода.
– Ладно, так и быть, приходи сегодня.
Зачем я это сказал? Я рассердился и сбежал по лестнице, грохоча подметками. Сбежав, взглянул вверх. Голова Данаи все еще виднелась в пролете.
…Целый день не мог вытряхнуть из себя сон. Вечером – явь с Данаей.
– Я знаю, ты не любишь, чтобы я говорила, всегда просишь меня помолчать. Но я не могу молчать. Ты уж потерпи, пока я разговариваю. Даже можешь заснуть, я не обижусь.
Я тебя полюбила, как только увидела. Помнишь? В тот день давали воблу в «Дарах». У меня были две большие рыбины, я тебе предложила одну. И ты отказался. Человек, который отказывается от воблы? Интересно. И вот тогда я тебя разглядела и осталась под впечатлением. Больше всего меня поразили твои глаза – страдальческие. И брови. Одна выше другой. Я сразу поняла: человек необыкновенный. И несчастный. Этого человека надо спасать в срочном порядке. Так, по ходу дела, я тебя и полюбила. И Анне Кирилловне сказала, что люблю. Мы с ней дружим. Мировая бабка. Вся в прошлом, а понимает психологию среднего возраста. Вообще-то я старух не люблю.
Моя любовь к тебе созрела и раскрылась, как коробочка. Знаешь, как хлопок созревает? Коробочками. Я была в командировке в Туркмении, а там в институте никого: все на хлопке. Я за компанию тоже поехала. Сначала коробочка закрыта, потом легкий треск – и лопается, открывается. И из нее вата облачком.
– Молчи. Лучше дай на себя поглядеть. Ну что ж? Полновата, но стройна, ноги длинные. В Летнем саду тебе бы стоять. Именно такие узкоплечие, полноногие стоят там, прикрывая свои прелести ладонью. Стоят и молчат. Помолчи и ты.
– Люби меня, пожалуйста, люби. Я так устала от того, что ты меня не любишь. Ну, солги, что тебе стоит? Скажи: «Даная, я тебя люблю». Повторяй за мной, по слогам: «Даная, я тебя люблю». Даже можешь по буквам, как наш автомат. Не хочешь?
– Не могу.
– Я понимаю, почему ты не можешь. Тебя почти нет. Ты не способен даже продавить ямку в постели. Ты весь какой-то отдельный: костюм – отдельно, руки – отдельно, шея и уши – отдельно. А белье? Ты же его не занашиваешь. Неделю носишь рубашку, а воротничок как сейчас из стирки. Это страшно. Ты не человек, а обозначение. И все-таки я тебя люблю. Можно я поплачу? Совсем немного.
– Только негромко.
16. Философский перекур
С синтетическим голосом опять не ладилось. После очередной перестройки он стал заикаться.
– Разбирайтесь без меня, с Игорем Константиновичем, – сказала Дятлова. – В кои веки раз явился. Солнышко красное!
Ушла сердитая. Коринец тоже был не в духе.
– А ты с чего такой мрачный? – спросила Даная. – Похож на пустой пиджак. Рукава висят…
– Я похож на пустой пиджак потому, что мою диссертацию опять не приняли к защите.
– Как не приняли? Ведь все уже было договорено!
– А вот так. Остается гадать почему. Официально потому, что не соответствует профилю совета. Теперь с этими узкими специальностями никак не угадаешь, под какой номер подвести работу. А если она, как это часто бывает, на стыке многих специальностей? Вот и сиди между многих стульев, не зная, куда примостить зад. Куда ни обратишься – «не по профилю». Диссертация уже два года как готова – лежит и устаревает. Идеи просачиваются наружу, того и гляди кто-нибудь перехватит. Кукуй тогда, как Толбин.
– А что говорит Фабрицкий? – спросила Даная.
– Сочувствует. У него теперь другие заботы. Сынок Гоша на выданье. Анна Кирилловна с ним возится-возится, а толку чуть. Вот когда я был аспирантом, никто со мной не возился. Фабрицкий вообще мной не руководил. Скажет: «Хорошо, старайтесь», – и упорхнет по своим делам. Я сам нашел тему, сам спланировал работу, подыскал литературу…
– А чего бы вы хотели? – с необычной для него резкостью спросил Полынин.
– Чтобы руководитель просматривал диссертацию по мере ее написания. Помогал советом.
– Жалкое иждивенчество! Позорный обычай тянуть людей в науку за уши. Не всякий человек может быть пианистом, не всякий – творческим научным работником. А того, кто может быть творческим научным работником, незачем кормить из соски.
– У всех есть руководители, – сказала Даная.
– Мой научный руководитель, покойный профессор Брагин, впервые увидел мою диссертацию уже переплетенной. Он говорил: «Знаете, как нужно брать себе аспиранта? Откинь ему волосы со лба, погляди в глаза и подумай: видишь ли ты его защищающим докторскую? Если видишь – бери». Таким учеником руководить не надо, он сам будет расти, как трава.
– Почему же он числился вашим научным руководителем? – спросил Коринец.
– Он не числился, он был им. Он не проверял мою работу, как тетрадь школьника, он учил меня за нее отвечать. Он подавал мне пример во всем: в правильности речи, в знании языков, в манерах, в научной порядочности, в скрупулезной точности. И общались мы с ним не только в институте, но и на теннисном корте, и в воде, на плаву. Он учил меня ценить в жизни не только дела, но и промежутки, интермедии между делами. Нельзя, конечно, превращать жизнь в одни интермедии, но и их нужно делать значительными, наполнять смыслом. Может быть, именно в них-то, в интермедиях, и происходит самое главное: создается взгляд на мир. «Это, – говорил он, – как во время купания: уже вышел в первый раз, еще не вошел во второй. Лежишь, обсыхаешь. Мокрый песок липнет к ногам, танцует муха, тысячи блесток сияют в воде. Как будто ничего не происходит, а может быть, это самое главное-то и есть». Почему-то тогда меня поразил именно этот пример, с купанием. Мой учитель вообще не знал, что такое скука. Он не скучал, даже стоя в очереди.
Даная, смеясь, заметила:
– Видно, ему не так уж часто приходилось стоять в очередях.
– Ошибаетесь, времена были трудные и очереди длиннее, чем сейчас. Он выносил из них множество полезных наблюдений. Он умел делать праздники из самых будничных дел. Недаром слово «праздник» одного корня с «праздностью». Любое дело у него было озарено сиянием праздности, в лучшем смысле слова. Удивительно, как он, занятой человек, легко расталкивал все насущные дела, если возникал интересный разговор. Понимал, что разговор – тоже дело. Наверстывал ночами, зачастую не спал совсем, а утром выпьет кофе – и в полной форме. Называл себя «кофейным пьяницей». Не мерил время, не укладывал его в прокрустово ложе обязательных дел. Сутки у него были раздвижные. Мог засидеться до поздней ночи в разговоре со мной, молокососом. И какие это были разговоры – исторические! Вдруг в них высвечивалось что-то совсем неожиданное, новый угол зрения на известные вещи. Помню его фразу: «Может быть, в нашем научном деле перекуры – самое главное». Кстати, он сам не курил. Он разумел, так сказать, философские перекуры…
– Нет, я не согласен, – сказал Коринец. – Я сторонник учета во всем. Эффективность научной работы поддается, как и все на свете, количественному учету.
Полынин улыбнулся:
– Значит, вы думаете, что всякое «лучше – хуже» может быть сведено к «больше – меньше»?
– Думаю. И если мы иногда этого не умеем делать, то временно. Еще поработаем – и научимся.
– Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Вы как типичный неофит в математике…
– Не такой уж я неофит.
– По сравнению со мной. Со всем одушевлением неофита вы верите в универсальность количественных оценок. Кстати, вы женаты?
– Пока нет.
– Жаль. Если бы вы были женаты, я бы вас спросил: поддаются ли количественному учету те черты вашей избранницы, которые заставили вас предпочесть именно ее?
– Это – совсем другое. А эффективность научной работы можно оценить количественно. Взять хотя бы индекс цитируемое…
Полынин засмеялся:
– Бог мой! С этим индексом носятся, как дураки с писаной торбой. Никуда он не годен. Во-первых, количество ссылок вовсе не характеризует значение трудов ученого. Больше всего ссылок на учебники, а в них-то, как правило, оригинальных идей нет. Кроме того, цитаты размножаются почкованием, переходя из книги в книгу. Не помню, кто из физиков сказал: «Достаточно ли эта идея безумна, чтобы быть правильной?» И вот эту «безумную идею», цитируя, затаскали до дыр. Фраза, конечно, эффектная, но не так уж глубока по содержанию. Вряд ли и сам автор шибко в нее верил, вряд ли старался выдумывать идеи побезумнее… «Безумные идеи» в науке не правило, а исключение.
– Идея нашего читающего автомата, по-моему, безумна, – сказала Даная.
– Это не безумие, а недомыслие. Но вернемся к «индексу цитирования». Самый большой его недостаток в том, что эта характеристика необъективна, подвижна. Представьте себе, что мы введем этот индекс как меру ценности ручного работника и, не дай бог, поставим от него в зависимость заработную плату. Чем ответит на это научный работник? Он скажет всем своим друзьям-приятелям: «А ну-ка, процитируй меня, а то у меня с индексом плоховато».
Даная засмеялась звонким своим заразительным смехом.
– А как же тогда установить вес ученого? – спросил Коринец.
– А никак. Во всяком случае, количественных мерок тут нет. Обходимся же мы без них при оценке труда актера? Или художника? Или руководителя? Говорим же мы о «духе коллектива», не характеризуя его числом? Дух коллектива – это нечто плохо определимое, легко уязвимое, как экология тундры или пустыни. В пустыне вырой один куст – и образуется «язва выдувания». Так и в хорошем коллективе: тронь его, нарушь чуть-чуть экологию – все.
Полынин сложил щепоткой тонкие пальцы, дунул на что-то воображаемое в них, развел пальцы – показалось, будто это что-то развеялось в воздухе.
– Это вы к чему? – спросила Даная.
– Виноват. Восстановим связь. Речь шла о Фабрицком. Илья сетовал на то, что им плохо руководили. А я говорил, что аспирантом не надо руководить, пускай растет, как трава. Растет, купаясь в наших делах, разговорах, перекурах, впитывает дух нашего коллектива, которым, по-моему, прекрасно руководит Александр Маркович. Он умеет работать весело, а это главное. Администратор должен быть веселым.
– И легкомысленным? – спросил Коринец.
– И это не вредно. Лучше, чем слоновое тяжеломыслие.
– А когда он брал в аспирантуру Феликса Толбина, что же вы ему не посоветовали откинуть со лба волосы и посмотреть в глаза? Толбин небось не будет расти, как трава.
– Его поливать надо, – согласилась Даная. – Оберегать от тлей.
– Такие люди, как Толбин, в науке необходимы, – сказал Полынин, – идеальные исполнители. Принципиально новых идей он не дает, но внимателен, добросовестен, предельно точен; генератор идей обычно этими качествами не обладает. Не вина его, а беда, что он попал в аспирантуру. А с его диссертацией действительно получилась накладка, как говорят в театре, когда у них что-нибудь не вовремя выстреливает или неожиданно падает. Пересечение результатов – беда нашего времени. Широта науки, коллективный характер приходят в противоречие с традиционной единоличностью диссертаций.
– Что же, по-вашему, они должны быть коллективными? – спросил Коринец.
– По-моему, вообще весь институт диссертации безнадежно устарел. Ученые степени надо присваивать не по диссертациям, а по совокупности трудов. Об этом уже давно говорят, но все без толку. А главное, не надо связывать оплату труда с ученой степенью. Пусть она будет чем-то вроде ордена: материальных преимуществ не дает, а иметь почетно. А то у нас многие идут в науку не потому, что чувствуют к ней интерес и способности, а из материальных соображений. А это для науки гибель. Она страдает от множества лишних людей. Мало того что они занимают чужие места, они еще плодят продукцию, мутный поток псевдонаучных изделий. Они дорабатывают, доводят до тонкостей чужие хорошие идеи. Хорошая идея – нечто вроде порхающей бабочки. Стоит ее тронуть, начать дорабатывать – всё кончено, идея уже не жива. Нельзя строить науку на «доделывании». Так же, как и искусство. Много ли мы выиграли бы, если бы дописывали, скажем, «Мертвые души»? Эпигонство в искусстве осуждается, в науке, наоборот, поощряется. Добрая половина появляющихся якобы новых научных работ – типичное эпигонство.
– Значит, наш читающий автомат не надо дорабатывать? – обрадовалась Даная.
– Техника – совсем другое дело. Хорошую техническую идею именно надо доделывать до конца, оттачивать, обсасывать. В науке часто постановка задачи важнее, чем ее решение. В технике – никогда. Тут важна не поэзия, а проза, черновой труд, терпение. Если бы от меня зависело, я бы ввел специальные степени за достижения в области техники. Надо всемерно поднимать престиж техники как таковой. А у нас что получается? Прекрасный инженер, талантливый изобретатель тратит годы на то, чтобы написать о своем изобретении никому не нужную диссертацию, притянуть к нему за уши математический аппарат. Что здесь первично, а что вторично? Иногда действительно первична наука, а на ее базе создается техника. Но как часто, наоборот, сначала создается вещь, материальный предмет, и только потом под него подгоняется теория! Наука тут выступает в позорной роли клоуна, бегущего сзади с криками: «Куда же вы? А я? Меня подождите!» – и которого в конце концов закатывают в ковер… Так бы я закатал в ковер ненужные математические побрякушки.
– Про меня говорят, что я нигилист, – сказал Коринец, – но настоящий нигилист – это вы, Игорь Константинович. Сначала вы расфукали институт научных степеней, потом закатали в ковер математику…
– Я за математику там, где она действительно нужна, и против нее там, где она засоряет мозги, угнетает мысль. В свое время изобретение математической символики было огромным шагом вперед. В наше время она нередко употребляется для того, чтобы маскировать отсутствие мысли. Математика не только бесполезна, она вредна, если применяется к явлениям, не осмысленным на качественном, доматематическом уровне. Правильно сказано: «Вначале было Слово». Начинать надо со Слова и только потом, если нужно, переходить к формулам.
– А не пора ли нам закончить философский перекур и перейти к делу? – спросил Коринец. – Анна Кирилловна просила срочно привести в порядок нашего говорящего болвана. Речь у него нарушена, вас тут не было, я, как вы знаете, не в ладах с техникой, а Картузов…
– Интеллигентный человек может и должен при надобности уметь работать руками, причем не хуже Картузова, а лучше. На то он и интеллигент. Презрение к ручному труду – самая холуйская черта, ее надо в себе изживать, а не хвастаться: я, мол, не в ладах с техникой! Если не в ладах – научись! Кстати, работать руками очень приятно. Ни одна моя научная работа не доставляла мне столько удовольствия, как хорошая вещь, сделанная моими руками… Давайте сюда тестер, займемся. Я уже тут, пока трепался, подсообразил, в чем дело.
– Игорь Константинович, можно вас на два слова? – спросила Даная.
– С удовольствием.
Они отошли в сторону.
– Говорят, у вас Марья Васильевна ощенилась.
– Не ощенилась, а окотилась.
– Все равно. У меня сейчас такой период в жизни, что мне остро необходим котенок.
– Как удачно! Вы меня очень обяжете. Вы не представляете себе, как трудно бывает раздать котят в хорошие руки.
– Вы уверены, что мои руки хорошие?
– Не сомневаюсь.
– Значит, договорились. Сегодня вечером приду. Давайте адрес.
17. Чёртушка
Полынин жил одиноко и чисто в однокомнатной квартире второго этажа. Судьбу с ним делила Марья Васильевна – огромная кошка светло-серой масти с загадочными глазами. Они были на «вы». «Марья Васильевна, пойдите сюда». «Мя!» – отвечала она коротко, подходила и терлась изогнутой спиной о ногу хозяина, без подхалимства, но с уважением.
Полынин взял Марью Васильевну еще Марусей – небольшим игривым котенком, она росла-росла и выросла в нечто огромное. «Не кошка – лев!» – говорили о ней во дворе.
Под стать росту был и ее темперамент. В любовный экстаз Марья Васильевна впадала чаще и мощнее, чем другие кошки. В эти периоды ее «мя» звучало как «ма», на басовой, хриплой ноте. Хозяин, опасаясь последствий, старался не пускать ее во двор, но она уходила сама, прыгала с балкона, «падала в любовь», как называл эту акцию Игорь Константинович, буквально переводя английское выражение «to fall in love». Успехом она пользовалась необычайным. Все коты двора собирались возле «упавшей в любовь» Марьи Васильевны, становились в круг и гнусно орали. По какому признаку выбирала она супруга – неизвестно, но выбирала и, надавав ему пощечин, уводила с собой. После медового месяца, продолжавшегося несколько дней, возвращалась умиротворенная и преданно терлась похудевшим боком о ногу Полынина. «Каково погуляли, Марья Васильевна?» – спрашивал он, и она отвечала кошачьим «хорошо».
В положенный срок рождались котята, и Марья Васильевна переходила на амплуа кормящей матери. Тут возникала для Полынина серьезная проблема – раздать котят, или, как он выражался, «трудоустроить». Известный своим искусством уговаривать (самые придирчивые заказчики принимали работу, если на них выпускали Полынина), он и тут был на высоте: находил кандидатов в кошковладельцы и каждого умел убедить, что именно этот котенок ему или ей насущно нужен.
Сейчас Марья Васильевна была как раз в роли кормящей матери, полна и роскошна. Из четырех ее котят трое были классической тигрово-серо-бурой масти, а один уродился черным. Этот черненький был слабее и меньше других, ходил как-то боком, на расползающихся ногах и сильно был обижаем своими более крупными братьями (или сестрами, ибо пол котят был пока неизвестен). Трое серых отталкивали черного от материнской груди; он, и без того слабый, оставался голодным.
Вернувшись с работы, Полынин увидел знакомую картину: трое серых сосали дремавшую Марью Васильевну, а обездоленный черный сидел поодаль и от нечего делать лизал себе грудь острым розовым язычком.
– Марья Васильевна, что ж это вы? Троих кормите, а четвертого – нет? Не дело! – Марья Васильевна подняла широкую зеленоглазую голову и сказала «мя!». – Придется вас потревожить.
Полынин отнял от ее груди троих агрессоров, посадил их в авоську и повесил на ручку двери. Вместо них он положил черненького, который с жадностью начал сосать. Трое в авоське попискивали, попирая друг друга, мать беспокоилась, колотя хвостом по подстилке, а Полынин ее уговаривал: «Лежите, лежите!» Когда черненький наелся, Полынин вернул остальных в исходное положение. На этот раз драки не было, все мирно заснули.
Полынин пошел на кухню, разогрел обед и скромно поел. Свое холостяцкое хозяйство он вел сам, не прибегая ни к чьим услугам. Все было под рукой, разумно механизировано, ряд приспособлений изобретен и изготовлен им самим; уборка и готовка отнимали минимум времени. Пообедав, убрав посуду и сварив рыбу для Марьи Васильевны, он выкурил сигарету и с удовольствием отметил, что вечер еще весь впереди и можно будет докончить статью.
Он посмотрел программу радиопередач: концерт из произведений Рахманинова, – включил радио и сел заниматься. На столе и вокруг стола и во всей комнате – всюду был у него аскетический порядок: все необходимое, ничего лишнего. Музыка не мешала ему работать, а помогала, придавая мыслям четкий ритм. Так было и на этот раз, пока звучный женский голос не объявил: «Четвертый концерт для фортепьяно с оркестром…»
Дурак, как он мог забыть об этом концерте? Редко исполняемое произведение? А все-таки надо было поостеречься. На своем проигрывателе он никогда этого концерта не ставил, суеверно засунул пластинку подальше. Выключить? Поздно. Музыка уже началась. Он поддался ей, оперся подбородком на руку, заслушался…
Концерт был написан композитором уже в эмиграции, на чужбине. Видно, оттуда эта глубокая, грозная печаль. Слушая, Полынин мысленно видел одинокого человека на углу какой-то «авеню» и какой-то «стрит», а кругом черный, глухой, чужой город. Человек-крошка стоит у подножья небоскреба. Дремучий город издает хриплый, рокочущий гул. И на фоне гула – трагически-бедная, повторяющаяся мелодия из девяти нот. Песнь отчаяния.
…Этот концерт я слушал когда-то вместе с Надеждой. Зал филармонии – белые колонны, красный бархат диванов. Толпа молодежи на хорах. Медь и дерево духовых инструментов, смычки струнных, напряженно выдвигающиеся, тянущиеся вверх. За роялем пианист во фраке – черный, согбенный кузнечик. И – грозная, страшная музыка: Четвертый концерт.
У меня на коленях – зажатая в моей маленькая, влажная рука Надежды, вздрагивающая в такт настойчивым девяти нотам. Желтые волосы, синее платье. Рожь и васильки. Все это я погубил.
Кончился концерт. Черный кузнечик раскланялся, вскидывая фалды фрака. Разве можно после такого кланяться?
Ночь с Надеждой. Ее густоволосая голова на моем плече. Слезы. Плечо было все мокрое. Если бы сейчас Надежда была жива, она была бы стара. Почти стара, как и я.
Был бы сын от Надежды. Костя, Константин Игоревич. Где-то он сейчас существует, по Метерлинку, – в царстве неродившихся душ.
Что я, собственно, тогда сделал? Не солгал. Иногда не солгать – преступление. Надо было солгать, сказать «люблю».
Любил ли я когда-нибудь по-настоящему? Сомневаюсь. Ее больше других, но тоже не все время. Моментами, вспышками любил. Когда вспышка кончалась, хотелось сесть за письменный стол. Ошибка женщин в том, что они хотят вечно длящейся вспышки.
…Разговор той ночью. Она еще колебалась: делать или нет? В те времена аборты были запрещены. Боялась уголовной ответственности, а вышло другое – смерть. Те девять нот были предупреждением, но я не внял, не понял.
Утром она уходила. Все зависело от меня: солгу или нет? Не солгал, не мог. Поцеловал ее на прощание. Поцелуй Иуды. Потом, в больнице, врач: «Кто вы ей?» – «Никто, просто знакомый». Я был ей никто. Но она меня забрала, на всю жизнь. Так и не женился. Правильно сделал. Писал, забывшись: «Надежда Полынина»… Если бы…
Раздался внезапный, убийственно резкий звонок в дверь. Кто это? Полынин выключил радио, пошел отворять. На лестничной площадке в полутьме стояла Надежда. Он испугался, стал пятиться к двери.
Это не Надежда была, а Даная. Он это понял, когда она рассмеялась.
– Игорь Константинович, вы забыли? Я за котенком.
– И правда, забыл. Прошу прощения. Рассеянность ученого. Но я вам рад. Заходите.
Он снял с нее пальто. Она расчесала волосы перед зеркалом. Ржаной сноп. Он понял, почему принял ее за Надежду. Та же форма головы, тот же цвет. Только у Данаи волосы крашеные, с чернотой у пробора. У Надежды желтизна была своя…
Она вошла. «А у вас приятно». Села на единственную тахту – узкое, жесткое ложе Полынина, поболтала ногами.
– Где котенок?
Котята спали у большого пушистого брюха Марьи Васильевны. Даная сразу выбрала одного:
– Этого возьму, черненького.
– Пожалуйста, только должен предупредить: он из всего выводка самый слабый.
– Это хорошо. Я люблю слабых, судьбой обиженных.
Извлекли из клубка котят черного, подняли в воздух. Он раскрыл голубые глазки, слабо пискнул. Тоненькие, почти невидимые коготки скребли воздух.
– Какой обаятельный! – сказала Даная. – Он кот или кошка?
– Понятия не имею.
– Все равно беру. Назову Чёртушкой. Годится в любом случае.
– Что ж, имя хорошее.
Чёртушка, немного повозившись, свернулся на теплых коленях Данаи и задремал. Она осторожно поглаживала его – до чего же худ! Одни косточки! Полынин пристально ее разглядывал. Не померещилось ли ему сходство с Надеждой? Нет, безусловно, что-то общее есть. Прибой волос. Сердцевидный овал лица. Глубокая впадинка от носа к верхней губе. Как он этого раньше не замечал, видя Данаю почти ежедневно?
– Что вы меня так разглядываете? – спросила она. – Может быть, вы в меня влюблены?
Сходство с Надеждой, мигнув, исчезло.
– К сожалению, нет, – ответил Полынин.
– А что? В меня можно влюбиться. Я красивая.
– Это не причина.
– Плохо вы меня принимаете. Я же ваша гостья. Гостей полагается угощать.
– У меня мало что есть. Чаю с печеньем хотите?
– Хочу. Главное, чтобы от души.
Полынин пошел на кухню ставить чайник. Даная, оставшись одна, оглядывала комнату. «Приятно», – сказала она, войдя. Нет, не приятно. Чисто, пусто. Ни пылинки. Без пыли какой-то нежилой вид. На стенах – ни картин, ни фотографий. На угловой полке – одна деревянная скульптура, нечто вроде человека, с усилием рождающегося из дерева…
Чёртушка потянулся, расправил игольчатые коготки и замурлыкал. От его тельца шло явственное дрожание, передававшееся вверх по руке. Существо слабое, хрупкое, недолговечное…
Вошел Полынин.
– Игорь Константинович, а ведь все кошки вашего года рождения уже умерли. И все собаки. И все лошади. Вам это не страшно?
– Нисколько.
– А мне страшно. Я люблю жизнь и не хочу умирать. Может быть, потому, что я ничего в своей жизни не сделала. Если умру, окажется, что жила зря. Вот вы в своей жизни много сделали. Поэтому вам и не страшно.
– Ничего я не сделал. Утону, как камень, упавший в воду. Пока живу, от меня идут круги…
– Хотела бы я, чтобы от меня шли такие круги!
Чёртушку сняли с колен и положили к другим, у пушистого бока Марьи Васильевны.
Чай у Полынина был крепкий, золотой, свежезаваренный.
– Со слоном? – спросила Даная.
– Со слоном. Индийский.
– Это я люблю. Между прочим, слоны вашего возраста, возможно, еще живут.
– Спасибо. Берите печенье.
– Оригинально. Обычно, когда ждут гостей, покупают торт, а у вас – сухое печенье.
– Виноват, я вас не ждал. А если бы и ждал, никакого торта не купил бы. Эти жирные символы праздника я терпеть не могу. Это наш, русский обычай, причем появившийся за последние годы. За границей этого нет. Там угощают куда более скромно, по нашим масштабам – бедно.
– А я люблю торты. Не есть, а смотреть. Есть мне нельзя из-за фигуры. Мы, полные женщины, лишены радостей жизни. А смотреть люблю. Что-то торжественное. Особенно когда рожденье, свечи по числу лет, огоньки дрожат, подмигивают… Знаете, один мой знакомый мальчик, лет шести, глядя на такой торт, сочинил стихи. Называются: «Чашки чая». Я их запомнила, прочесть?
Полынин кивнул.
– Передо мною торт стоит.
В торту свеча горит.
Один годик мне исполнялся,
Когда горела одна свеча.
Когда горела одна свеча —
Рождался я.
Балалаечка моя!
Не наигрался я!
В глазах Данаи появились слезы.
– Вы плачете? Дать валерьянки?
– Не надо. У меня вообще слезы близко. Выступят и уйдут внутрь. Это ненадолго, из-за стихов. Такая в них грусть: «Не наигрался я!» Вот и я не наигралась на своей балалаечке… Потому и боюсь смерти. Но не всегда. Иногда я ее призываю, чтобы не проходить позора старения.
– Слово «старение» применительно к вам не звучит.
– Приятно слышать. С этой точки зрения полезно общаться с людьми не своего возраста, а старше. Давайте не будем о смерти, о кошках, слонах, лошадях. Лучше посплетничаем. Обожаю сплетничать! А вы?
– До сих пор не замечал в себе этой черты.
– Бросьте. Конечно, любите, как и все, но не хотите признаться. Полагается думать, что сплетни – это плохо. Наоборот! Когда мы говорим о людях, они оживают. Кажется, в спектакле «Синяя птица» проводится идея, что мертвые оживают, когда мы о них говорим.
– То мертвые.
Полынину вдруг пришла в голову шальная мысль рассказать о Надежде, но он сразу же ее отбросил.
– Мертвые оживают, – задумчиво сказала Даная, – а живые становятся живее, когда мы о них говорим.
– Новая точка зрения, – усмехнулся Полынин, – но на сегодняшний вечер я готов ее принять. О ком вы хотите говорить?
– О разных людях. В частности, о Нешатове. Какого вы мнения о нем?
– Трудно сказать. Человек для нас новый, я его еще до конца не понял. По-видимому, дельный инженер. Способностей к теоретической работе пока не видно. Усидчивость незаурядная.
– Я не о деловых качествах, а о личных. Что он за человек?
– Сложный. Замкнутый. Обидчивый. Чем-то и кем-то обделенный.
– Вроде вашего, теперь моего, Чёртушки. Как, по-вашему, он честный человек?
– Я любого человека считаю честным, пока он мне не доказал противного.
– Правда, что он сидел в тюрьме? А потом долго был в психиатричке?
– Первый раз слышу. А откуда у вас такая информация?