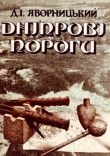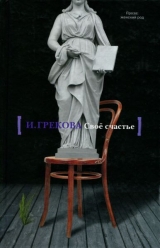
Текст книги "Пороги"
Автор книги: И. Грекова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
4. Интермедия
Пока шло оформление, Нешатов недели две, а то и три был свободен. Как он тянул эти последние недели, пил по капле! Он хотел еще напоследок пожить, подумать.
Квартира была на окраине, в новом районе; по ночам было слышно, как кричат поезда. У него была давняя, привычная бессонница, которая его не тяготила, скорее напротив. Он лежал и лежал на продавленной, дряхлой тахте, чувствуя телом пружины, а поезда кричали глубокими, разными, завлекательными голосами. Он узнавал их по голосам.
Вот, например, высокий, нервный, кричащий стон – это прошла последняя электричка. А в ней люди, люди, сидят, кивают головами в дремоте, головы у них ритмично шатаются, их везет куда-то во мрак, а они едут. Молодой парень, подобрав колени к подбородку, спит на гладкой деревянной скамье, хорошо ему, прикрыл кепкой белобрысый чуб и левое ухо; все тело безвольное, словно жидкое, мягко вздрагивает от толчков поезда, и так он сладко и мягко спит, но вот кепка его начинает сползать, сползает, падает, и хочется сейчас, сразу же, подобрать ее с полу и осторожно положить парню на голову: спи.
А вот глубокий, солидный, низко вибрирующий гудок. Это скорый, дальнего следования. Он следует издалека, он вращает, вращает свои большие колеса, он везет вагоны, в вагонах – тоже люди. Они спят, а может, уже и не спят, подъезжая к Ленинграду, и кое-кто, приподняв занавеску, вглядывается в темноту за окном, совсем не зная, что здесь рядом, на самом краю земли, лежит он на продавленной тахте. Человек смотрит в темноту, а там, в темноте, ничего не видно, только столбы с фонарями. Фонари пролетают, мигнув радужными ресницами. И вот он идет к тебе, смотрящему, навстречу – огромный, невидимый в темноте город, и будки на путях сидят, горбатые, как медведи. Поезд останавливается, люди берут чемоданы, выходят в коридор, теснятся, у каждого своя цель, люди толкают друг друга своими целями…
А может быть, он кричит, не подходя к Ленинграду, этот скорый дальнего следования, а кричит он, уходя от Ленинграда все дальше и дальше, и кондуктор отобрал билеты, а пассажиры, заплатив по рублю за постель, начинают устраиваться на ночь. Человек вышел из купе покурить. Женщина, оставшись одна, зевает, вынимает из волос шпильки, ставит на вздрагивающий столик флакон одеколона «Тройной», нет, пожалуй, «Экстра». Ладно, пусть будет «Экстра». Она расчесывает волосы – зеркало большое, во всю дверь, – чуть наклонив набок голову (косо висят светло-русые пряди), надевает халат и ныряет под колючее одеяло, отогнув у лица чуть влажную простыню, устраивается поудобнее, подтянув колени к подбородку, и вот ее начинает ритмично подбрасывать и пошатывать. А тот, который курил в коридоре, тихо стучит в дверь и спрашивает: «Можно?» – «Пожалуйста», – отвечает она, а сама и глаза закрыла. Скользит в сторону зеркальная дверь, сосед входит, тушит свет, и в купе загорается синяя припотолочная лампа. Он быстро раздевается и ложится на свое место. И вот его тоже начинает плавно, размеренно, уютно подбрасывать и пошатывать. А внизу, под вагоном, толкуют колеса, о чем, не понять, будто стихи читают… И это очень хорошо – ехать так, чтобы тебя качало, встряхивало, только качало и встряхивало, но никуда не привозило…
В особые, редкие счастливые ночи приходили к нему воспоминания детства. Он не мог вызвать их по произволу, но иногда они его посещали сами. О детстве еще довоенном, сияющем, неомраченном. Наверное, ни у кого из людей не было такого детства. Как оно светилось, пронизанное любовью. Все они трое – отец, мать и он – любили друг друга, как никто, нигде, никогда. Его тогда звали не Юра, а Юка. Никакого другого Юрия так не звали. «Как тебя зовут, мальчик?» – «Юка». – «Юра?» – «Нет, Юка». Гордился именем, как знаком отличия…
Серия кадров. Сухие, просвечивающие руки матери, ее серые, молчаливые, пляшущие глаза. Прикосновение этих рук, этих глаз. Отец – высокий, огромный. Вероятно, был среднего роста, но видится огромным. Входя, заполнял комнату. Брал его, Юку, на руки, сажал на плечо. Вот он сидит на плече огромного человека и видит все не снизу, а сверху: и тонкий пробор на нежной голове матери, и странный фаянсовый чайник на буфете. Чайник звали «чудак». Формы необыкновенной: круглый, приземистый, дольчатый, похож на тыкву или патиссон. Ярко-коричневый, на нем выпукло выложенные зеленые листья с голубой стрекозой, как будто летящей, как будто садящейся… Чудак!
Вообще в семье у вещей прозвища. Большой ножик с широким лезвием – единственный режущий во всем доме, старинный, с серебряной ручкой – называется «кардинал». Почему? Неизвестно. Кардинал и кардинал. Потом, когда Юка – нет, уже не Юка, а Юра – читает Дюма, он всегда представляет себе кардинала Ришелье в виде ножа…
А вот они идут с мамой купаться. Он почему-то капризничает – сладко и вкусно капризничает, то ли хочется ему идти, то ли нет… Ему хнычется от счастья, а оно льется сверху – из маминой узкой руки. Она-то понимает, что капризничает он не всерьез, а в свое удовольствие. Он снизу видит ее улыбку – маленькую морщинку в углу рта – и счастлив и плачет. А вода в пруду красно-коричневая от торфа, как крепкий чай, и по ней плавают круглые листья кувшинок. А над ними парит стрекоза, голубая, как та, на чайнике-чудаке. Мама понимает, о чем он думает. Мама вообще все понимает. Она даже видит его сны…
А вот он разглядывает свои собственные босые следы цепочкой в серой, шелковистой дорожной пыли, которую так приятно пропускать между пальцами. Большой палец отчетливо отделен, противопоставлен другим… Мама рассказывает, как много значила для человека эта способность противопоставлять большой палец… На руках, конечно, а не на ногах. А у него – на ногах. Оба смеются, прямо заходятся смехом. Она еще не знает, что для него значат ноги. Он решил стать артистом балета.
И вот он танцует перед большим зеркалом – не только мужские, но и женские партии. Чтобы лучше держаться на носках, он вставил в тапочки пробки от шампанского… Кошка смотрит на него зеленым загадочным глазом…
А вот девочка Кира, в которую он влюбился шести лет от роду. Блондиночка с мышиной косой. Она старше его на два года и, естественно, его презирает. А он мучается. Это мучение прекрасно. Как клубящиеся лиловые тучи, набухшие грозой…
Гроза и в самом деле приближалась. Война, блокада. Черный, загнутый с краю кусочек хлеба, который он, подлец, украл у мамы. Нет, об этом нельзя. Это он себе запретил, запер сам от себя на замок. Тяжелый, амбарный…
5. Рабочий момент
Вот и все. Кончилась передышка. Нешатов вышел на работу.
– Очень рад, – сказал Ган, подавая ему белую, тонкую, словно привялую руку. – Как вы себя чувствуете?
– Нормально. А вы?
– Сегодня я чувствую себя ровесником мирового потопа.
– А обычно?
– На несколько тысячелетий моложе.
– А в чем дело?
– Сердце.
Нешатов кивнул. Он все понимал про сердце. У него самого оно иногда болело, не фигурально, а простой физической болью. Не очень сильно, но все-таки…
– Ну как, можете приступить к работе?
– Отчего же.
– Мы вам покуда выделили стол в общей комнате. Хотите поглядеть?
Нешатов чувствовал себя как собака, которой показывают цепь (вот-вот прикуют!), но согласился. В общей комнате не было никого, кроме Лоры. Ган показал на стол в углу:
– Ну как, вас устраивает это место?
– Стол как стол, – мрачно ответил Нешатов.
– Может быть, здесь вам будет темно? Хотите ближе к окну?
– Место меня вполне устраивает. Не хлопочите. Скажите лучше, с чего мне начинать.
– Для начала хочу вас познакомить с сотрудниками лаборатории, куда вы зачислены. Тема: речевой анализатор. Нечто близкое к тому, чем вы в свое время занимались. Сейчас у них идет эксперимент. Я думаю, вам будет интересно присутствовать. Увидеть непосредственно рабочий момент.
Нешатов молчал. Ничто ему не было интересно. Знакомиться, жать руки… Но что делать? Он кивнул.
– Это в другом крыле корпуса, – сказал Ган. – Я вас провожу.
– Может быть, вам лучше не ходить? С вашим сердцем?
– Может быть, мне вообще лучше не дышать, но этого я еще не пробовал. Нет уж, пойдемте. Мне все равно надо к ним зайти, целую вечность не был.
Они вышли через заднюю дверь и попали в царство ящиков. Тесовые, фанерные, железные, дюралевые, перевязанные и нет. Куда смотрит пожарная охрана? Нешатов живо представил себе пожар, пламя, людей, выпрыгивающих из окон… Ган шел впереди, лавируя между ящиками. Вверху тянулись трубы неясного назначения, круто изогнутые, какие-то металлические хоботы. На лестничной площадке две женщины в заляпанных спецовках белили потолок. Они строго посмотрели на идущих, одна крикнула: «Эй, берегись!» Ган и Нешатов, поднырнув под кистями, прошли дальше. «А неплохо бы маляром», – подумал Нешатов.
Тут им повстречался человек пенсионного возраста, он шел, раскачивая руками, перекидываясь от стены к стене, и что-то бубнил. «В наш век научно-технической революции…» – с удивлением услышал Нешатов, и тут же – фигурное ругательство.
Ган остановился.
– Николай Федотович, вы опять? – с отеческим упреком спросил он.
– Борис Михайлович, я в графике.
– Помните, что вы мне обещали?
– А то! Память как на магнитном барабане! – радостно подтвердил тот. – Кризис экологии, загрязнение среды. Уникальный водный резервуар озера Байкал…
– Знаю, – сказал Ган с кроткой грустью. – Значит, выговора вам мало. Может быть, лишить вас премии?
– Отчего же? Лишить можно. Дело хозяйское. Согласно общей теории относительности… – тут ругательства пошли фонтаном. Шедшая по коридору женщина испуганно оглянулась, сказала «батюшки» и по-куриному заспешила вперед. Пьяного сильно качнуло и прибило к стене. Он ухватился за нее двумя руками.
– Нечего делать, пойдемте, Юрий Иванович, – сказал Ган. – Я не Макаренко.
На ходу Ган объяснял:
– Это Николай Федотович Картузов, единственные руки на весь отдел. И те далеко не золотые. Крылов, кажется, сказал: «По мне так лучше пей, а дело разумей». Этот и пьет и дела не разумеет.
– А зачем вы его держите?
– Наивный вопрос! А где я найду другого? Других? Все умелые руки разбрелись по мастерским полукустарного типа, подторговывают запчастями, вообще промышляют «налево». У нас есть штатные места техников, механиков, лаборантов, а кто пойдет на такую зарплату? Это болезнь не только наша, но и других отраслей, здравоохранения например… Дай мне право вместо двух техников взять одного, но заплатить ему вдвое – совсем бы другая была картина. А так приходится мириться с Картузовым, быть ему благодарным, если он хоть раз в неделю возьмет в руки отвертку… Вообще-то научные работники у нас на самообслуживании: сами паяют, монтируют, чинят. Средние века. А что делать? Вы, надеюсь, не боитесь ручной работы?
– Меньше, чем умственной.
Кажется, дошли. Ган остановился у высокой двери:
– Сюда, пожалуйста. Только, если нетрудно, откройте сами.
Нешатов взялся за ручку. Мощный амортизатор неохотно поддался и, впустив вошедших, вернул дверь в исходное положение со злобной, явно излишней силой.
– Единственная техника, которую освоил Картузов, – это дверные пружины, – сказал Ган.
Нешатов огляделся. Картина обычная для скромных лабораторий, он их навидался на своем веку. Трещиноватые, пыльные поверху стены, распределительный щит, на кафельном полу – змеи проводов в оплетке. Отсвечивающие стекла шкафов; в одном из них сияло осенними красками отраженное дерево уличного пейзажа. Посреди помещения – массивный металлический шкаф с человека ростом, видимо, та самая машина, на которой работали. Передняя стенка была откинута; он заглянул внутрь и увидел привычные хитросплетения разноцветных проводничков, всегда напоминавшие ему кишочки животного, какого-нибудь крота… Общий вид машины был кустарно-домодельный; видимо, монтировали сами. Это ему понравилось: он, со своей отсталостью, вполне сюда вписывался. Современной светлой роскоши, знакомой по рекламным проспектам, он бы не вынес.
Поведя глазами дальше, он увидел в простенке между окнами световое табло, метра полтора на полтора, мелко выложенное сплошной мозаикой маленьких ламп. Лицом к табло, спиной к вошедшим стояла тонкая девушка в черной водолазке и косо клетчатой юбке. По плечам у нее лежали пышные волосы медно-бронзового цвета. Когда вошедшие остановились за ее спиной, она резко обернулась и на миг показала глазастое, смуглое, недоброе лицо.
В углу у пульта стоял высокий, очень красивый молодой человек в наушниках, как будто сошедший (минус наушники) откуда-то с картины старинного мастера. Так и виделась на нем богатыми складками задрапированная тога. Нешатов отчужденно отметил нежно-розовое лицо, ровные дуги бровей и младенчески чистые, удлиненные голубые глаза.
В помещении был еще один человек, постарше, в очках, небрежно, но чисто одетый; он сидел на стуле, перекинув ногу на ногу и покачивая ею с непринужденным изяществом. Впечатления изящества не нарушал даже плохо натянутый хлопчатобумажный носок, свисавший с ноги и вздрагивавший в такт ее качаниям.
– Товарищи, – сказал Ган, – я привел нашего нового сотрудника Юрия Ивановича Нешатова. Будьте знакомы.
Девушка в водолазке сухо шагнула к Нешатову и подала узкую коричневую руку:
– Магда.
– Магдалина Васильевна Вишнякова, старший научный сотрудник, кандидат технических наук, – пояснил Ган.
– Для такого длинного названия объект маловат, – скупо усмехнувшись, сказала Магда.
И в самом деле она была мала ростом и плоска, почти безгруда. Прическа мальчика-пажа – спереди челка, сзади волосы до плеч – еще усиливала впечатление недозрелости. На лице всего заметнее были глаза – большие, чрезмерно светлые, зеленые с голубизной, глядевшие прямо и требовательно. «Прелестная женщина», – сказал о ней Ган. Ну нет. Красота, пожалуй, была – тонкая, собранная, смуглая; прелести не было. Должно быть, зла, как хорек, подумал Нешатов.
Человек постарше, сидевший на стуле, снял ногу с ноги, встал и, наклонив голову, представился:
– Игорь Константинович Полынин.
– Доктор технических наук, – подсказал высокий в углу.
– Скорее санитар технических наук. Даже ассенизатор.
Неостроумно, подумал Нешатов, но Магда и высокий засмеялись.
При ближайшем рассмотрении Полынин казался еще старше, чем на первый взгляд. Волосы, пестро-седые, росли какими-то кустиками. Лицо несвежее, помятое, почти стариковское, но глаза как раз молодые, блестевшие слюдяным блеском, который почему-то казался сосредоточенным не за очками, а впереди них. Поздоровавшись, он сел и возобновил качание ногой. Каждое его движение выдавало хорошо воспитанного человека, даже это качание, которое у другого выглядело бы хамством. «Черт его знает, как это достигается?» – с завистью подумал Нешатов, чувствуя себя самого невоспитанным в каждом движении.
Молодой человек в углу снял наушники и с приветливым поклоном произнес:
– Феликс Толбин, пока без отчества и без степени.
– Все в будущем, – с улыбкой пояснил Ган.
– Будущее темно, – ответил Толбин и тоже улыбнулся. Его приветливая улыбка вспыхивала и пропадала мгновенно, как мигающий световой сигнал. Что-то было в ней завораживающее, и все же Нешатов наблюдал ее с неприязнью. В этом быстром обмене улыбками и выражениями лиц он почуял намек на что-то ему неизвестное и потому неприятное.
– Очень рад, – сказал он, чтобы не молчать. На самом деле он не был рад, напротив, ему хотелось бежать отсюда, лучше всего на улицу, где так непосредственно и просто сияло дерево.
– Но мы помешали вам работать, – заметил Ган. – Прошу продолжать опыт.
– Магда, на место! – шутливо скомандовал Полынин.
Она пожала плечами – два уголка:
– Пожалуйста. Только все равно ничего не выйдет. При свидетелях никогда не выходит.
– Магда, – мягко сказал Ган, – опыт, который не может быть повторен при свидетелях, – не опыт.
– Знаю, – резко ответила она, – это не опыт, и именно потому я не хочу его демонстрировать.
– Я вас прошу, – сказал Ган.
– Как хотите.
Она снова стала лицом к табло. Толбин вернулся к пульту и вздел наушники.
– Опыт восемьсот тридцать пять, – раздельно произнес он. – Внимание! Сигнал.
Секунда, и на световом табло последовательно, волной слева направо, начали вспыхивать оранжевые лампочки. Из них образовался прихотливо изрезанный знак – нечто вроде карлика с бородой и флагом.
– Интеграл, – сказала Магда.
Лампочки погасли.
– Ошибка, – сказал Толбин, – был подан не «интеграл», а «интервал».
– Ну, я так и знала! Опять он глотает концы. С таким диктором невозможно работать.
– А кто поручится, что в жизни вам не встретится диктор, глотающий концы? – спросил Полынин.
– Жизнь – это другое. Мы еще только пробуем. Неотлаженная аппаратура плюс косноязычный диктор…
– Святое косноязычие пророков и поэтов, – как бы про себя заметил Полынин.
– Позвольте продолжать? – спросил Толбин. – Опыт восемьсот тридцать шесть. Внимание! Сигнал.
Снова загорелись оранжевые лампочки. На этот раз узор был похож на слона. Магда заколебалась:
– Выставка? А может быть, вывеска? Нет, он меня сбил, ваш пророк или поэт. Дайте мне нормального человека.
– Не выставка и не вывеска, – сказал Толбин. – Просто выборка.
– Вот опять! – вскрикнула Магда и рывком повернула к ним узкое темное лицо. Длинная прядь волос откуда-то сзади упала ей на глаза. Она с досадой отгребла назад волосы и открыла беленький, даже голубоватый лоб. Стало видно, что ее смуглота – просто загар, что под ним она бледна, голубовата. «Может быть, когда сойдет загар, она будет лучше», – думал Нешатов. Сейчас она была просто нехороша.
Тут отворилась дверь, и вбежал коротенький человек с головой, похожей на свернутого ежа, – тот самый, которого еще в первый приход заприметил Нешатов. Вид у него был свирепый.
– Какого черта, заснули вы, что ли? – крикнул он, но, увидев постороннего, осекся.
– Знакомьтесь: Юрий Иванович Нешатов, – сказал Ган.
Коротыш взглянул на Нешатова с сердитым восторгом:
– Встреча с вами для меня событие. Малых.
Фамилия прозвучала отрывисто, как брань.
– Руслан Сергеевич, – с улыбкой подсказал высокий в углу.
– В тысячный раз прошу меня этой собачьей кличкой не звать. На тысячу первый – стреляю.
– Пророк или поэт в своем жанре, – сказал Полынин.
Магда рассмеялась. Малых сердито к ней повернулся:
– Хихоньки-хахоньки, а работа стоит. Сколько процентов сегодня?
– Еще не подбили. Судя по всему, меньше восьмидесяти.
– Дерьмо, – быстро отозвался Малых.
– Товарищи! – взмолился Ган. – При даме.
– Ничего, я привыкла.
– Прошу прощения, Юрий Иванович, – сказал Ган. – Вы можете о нас подумать бог знает что, там Картузов, тут Малых…
– Ничего, я тоже привык. Только я ничего не понял. Что здесь происходило?
– Магда, может быть, вы как автор работы объясните Юрию Ивановичу, что к чему?
– Вовсе я не автор. Это мы все…
– Скромность девичья, – заметил Полынин.
– Вы не девушка, вот и объясняйте! – огрызнулась Магда.
– Я здесь вообще на птичьих правах.
– А идея унификатора разве не ваша? – ревниво спросил Малых.
– Ну, идея… Идеи, как говорят, носятся в воздухе. Слава богу, вопрос о научном приоритете, такой модный четверть века назад, снят с повестки дня. Научное половодье, информационный взрыв. Никто не успевает читать, все только пишут и часто пишут одно и то же, хотя в разных обозначениях. Творим не мы с вами, творит время. Бессмысленно спорить о том, кто первый сказал «э!».
– Однако… – начал было Толбин, но смолчал.
– Ну вот, а вы спорите, кому рассказывать, – примирительно сказал Ган. – Расскажите вы, Игорь Константинович, как старший и авторитетнейший.
– Выступить в привычной роли главного брехуна? Согласен. Только давайте сядем, я люблю брехать с комфортом.
Все уселись.
– Борис Михайлович! – жалобно воззвал Малых.
– Хотите курить? Бог с вами, курите, разрушайте свое здоровье. О моем я уже не говорю.
Малых закурил, к нему присоединились Полынин с Нешатовым. Ган сокрушенно глядел на голубые облачка дыма. Полынин выпустил дымовое кольцо, проткнул его другим, другое – третьим, перекинул ногу на ногу и заговорил:
– Начнем ab ovo, то есть с яйца, как говорили римляне. Из чего, между прочим, следует, что для них вопрос: что было раньше, курица или яйцо? – не существовал. Раньше было яйцо.
Малых слушал, преданными собачьими глазами глядя на говорящего.
– Итак, начнем ab ovo. Наша лаборатория занята вводом в машину сигналов, поданных самым натуральным для человека способом – при помощи устной речи. Проблема не новая, но дьявольски трудная. Писатели-фантасты давным-давно ее освоили и подают своим роботам, «киберам» и прочим устройствам словесные команды. А реальных устройств, понимающих речь, практически нет. Тембр, акцент, артикуляция – все эти элементы от человека к человеку резко меняются. Сравнительно легко натренировать машину так, чтобы она слушалась приказов своего «хозяина», того, кто с нею постоянно работает, и страшно трудно, чтобы слушалась любого. В этом отношении требования к машине прямо противоположны требованиям к собаке…
«Зачем эти украшения?» – с тоской думал Нешатов.
– Если послушать наших журналистов, воспевающих величие науки, ее «достижения» и «свершения», то можно подумать, что все трудности уже позади. Их стандартная формула: «Профессор улыбается». А улыбаться тут нечему. Трудности, почти непреодолимые, возникают на каждом шагу. Вот эти-то прекрасные трудности до сих пор остаются в тени. Борзописцу важны рекламные огни, а не проза жизни.
– Но ведь для того, чтобы изобразить прозу жизни, – осторожно заметила Магда, – надо самому быть специалистом…
– А если ты специалист, – поддержал Малых, – кой черт тебя понесет в борзописцы?
– Такие случаи бывают, – сказал Полынин (все засмеялись чему-то им известному). – Но вернемся к проблеме ввода в машину речевых сигналов. Положение в этой области, прямо сказать, неважное. Сказываются, между прочим, и отдаленные последствия гонений на кибернетику, которые отбросили нас назад на десяток лет, если не больше.
– Но ведь сейчас-то никто не гонит? – неприязненно сказал Нешатов. – Пора бы…
– Не гонят, даже подгоняют, торопят: «Давай, давай!» Тоже не условия для работы. Главное препятствие – техническая отсталость, которую сразу не преодолеть.
– Если можно, конкретнее, Игорь Константинович, – попросил Ган.
– Конкретнее: легких побед не ожидаем. Идея наша сама по себе не нова и основана на тривиальнейшем принципе спектрального анализа звуков речи. Особенность нашего устройства в том, как мы преодолеваем различие тембров. Перед тем как быть поданной на логическое устройство, речь проходит унификацию тембров. Наша идея унификатора…
– Не наша, а ваша, – поправила Магда.
– Неважно, чья. «Э!» – сказали мы с Петром Ивановичем. Так вот, после этого дело пошло немного быстрее, но не настолько, чтобы праздновать. Быстрее всего мы освоили цифры: один, два, три и так далее. Потом перешли к более эмоционально окрашенным словам: «плюс», «минус», «стоп», «интеграл», «синус» и так далее – всего около полусотни слов. В принципе достаточно, чтобы вводить в машину простенькие программы не на перфокартах, а с голоса. Провозились с этим года три. Несколько эффектных демонстраций, начальству понравилось, появилась возможность поставить птичку в какой-то клетке. Ох эти птички! Я даже одно время подумывал написать оперетту «Птичка божия». Чередуются действия: одно – для птички, следующее – как было на самом деле, потом – опять для птички… Задумал, но не написал. На чем я остановился?
– Несколько эффектных демонстраций, – подсказал Толбин.
– Спасибо. Журналисты трубят победу. Но мы-то знали, в чем порок нашего решения. Во-первых, неполный процент правильно принятой информации. А главное, большое время, уходящее на ввод.
– А при чем тут световое табло? – спросил Нешатов.
– Это не наша основная тема, а, так сказать, отходы производства.
– Хорошенькие отходы! – буркнул Малых. – Может быть, в них-то самое главное.
– Не исключено, – согласился Полынин. – Так вот, покуда мы возились с сокращением времени ввода, Магда предложила оригинальную, хотя и компромиссную идею – изображать слова в виде зрительных образов, так называемых спектрограмм. Вы их только что видели на световом табло. По оси абсцисс – время, по оси ординат – частота, если она превышает пороговый уровень. Это идея Магды…
– Вовсе не моя, коллективная.
– Неважно. «Э!» – сказали мы хором. Каждая спектрограмма образует характерный рисунок, который можно запомнить и потом распознать практически мгновенно, Магда научилась угадывать слова почти безошибочно…
– Это вы для «птички» или всерьез? – сердито спросила Магда. – Если не для «птички», то процент распознаваний невысок: семьдесят-восемьдесят, бывает и меньше. Но дело не в этом. Вы представили дело так, будто я одна каким-то чудом научилась читать спектрограммы. Тогда это была бы не научная работа, а цирковой фокус. На самом деле любой человек после небольшой тренировки может этому научиться.
– Кроме меня, – сказал Малых.
– Кроме тебя. Я имела в виду – любой нормальный человек.
Все засмеялись. Здесь вообще, заметил Нешатов, все время шли какие-то взаимные подковырки, вышучивания, намеки… В этой, по-видимому, дружной компании он чувствовал себя чужим.
– Дело в дикторе, – сказала Магда. – У Малыха во рту даже не каша, а белый шум. Я его подачу вообще принимать отказываюсь.
– Подумаешь, принцесса на горошине! Дело не в дикторе, а в принципе. Почему учитывается только превышение порогового уровня, а не амплитуда сигнала?
– Потому что на табло не три координаты, а две! Попробовал бы ты сам сделать трехкоординатную развертку!
– А что? Я подавал идею!
Спорящие голоса поднялись, сцепились. Нешатов уже ничего не понимал. Звук спора его пугал – нечто похожее бывало там, в больнице…
– Потише, товарищи, – вмешался Ган, – вы забываете, что здесь новый сотрудник, которого такие сцены могут травмировать.
– Ничего, пускай закаляется, – сказал Малых. – Дайте мне слово, я ему все объясню, без терминологии, по-рабочекрестьянски. Что говорить, установка еще несовершенна, но перспективы! Вы понимаете, какие тут могут быть выходы в практику? Автоматическая стенография – раз. Протезирование глухих – два. Представьте себе, сидит глухой человек на собрании и слушает доклад глазами…
– Прелестная перспектива, – сказал Полынин. – Если докладчик – наш директор, я бы закрыл глаза.
Опять смех, начинавший уже злить Нешатова. Цирк какой-то… Внезапно открылась дверь, и в нее просунулась голова в форме ржаного снопа, а за снопом – его обладательница и провозгласила:
– Ребята, в «Дарах» воблу выбросили!
И скрылась.
Первым встрепенулся Малых и опрометью вылетел в дверь. За ним не так решительно – Толбин с Магдой. Последним, как бы извиняясь, вышел Ган.
– Что это было? – спросил Нешатов.
– Вы разве не слышали? – ответил Полынин. – «Дары» – это магазин «Дары океана» на ближайшем перекрестке. А вобла, сами знаете, – острейший дефицит. Не хотите ли приобщиться?
– А вы?
– Нет. Умеренность есть лучший пир, сказал старик Державин.
– А кто была эта дама, которая крикнула про воблу?
– Даная Ивановна Ярцева, младший научный сотрудник лаборатории Дятловой. Превосходная программистка.
«Та – Магда, эта – Даная, – с досадой думал Нешатов. – Какая-то кунсткамера имен».
Ему уже давно хотелось уйти. Теперь для этого был предлог.
– Так вы говорите, на ближайшем перекрестке?
– Как выйдете, сразу налево.