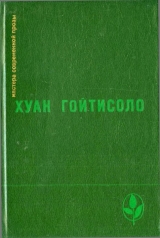
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хуан Гойтисоло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
Он не видел его почти три года и боялся найти совсем другим. Война проложила пропасть между отцами и детьми, и трудно ее перейти. Сколько нужно мужества, чтобы обнять Эмилио и сказать: «Все мы так или иначе отвечаем за то, что было, и теперь должны постараться, чтоб никто ничего не забыл. Мирную жизнь надо отвоевывать каждый день, если хочешь быть ее достоин».
Он думал о своем и почти не слушал Кинтану.
– Да?
Учитель следил пустым взглядом за тщетными усилиями пестрой бабочки, которая упорно хотела проникнуть в кухню и билась о стекло.
– Состоялся суд, – повторил он. – Меня приговорили к смерти, и один из детей прочитал вслух приговор. Потом мне в рот сунули кляп, отвели на чердак, а когда солдаты покинули интернат, дети пришли за мной.
Он жалобно посмотрел на Сантоса.
– Ах, я и сам знаю, что это все невероятно, но, поверьте мне, именно так и было! В лесу, насколько я понял, мнения раскололись: одни хотели меня расстрелять, другие – во избежание последствий – инсценировать несчастный случай.
– Простите, – сказал Сантос. – Когда они вели вас в лес, был с ними Авель Сорсано?
– Не помню. Во всяком случае, если и был, я не заметил. Дети еще раньше разбились на группы, и со мною шло человек семь-восемь. Вскоре я услышал пулеметы и понял, что вы подходите. Они тихо посовещались и послали гонца в свой штаб. Он вернулся с канистрой бензина, и они потащили меня к мельнице.
В наступившей тишине стали слышны голоса солдат за окном.
– Так что Авеля Сорсано вы не видели со вчерашнего вечера?
– Да, – ответил Кинтана. – Больше не видел.
Он стиснул колено рукой и спросил:
– А при чем тут Авель?
Сержант серьезно посмотрел на него. Глаза его стали печальными.
– Его убили, – сказал он. – Может быть, Эмилио его убил.
– Он умер?
– Да. Застрелили сегодня утром.
Кинтана закрыл лицо руками, и Сантосу на минуту показалось, что он плачет.
– Как нелепо… – бормотал учитель. – Как все нелепо…
Ему показалось, что он давно знает сержанта, и он печально посмотрел на него, как на брата или близкого друга.
– Никто не виновен. У этих сирот украли детство. Они, в сущности, и не были никогда детьми.
– Мой сын… – начал Сантос.
– И вам не в чем его упрекнуть. Он жил слишком поспешно для своих лет. Развалины, смерть, пули были ему игрушками. Вам, отцам, придется с этим считаться. Если… если вы не хотите потерять детей.
Оба помолчали, потом Кинтана тихо сказал:
– Я знаком с владелицей усадьбы. Бывал у нее. Она приходится ему тетей.
– Ей сообщили, – сказал сержант.
– Несчастная женщина!
Кинтана взял со стола сигарету, хотел ее зажечь и с отвращением отвернулся.
– Наверное, теперь никогда не привыкну к дыму.
Зажигалка упала, он не наклонился.
– Донья Эстанислаа безумна, но люди не знают причины. А я знаю. Она потеряла двух сыновей.
Хохот солдат ворвался из сада в наступившее молчание; учитель стукнул кулаком по столу.
– Двоих, понимаете? А теперь – племянник, как будто того мало.
* * *
Донья Эстанислаа взяла игрушечную скрипку – несколько часов тому назад она вынула ее из машины – и положила в тайничок секретера, к реликвиям, оставшимся от сыновей.
* * *
Оба были прекрасны. Оба погибли молодыми. За ними не было вины, но рок осудил их. Таким, как они, суждены или трон, или плаха. Приговор тяготел над ними, а она не знала. Она не знала, что страшной ценой расплачиваются за красоту, не знала, что нет прощения избранникам.То, что случилось с Давидом, было очень давно, в одной из столиц Центральной Америки, и, хотя с тех пор прошло больше тридцати лет, воспоминание живо по сей день.
Это было в том году, когда они продали землю. Она с мужем поехала тогда на Кубу, и он предложил ей поплавать на пароходе. «Подумай, дорогая, Карибское море!.. Наступает лучшее время года. Мне кажется, и ты и мальчик нуждаетесь в отдыхе. У Бласкесов дом в Бальбоа, они будут рады поехать с нами». Так говорил ей он, человек, женой которого она стала, тот, кто мучил ее всю жизнь, а у нее не было сил спорить, восстать против безумной его затеи. Она очень страдала, когда продавали прадедушкину землю. Все вышло так нелепо, она и сама не заметила, как плантация ушла из рук. Ставя свою подпись под той бумагой, она не могла сдержать слез. «Ну-ну, дорогая… – говорил Энрике. – Остается одно – смириться». Но ведь для ее мужа ничего не значили ни вещи, ни воспоминания.
Ее всегда удивляло, что он ничем себя не связывает, не дозволяет никакому чувству смутить свой покой. Она даже пыталась ему подражать, идти по жизни с закрытыми глазами. И не смогла. Это было выше ее сил. Тысячу раз говорила она себе: «Почему я такая? Почему должна я так много страдать?» Ответа не было. Какая-то темная сила гнала ее, и она шла как во сне. Приходилось признать, что ей суждено страдание. Безумная в мире разумных, вечная странница, она хотела одного – чтобы дети ее не стали такими, чтобы они унаследовали неуязвимость отца. Тогда, во всяком случае, жизнь не застанет их врасплох. «Люди говорят, что они страдают, но все это ложь. Я одна знаю, что значит страдать, и раз и навсегда я должна смириться, должна понять, что никто не поддержит меня».
…Она поддалась хитросплетениям его лжи. Она была так разбита… Давид протянул к ней руки, он молил ее: «Ну, мамочка, ну, согласись!..», и слезы его перевесили чашу весов. Денег на путешествие хватало, Энрике только и думал о тратах и развлечениях. Она еще не понимала; она доверяла ему безгранично, считала, что он чист перед ней, что лень – единственный его порок. А остальные знали. Весь свет знал о его пороках, только она одна жила во лжи.
Энрике обещал ей даже войти по возвращении в какое-нибудь дело. «Что-нибудь такое прибыльное, – говорил он. – Например, ввоз оборудования». Она по наивности поверила ему; она была бы так счастлива, если бы ее муж чем-нибудь занялся… В его годы, с его силами нелепо жить на ренту. Она всегда твердила ему о делах отца, надеясь пробудить в нем жажду деятельной жизни, – но тщетно. Если бы он послушался ее, все было бы иначе.
Но к тому времени Энрике думал только о своих удовольствиях и ни за что на свете не отказался бы от путешествия. Они отправились вместе заказать билеты, и на обратном пути он не мог скрыть свою радость. «Считай, что снова начинается медовый месяц, дорогая. Все начнется у нас заново». (Позже эти слова переплелись в ее сознании с его постоянными увертками, когда он возвращался пьяный из казино и в слезах молил ее о прощении.) Всю последнюю ночь, проведенную в Гаване, она не могла отойти от Давида. Она смотрела на его головку, словно знала заранее, что скоро безжалостный рок скосит его, и в первый раз за свою жизнь почувствовала, как далек от нее муж, Она любила сына, но эта любовь не относилась к отцу – скорее наоборот, она именно поэтому судила мужа так строго, проклинала его. «Он тоже из палачей, – думала она, – и, что бы с нами ни сталось – со мной ли, с мальчиком ли, – ему все равно».
Они уехали. Пароход лениво обходил антильские берега, и солнце грело его огромную спину. Луизиана, Мехико, наконец – Панама. В Бальбоа прибыли накануне карнавала – город лихорадочно наряжался к празднествам, к пляскам. Они взяли экипаж и объехали весь город. Смеркалось, вдоль улиц сверкали светлячками разноцветные фонарики, и все казалось ненастоящим, как в сказке.
И все предвещало беду. Жара в те дни была невыносима. Вода выходила через поры, не утоляя жажды. Нещадно пекло солнце на улицах и площадях; ошалелые ящерицы сновали по мозаике тротуаров; монотонно жужжали вентиляторы в коридорах отеля, струи горячего воздуха ласкали влажные лица. Только ночью прохладный бриз приносил облегчение. Часами стояла она у окна, опершись о подоконник. Внизу, в патио, освещенные снизу пальмы, подобно бенгальским огням, раскрыли на фоне неба веера хрупких листьев. Прозрачная сетка от москитов охраняла сон ребенка. Медленно текло время под ночную музыку, болтовню и вскрики, и каждый час отмечали церковные колокола.
Тогда она просила бога защитить Давида, и склонялась над металлической кроваткой, и касалась губами детского лба. Следуя примеру своей матери, она смачивала его одеколоном. Мальчик с облегчением вздыхал, улыбка освещала его лицо. Просыпаясь, он видел, что она не спит, и гладил ее маленькими ручками. «Спи, спи, мое солнышко… – говорила она. – Мама тут, с тобой…» Давид ценил и понимал эти минуты любви и нежности, в столь юные годы он был одарен зрелым благородством чувств. Она знала, что другие матери оставляют детей, чтобы пойти на карнавал; но она так не могла – а вдруг Давид ее позовет? Сколько раз, очнувшись от страшного сна, он звал ее, молил. «Спасибо, мамочка, спасибо», – говорил он. Она пыталась понять других матерей – и не могла. «Ну, дорогая, – убеждал Энрике, – что с ним случится, если мы пойдем вместе? У сеньоры Бласкес тоже дети, а вот устраивается же она, развлекается». Но она отвечала и ему, и всем: «Оставьте меня, прошу вас. Такая уж я есть. Я счастлива у его кроватки, зачем же мне уходить?» Город сверкал праздничными огнями; другие матери пили и плясали, а она сидела у его изголовья, словно добрая фея, и шептала ему слова любви.
А Энрике тем временем совсем обезумел. Он уходил по вечерам с какими-то подозрительными мужчинами и женщинами, оставлял ее одну. Она еще на пароходе поняла, что он пьет, но ей казалось, во всяком случае, что он не способен ее обманывать. Велико же было отчаяние, когда открылась правда! Ей, такой чистой, вдвойне отвратительна людская грязь. Она знала, что мужчины называют любовью, она уже восемь лет была замужем; но сама оставалась наивной, как прежде. Нередко приятельницы пытались откровенничать с ней, она не хотела слушать. «Да, я знаю, что такие вещи бывают, – говорила она. – Но мне так хочется верить, что есть существа, которым все это неважно», – и вспоминала отцовские слова: «Жизнь – только видимость, мы изгнаны из страны ангелов, наш долг – не сдаваться и стремиться ввысь». Может быть, она несовременна, но ей приятнее думать, что дети приходят в мир дорогой чуда.
Это было в феврале, вскоре после сретенья. Энрике уже час как ушел – думал, что она спит, но ей не спалось. Духота в предвечернее время становилась невыносимой, и она решила спуститься вниз, чего-нибудь выпить. Бар был такой же, как все гостиничные бары в этих широтах, – уставленные бутылками полки, рекламные плакаты по-английски. В тяжелом, недвижном воздухе, как в мареве, дрожали и менялись очертания стойки. Она подошла к бармену, спросила мятного сиропу. Из патио доносился смех – там веселились какие-то люди. Карликовые пальмы скрывали ее от посторонних глаз; и вдруг в просвет между листьями она увидела мужа.
Листья были густые, но Эстанислаа все видела хорошо: Энрике был в лучшем своем костюме, в большой панаме. Он сидел спиной к ней, откинувшись назад, заложив ногу на ногу, а рука его покоилась на спинке соседнего кресла. Ей показалось, что остановилось время, что застыло пространство. Словно все это она видела в бинокль – его белую руку, поросшую волосами, на плече сеньоры Бласкес, их ноги, сплетающиеся под столом. Другие смеялись и болтали, но она видела только одно – его руку и кусочек руки сеньоры Бласкес, их тела, совсем рядом, липкие, постыдные. Она не помнит, сколько просидела так, одну-две секунды или долгие часы. Помнит только, что бокал выскользнул из руки, звездами брызнули осколки. Бармен спросил: «Вам нехорошо?» – но она встала и пошла, качаясь, через вестибюль.
Господи, господи! Она бежала к сыну. Ей был так нужен покой, так нужно было утешение, так нужен был ее мальчик… Когда он был рядом, она успокаивалась. Сколько раз, понимая, что отец огорчил ее, он касался губами ее щеки, и это было красноречивее всех слов. «Тебе нехорошо, мамочка, дорогая?» «Ничего, – отвечала она, сдерживая слезы, – ничего, ничего, мое солнышко, пустяки…» Но он понимал, почему она не признается, просовывал ручку в ее руку, пытался ее утешить: «Вот я вырасту большой, заработаю много денег, и будет у нас с тобой замок. Папа тогда умрет, никто тебя не обидит». Когда мир стал для нее пустым и жестоким, он один любил ее. У нее не было сип, она устала вечно поддерживать других. Слабые, нерешительные люди окружали ее, трудную роль навязала ей судьба. Хватит с нее расточать, ничего не получая взамен! Она тоже хочет отдохнуть, приклонить усталую голову, слушать слова утешения.
В тот вечер, держа ее за руку, Давид спросил: «Правда, папа плохой? Правда, он водится с дурными женщинами?» Ее ангел смотрел ей прямо в глаза, и она почувствовала, что их застилают слезы.
«Солнышко мое, солнышко, – говорила она, – мама любит тебя больше всего, больше всех!» Он вел ее по узким улочкам нижних кварталов и вдруг с нежностью, которую она никогда не забудет, стал целовать ей руку: «Мама, мамочка, я люблю тебя одну. Папа всегда был плохой». Она пыталась прервать его: «Молчи, молчи, дети должны любить папу». Давид твердил свое: «А я не люблю. Я только тебя люблю». Он был уже взрослый. Его нельзя было обмануть. «Он такой же, как я, – думала она. – Он будет очень несчастен».
Они шли по грязным, уродливым улицам. Женщины в разноцветных масках смотрели с балконов, мужчины раздевали их взглядом, нагло улыбались. Кто-то негромко выругался, а Давид, ее ангел, спросил, что это значит. «Так, дорогой. Глупости. Дурные слова», – отвечала она, и вся дрожала от стыда, а он, который все замечал, не мог сдержать слез. Так и шли они, в слезах, всем чужие, по узким улочкам, сквозь толпу, мимо хохочущих, визжащих людей, которые швыряли в них конфетти и размахивали масками перед их глазами.
Она вернулась в гостиницу совсем разбитая. Энрике ждал ее – он собирался на вечер к сеньоре Бласкес и сказал, что это от жары. Он просил ее пойти с ним. Она была совсем разбита, и телом и душой. Ей столько пришлось пережить в тот день, и теперь не было сил на возражения. Идти не хотелось, никого не хотелось видеть. Он может отправляться один куда хочет. Если сеньора Бласкес его звала – пускай идет, доставит хозяйке удовольствие. А она не пойдет. Нет. Она останется тут, с мальчиком. И домой прийти он волен в любом часу. Если, конечно, не хочет остаться у сеньоры Бласкес. Ей все равно.
Но Энрике настаивал. Он умолял, требовал, сжимал кулаки. Она запуталась в сетях его лжи, не могла вырваться, Ну, хорошо, хорошо! Она уступила из чистого презрения. Ей претила мысль, что он сочтет ее ревнивой. Такому человеку, как он, не унизить ее, получившую за свою жизнь столько знаков любви (сотни записочек хранились у нее в японской шкатулке – все по-французски, надушенные, перевязанные шелковой лентой). Он считает, что она не умеет веселиться, – что ж, она ему докажет.
Оставалось решить, как быть с ребенком, и дьявол (да, именно дьявол – как тень, вцепляется он в наше тело, вечно строит нам козни)подсказал ей оставить его одного. Он сказал устами Энрике: «Пускай остается в номере. Соскучится – выйдет в патио. Что там с ним случится? Когда ты вернешься, он уже будет спать». Она и сейчас помнит, как убедительны были его жесты, каким нетерпением горели глаза. Чтобы купить ее согласие, он подарил мальчику игрушки. Она слышала, как беззаботно смеялся сын в своей комнате.
Она слышала его голос в последний раз – и не знала. О, сколько раз хотела она остановить мелькающую ленту, пустить время вспять! Словно в тех кошмарах, когда, как ни старайся, не можешь ступить ни шагу, а враги настигают тебя, стояла она у окна, выходящего в патио, в тоске ломала руки. Ей хотелось крикнуть, она не могла. Снова и снова видела она: вот она с мужем; она наряжается на карнавал (крахмальная кисея, парик, маска, духи, пудра); спускается по лестнице отеля, управляющий любезно улыбается ей («Желаю повеселиться, сеньора»); ее рука в перчатке вторит взмахам голубиных крыльев (в вестибюле, в клетке, ворковали голуби).
Они вышли в патио – просторный, квадратный дворик, мощенный красными плитами; вечно юные гигантские пальмы, увитые тропическими растениями, покрывали его прохладной, шуршащей тенью колеблемых бризом листьев. На мальчике были полотняные штанишки и полосатая блуза. Отец подарил ему трещотку, он смеялся, размахивал ею. Он тоже не знал. А она, Эстанислаа, как-то странно раздваивалась и видела себя со стороны, как будто смотрела спектакль, – вот она беседует с горничной, объясняет еще раз, что дать ему на ужин. Часто безумная надежда сжигала ее – ведь все зависело от нее, достаточно было жеста, крика, чтобы развеять чары, чтобы вдребезги разлетелось прошлое. Например, могла прийти телеграмма: «Бал отменяется». Но женщина на сцене не слушает. С завязанными глазами отдается она в руки судьбы. Целует сына в лоб. Машет платком на прощанье. Нет, нет, не надо!
Дальше все было так странно, смутно. Путались эпизоды, мелькали, сменялись, Как будто части головоломки, картинки волшебного фонаря – дети в леопардовых шкурах пляшут вокруг карнавального дерева, а с верхушки свисают пестрые ленты, сплетаются, расплетаются в такт пляске, все дерево сверху донизу убрано платочками, зеркальцами, витыми хлебцами, и бахрома развевается на ветру. Какая-то креолка обнимает ее, шепчет ей на ухо: «Пой, пляши…» Какая-то женщина пляшет тамборито, ребенок болтается за спиной, а мать кружится в танце, и ее голова в крохотной шапочке появляется то и дело среди мелькающих лиц и взлетающих платков.
Эстанислаа подошла к группе зевак, окруживших гитариста, деревенского пария с грубым лицом и горящими глазами. К его поясу был привязан гибкий хлыст, извивавшийся, как хвост ящерицы. Кудри у гитариста были черные, и зубы ослепительно сверкали, когда он тянул свою песню:
Будем, братцы, петь, пока поется. —
жизнь так коротка.
И о том, что умереть придется,
дума нелегка.
Мы по этой жизни, словно тени,
быстро промелькнем.
И в одно прекрасное мгновенье
все умрем. [18]
Пройдут дни, пройдут годы, но ей не забыть этой песни. Каждая строчка отдавалась в сердце. Она слушала тихо, смиренно, пыталась понять и, неизвестно почему, произнесла имя сына. Потом она долго плясала с другими, и все кружилось вокруг нее, и люди менялись лицами – юные лица на старом теле, жуткие маски, взятая взаймы молодость. Она искала глазами того, с хлыстом, и не нашла. Кто-то – кажется, швейцар – сказал ей, что он ушел. «Он пришел сам, – объяснили ей, – без приглашения». Без имени, без судьбы, только затем, чтобы принести ей те слова. А теперь, выполнив миссию, исчез. След его коня, легкого, как ветер, был ключом к загадке.
Гости танцевали в масках, она не могла найти мужа. «Энрике, это ты?» – спрашивала она, и чужие глаза лукаво и зло улыбались ей в узкую прорезь маски. Ее обманывали. Все участвовали в игре – индейские бесы нагло обнимали ее, леопарды швыряли в нее пригоршни конфетти. У нее пересохло в горле, ей немыслимо хотелось поговорить с сыном. Это бывало с ней часто в гостях – ей казалось, что она в театре, где каждый персонаж читает заученную роль; ей казалось, что она далеко, за десять тысяч миль, и хотелось бежать. Однажды у себя, в усадьбе «Рай», на балу, данном в ее честь, она убежала босая в поля, и ее прелестное платье – голубое, все в блестках – билось на ветру, как развернутое знамя. Если бы муж и другие низкие люди увидели ее такой, они сказали бы, что она безумна, но ей было ценно лишь мнение тонких, исключительных существ. В гостиных, среди таких, как муж, она задыхалась. В тот вечер, например, ей так хотелось обнять сына, что она чувствовала себя совсем больной. (Все считают ее такой духовной, утонченной, а она, в сущности, совсем простая женщина. Наверное, и у других остались дома дети и плакали от одиночества в темноте, а матери плясали и веселились. Эстанислаа очень завидовала этим женщинам – она не такая, она любит сына дикой, отчаянной любовью и не признает половинчатости.)
Наконец она увидела мужа в углу гостиной и побежала к нему. Голова у нее кружилась. «Пойдем, – сказала она, – уже за полночь, я должна уложить…» Слова застревали в горле, не складывались в связную фразу. «Будь разумна, дорогая, – сказал он, – мы не можем уйти. Мы только час как пришли, все будут шокированы». «Я ему нужна». Она дрожала словно лист, и губы как-то странно стыли. Энрике с участием на нее посмотрел. «Ну-ну, успокойся. В такой час он спит спокойно в кроватке». Может быть, он уже знал о смерти сына и хотел ее обмануть – хозяйка была в гостиной, и больше он ни о чем не думал.Это она поняла позже, когда, в глубокой скорби, перебирала подробности дня, пытаясь найти ключ к тайне, и, хотя то было лишь подозрение, отбросить его не было веских причин.
Она побежала в оранжерею. Жадно склонялась она над цветами, орхидеями, гелиотропами, георгинами. Кружилась голова, взор застилали слезы. Она шептала: «Давид». Она повторяла его имя, как молитву, как заклинание. Веселая креольская песня доносилась из патио, гости смеялись, швыряли друг в друга пригоршни конфетти. Кто-то жадно ел, кто-то пил ром, канью и снова ром. А в ее ушах звенели те строки: Мы по этой жизни, словно тени, быстро промелькнем. И в одно прекрасное мгновенье все умрем.
Она ничего не пила – и опьянела. Все вокруг замерло. Из вестибюля доносились шаги, шорохи, бессвязные речи. Пары, кружившиеся в танце, мало-помалу затихали. Весть дошла до музыкантов, они складывали инструменты. Только один мулат перебирал струны гитары, и струны потрескивали, словно заряженные электричеством. Начался озноб. Безумно захотелось пить, ощупью пошла она через зал, спросить воды. «Пожалуйста, пожалуйста…» Гости расступались перед ней, молча снимали маски. Лица были бледны, словно покрыты слоем воска. Люди смотрели на нее и ничего не говорили.
«О, я не могла думать! Я только слышала звуки гитары, заглядывала в пустые глаза, Энрике стоял в конце зала, белый как мрамор; шатаясь, пошла я к нему. „Мальчик! Мальчик!“ – закричал он. „Давид? – сказала я. – Давид?“ Я не моглапонять. Пестрые маски подмигивали мне, трепетала мишура на карнавальном дереве, в соседней комнате приглушенно хихикал пьяный. Вздрагивали фонарики, ленты серпантина, пестрые украшения – остатки веселья. У всех людей на свете пропал голос, а у меня язык стал ватным. Какой-то ребенок ворвался в зал, потрясая трещоткой, кто-то дал ему пощечину. Бокал выскользнул наконец из моей руки. „Давид!“ – закричала я. Было поздно. Мой сын погиб, и никто не мог его воскресить.
Его похороны были прекрасны, милый Авель. Я ходила тогда как во сне, как мертвая. Если бы мне прокололи иглами шею, я бы не почувствовала. Я еще не понимала как следует, чтó произошло, и мне были жалки люди, подходившие с утешениями. В середине патио поставили гроб, и плакальщицы окружили его. Хозяин отеля, как предписано обычаем, пригласил гостей. Пришел весь город. Негры пили спирт и, пьяные, молились за упокой его души.
Он лежал посредине патио, весь в цветах. Только руки и лицо были видны из моря лепестков. Несчетное количество раз возложила я на его лоб венец поцелуев, а потом увенчала его жемчужной диадемой и к плечам приладила крылышки из серебряного картона. Восемь детей в белом, взмахивая платками, танцевали вальс „Бог не умирает“.
Те же самые дети несли его на плечах. Словно хоронили птичку, полевой цветой. Гроб его был оклеен полосками золоченого картона, убран разноцветными лентами, флажками сусального золота. Все гости усыпали цветами его путь…»
Донья Эстанислаа оборвала рассказ, словно ей не хватило дыхания. Авель слушал ее опустив голову, рассеянно глядя на тропинки лабиринта. В диких травах отчаянно пылали маки; четко выделялись кипарисы на ярко-синем фоне неба. И вдруг, словно по волшебству (а может, от голода, населявшего его грезы бесплотными видениями, крылатыми гибкими существами), появились призраки. Дети спускались по тропинке, со стороны насыпи, несли на плечах гроб. Первый – пониже остальных – держал на весу длинную палку и как-то странно ею жонглировал. А Давид, на плечах своих друзей, был весь в белом, как тот, из рассказа, и кто-то вложил цветок в его руку. Остальные шествовали сзади, стараясь не отставать.
Авель присмотрелся. Августовское солнце било в лицо, пришлось прикрыть глаза раковиной руки. Процессия была очень длинная, без конца. Она терялась на горизонте, и самых последних детей трудно было отличить от цветов, которые там посадил неведомый садовник. Кто-то играл на тростниковой флейте, а звука не было. Некоторые несли цветы в корзиночках и, словно служки, все время бросали их мальчику в гроб. Они уходили. Теперь он видел их спины, развевающиеся на ветру одежды. «Подождите!» Он хотел побежать за ними, взять их за руку. Дождь лепестков покрывал уступы. Он мог бы идти по следу, как мальчик с пальчик. Но ведь и лепестки поклюют птицы. Что же он будет делать один, далеко от дома, с мертвым мальчиком на руках?
Он открыл глаза и увидел тетину улыбку: «Ты видел, правда, ты их видел?» Она привлекла его к себе, гладила по щеке, говорила: «Я тоже их вижу, а иногда и касаюсь. В сущности, что тут странного? Так смутны границы жизни… Так туманна действительность… Тот человек с гитарой открыл мне это… „Мы по этой жизни, словно тени…“»
Она обвела рукой полукруг – дом, бухту, море и поле.
«Когда от всего этого останутся одни руины и мое тело даст красоту полевому цветку, в лепестки перельется моя утраченная прелесть, я буду приходить сюда и, если ты позовешь, явлюсь на свиданье».
* * *
…Другого сына звали Романо, и с самого детства он был существом исключительным – тоненький, бледный, чрезвычайно чувствительный и необыкновенно красивый. (Авель видел в альбоме сотни его портретов, словно мать, предчувствуя будущее, запаслась свидетельствами против забвения.) Он был рожден для счастья. С самого первого дня он был для нее обещанием новой жизни – взрослым и сильным человеком, на чью руку ей будет дано опереться, когда она, так долго расточавшая впустую свою любовь, захочет восстановить иссякшие силы в нежности близкого существа.
У нее не было опоры с тех пор, как умер отец. Муж не сумел заменить его. Но теперь этот мальчик воздаст ей сторицей, даст все, о чем она мечтала, как только он возьмет в свои руки управление усадьбой. Тогда она отдохнет. Только исключительные существа рады давать, ничего не получая взамен, – таков был и он, ее сын, ее обожаемый ребенок. Он не знал меры в любви, не понимал доводов разума. Когда ему было двенадцать лет, он взял отцовские деньги и, в порыве чувств, который она никогда не забудет, наполнил цветами весь дом.
Она прекрасно все помнит, словно это произошло вчера. Было утро, и неясный, нежно-желтый свет проникал сквозь занавески. Романо гулял с няней, она вышла на крыльцо его проводить. Потом поднялась в кухню. В тот день были ее именины, и надо было что-нибудь приготовить. Она как раз собиралась распорядиться, когда позвонили у входа. Она сама пошла открывать. На пороге стоял мальчик из магазина с огромным букетом белых цветов. Он протянул ей квадратный конверт, в углу которого стояли ее имя и адрес. «Маме от Романо». Она никогда не забудет этих слов, написанных детским почерком. Они были прекраснее всех подарков. Потом, все утро, приносили цветы. Дом превратился в белый сад, имя Романо сверкало на всех карточках.
Муж вернулся и ужасно разгневался. Когда он увидел, что деньги исчезли, он хотел высечь мальчика. Но она, обессилев от слез, встала между ними: «Оставь его. Это я виновата». Такой прелестный порыв… Она тоже, в его возрасте, делала подобные вещи. За улыбку своего отца она пошла бы на любое преступление. Да. Она понимает. Благоразумная мать, конечно, осудила бы его. Но ведь Романо – существо исключительное.
Энрике считал сына самым обыкновенным ребенком. Он хотел бы его воспитать, как воспитывают других детей, остричь ему волосы, напялить синюю блузу и отослать в приходскую школу. Он объяснил ей: «Дорогая, святые отцы прекрасно знают свое дело. У мальчика нет здесь друзей. Если он привыкнет к одиночеству, он станет нелюдимым. И потом, пора остричь ему локоны и забрать от него кукол. Я в его годы ходил с бритой головой и играл с мальчишками в войну». Но она отвечала: «Романо не такой, как все. То, что подходит другим, не подходит ему. Если ты заставишь его подчиняться дисциплине, ты огрубишь его душу. И, в конце концов, он счастлив со мною – зачем же ты пытаешься нас разлучить?»
У них вошло в обычай делать друг другу небольшие подарки. Она дарила ему сласти, игрушки, маски, разноцветные мячики и получала взамен букеты маков, морские ракушки, а иногда и любовные послания, которые перевязывала бархатной ленточкой и свято хранила в лакированной шкатулке. Нередко муж заставлял ее вспомнить о светских обязанностях, и ей приходилось выйти из дому. Но, уезжая, она твердо знала, что сын, этот ангел, не забудет ее. Среди пустых и суетных существ она представляла себе, как он – исключительный ребенок – лежит в кроватке, думая о ней, или пишет ей письмо, зная, что это ее утешит, когда она вернется.
Донья Эстанислаа вынула из-за корсажа маленький конверт и, вдохнув его запах, осторожно его открыла. «Уже давно стемнело, и луна напоминает мне о тебе, дорогая мама. Только ты красивее. Романо». Авель чуть заметно улыбнулся. Донья Эстанислаа смотрела на него нежными, ласковыми глазами. Он чувствовал, что она сейчас что-нибудь спросит, и поспешил сказать:
– Какая прелесть.
– Правда?
Она очень обрадовалась и нежно погладила его по голове – он ведь тоже исключительное существо, понимает все, что она говорит. Хотя, конечно, будь он другим, она бы и не говорила с ним так. Многие искали ее откровенности и не добивались ничего.
– В то время, – продолжала она, – наше состояние заметно уменьшилось. Энрике упорно не хотел ничем заниматься. Ко всему прочему, он пустился в безнадежные спекуляции и потерял значительные суммы. Во время войны, например, он скупал марки. Его приятели по казино вбили ему в голову, что победят немцы. «Поднажать немного в Галлиполи, и Европа в их руках. Тогда-то и настанет мое время». Но все повернулось иначе. Французам помогали все больше, а Германия теряла завоеванное. Деньги союзников росли в цене, спекулянты наживались, люди старались избавиться от немецкой валюты, а он упрямо скупал марки. Они буквально наводнили дом, хоть стены оклеивай этими ужасными изображениями. Она отговаривала его с самого начала (отец всегда говорил, что у нее настоящий дар делового предвидения), но он не хотел с ней считаться. «Мой бедный друг», – сказала она, когда он пришел к ней в слезах.
Она так ясно помнит: пылал камин; газеты были разбросаны по всей комнате; ребенок спал у нее на коленях. Энрике барабанил пальцами по ручке кресла. Рядом стояла бутылка виски, он то и дело прикладывался к ней. Только что в газетах появилось сообщение о девальвации, и в доме стало так тихо, что воздух как будто гудел. И вот-это было сильнее ее – она поднялась, открыла шкатулку, где хранились пачки денег, и стала бросать их в огонь, одну за другой. Они трещали, корчились, в комнате стало очень светло. Лампы погасли, все было залито желтым светом. Она не помнит, сколько времени простояла так, на коленях, раздувая пламя. Когда это кончилось, ребенок не спал, смотрел на нее пустыми глазами. «Миленький, мой миленький!» – сказала она. Потом подождала еще, пока в камине осталась только кучка золы, и встала с колен. Муж сидел глубоко в кресле, закрыв лицо руками. «Мой бедный друг», – сказала она. И вышла из комнаты с единственной своей любовью на руках.








