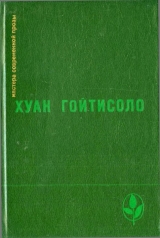
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хуан Гойтисоло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
ЭССЕ
Из книги «Хвостовой вагон»
Наследие поколения 1898 годаВ недавно вышедшей из печати посмертной книге очерков «Поэзия и литература» Сернуда пишет о поэтах и прозаиках – представителях модернизма и поколения 1898 года: «Прошло более полувека с тех пор, как увидели свет первые книги упомянутых писателей, и между ними и испанским обществом разверзлась пучина кровавых, ужасных событий последней (пока еще последней) гражданской войны. Окидывая взглядом жизнь этих писателей во всей ее трагической перспективе, мы можем сегодня судить о том, как воспринималось современниками их творчество до войны и после нее. Случай для испанской литературы исключительный: творчество всех этих писателей в целом всегда вызывало и продолжает вызывать одни лишь хвалебные отклики, надо сказать, достаточно опрометчивые, ибо никто не пожелал задуматься над тем, что в пословице, предостерегающей нас: „Не все то золото, что блестит“, может содержаться доля истины. Истины, которую по всей видимости, подтвердит беспристрастное изучение наследия некоторых из этих писателей, где явного блеска золота не наблюдается (речь здесь не идет, разумеется, о произведениях Ортеги-и-Гассета или X. Р. Хименеса)… Да и мало сказать „хвалебные отклики“, уместнее было бы говорить о „восхищении“ и даже о „преклонении“, намекая на лавры, которыми беспрестанно венчают представителей модернизма и поколения 1898 года читатели и критики. Несмотря на то, что никого из них, за исключением Асорина, уж нет в живых, а их эпоха и время, описываемое ими в своих произведениях, давно отошли в прошлое, до сих пор нет никаких признаков той неизбежной, вполне естественно следующей за первой реакцией читателей историко-эстетической переоценки ценностей, которая в конце концов приводит к забвению писателей и произведений, не принадлежащих уже нашему обществу, нашему времени (не будем здесь упоминать о других, более субъективных причинах и механизмах подобных переоценок). Ничего похожего у нас не наблюдается: налицо по-прежнему одно лишь всеобщее преклонение» [273]. Прошу извинить меня за столь пространную цитату – она вызвана тем, что наблюдение, сделанное Сернудой, равно как и сам феномен, подмеченный им, имеют для нас большое значение. Безраздельное поклонение, которым окружены сегодня фигуры представителей модернизма и поколения 1898 года, в конечном итоге не только является неоправданным, но и оказывает неблаготворное, парализующее воздействие на критический анализ, следующий, как правило, за появлением и утверждением нового поколения писателей с проблемами, стремлениями и заботами, отличными от тех, что волновали их предшественников. Вокруг этих фигур – как вполне понятный ответ на атаки допотопной, но еще очень активной испанской реакции – создался настоящий религиозный культ: целая плеяда божеств, полубожеств и святых занимает в нашей скудной, убогой культурной жизни господствующие позиции. Слово «учителей» имеет силу закона, а интеллектуальная задача последователей (или, точнее, «эпигонов» и «инквизиторов») все больше сводится к простому комментированию и распространению священных текстов. Всякое отклонение превращается ipso facto [274]в ересь, всякая критика – в свяготатство [275]. Догматизм и конформизм в области политико-социальной, насаждаемые правящим режимом в течение двадцати пяти лет, привели к возникновению среди большей части оппозиции как бы зеркально отраженных догматизма и конформизма в области интеллектуальной. И результат сегодня налицо: никогда еще, начиная с XVIII века, испанская критика не представляла собой столь жалкого зрелища, не была столь робкой и скудной; никогда не звучало у нас так много перепевов и повторений старого – и так мало голосов самобытных; никогда еще не наблюдалось так много напускной уверенности – и так мало истинной страсти, так много эрудиции – и так мало изобретательности, так много божеств, полубожеств и святых – и так мало идей новаторских, смелых; так много уважения к писателям и их произведениям – и так мало писателей и произведений, действительно заслуживающих уважения.
Корни этой противоестественной ситуации необходимо искать в исторических невзгодах, выпавших на нашу долю. Позорные и вместе с тем трагические события гражданской войны привели к созданию в духовной жизни испанского общества своеобразного вакуума, явившегося закономерным следствием эмиграции из страны большей части интеллигенции тех поколений, которые сформировались в годы диктатуры Примо де Риверы и Второй республики. Всех их объединяло неприятие ценностей модернизма и поколения 1898 года, критическое к ним отношение, проистекавшее из различий во взглядах на жизнь вообще и на литературу в частности.
(Поэты поколения 1925 года [276]– самая талантливая плеяда поэтов за всю историю испанской литературы со времен Золотого века – полностью избежали влияния Унамуно и, несмотря на все уважение к Мачадо, испытали лишь незначительное влияние последнего. Воспитанные на культе «чистой поэзии» X. Р. Хименеса, они постепенно отходят от нее в 30-е годы: Альберти – проникнувшись боевым революционным духом, Салинас – после публикации «Тебе поющего голоса», Сернуда и Лорка – в поисках нового поэтического кредо, отличного от того, которое было у Хименеса и Ортеги. Отход от «чистой поэзии» Гильена и Алейсандре относится уже к послевоенному периоду.) Вакуум этот пытались заполнить те, кто остался в Испании, что, как мы увидим, привело – в качестве реакции на бескультурье, насаждавшееся официальными кругами в те годы, – к несколько искусственному преклонению перед представителями 1898 года (несмотря на малозаметную, более чем скромную роль, которую играло большинство из них в мрачный период с 1936 по 1939 год).
Намерение по сути своей благородное: в то время, когда культура наша была искалечена, а историческая связь с прошлым прервана силой оружия и по прихоти тех, кто с его помощью стремился возвести на престол ничтожных кумиров, восстановление мостов, связывающих нас с нашими вековыми традициями, представлялось не только желательным и своевременным, но и совершенно необходимым. Нападки режима на представителей поколения 1898 года совершались во имя того самого «призрачного завтра», которое предрекал Мачадо и под чисто испанскими по духу своему лозунгами: «Смерть интеллигенции!», «Да здравствует смерть» [277]. Защищая их наследие, последователи поколения 1898 года в то же самое время защищали наше будущее, создавали условия для появления новой культуры, которая, вобрав в себя старые традиции, привела бы к появлению нового поколения, способного глубоко понять проблемы нашего общества, нашего времени. Отстаивая культуру вчерашнюю, они отстаивали также культуру будущего, облегчали нам критический анализ, который позднее позволил бы нам заявить о своем существовании и мировоззрении.
В 1955 году – в год смерти Ортеги и выхода в свет первых произведений группы писателей, которых сегодня некоторые называют «поколением 50-х годов», – такой мост уже существовал. Благодаря усилиям последователей связь с поколением 1898 года была восстановлена, и его представители заняли главенствующие позиции в тесном и сереньком духовном мире Испании. Если реакция и продолжала свои нападки, то они не встречали никакой – или почти никакой – поддержки среди молодежи: псевдокультура, которую попытался было навязать правящий режим, исчезла вместе с мечтами об Империи, не оставив о себе ни памяти, ни сожалений. Непризнанное, запретное, творчество наших «отцов» было предано забвению, а над нами царила тень наших «дедов», более чем когда-либо недосягаемых для критики. «Реабилитация» «отцов» началась гораздо позже и отличалась ярко выраженной преднамеренной необъективностью. Критерием отбора в данном случае послужило их отношение к представителям 1898 года. Так, среди прочих были незаслуженно обойдены вниманием и забыты Бергамин, Ауб, Сендер и в особенности сам Сернуда. А пока, как и в 1925 г. – вследствие страшной пустоты и потрясений, вызванных войной, – Унамуно и Мачадо, Асорин и Бароха, Ортега и Хименес находились в зените своей славы.
Не злопыхательство и не дурные намерения привели нас к критике – более или менее справедливой и убедительной – Ортеги-и-Гассета. Наша критика ни в коей мере не была выражением «тотального отрицания» (какой, кстати, являлась и, до сих пор является критика некоторых «интегристов»); она была нам необходима для утверждения нашей будущей свободы. Речь шла не о том, чтобы полностью отказаться от доставшегося нам наследия, как то пытались представить наши противники, а о том, чтобы ассимилировать его и затем переосмыслить в соответствии с нашими взглядами. Если и допускали мы некоторое непочтение, то оно было меньшим, гораздо меньшим, да и во сто крат более оправданным, нежели то непочтение, которое, к примеру, допускала молодежь поколения 1898 года по отношению к Гальдосу и другим писателям предшествующих поколений [278]. Говорят, что несдержанность и неумеренность являются грехами молодости. В таком случае грешили и мы, но исключительно потому, что были молоды.
Все хорошо помнят реакцию, которую вызвала наша критика поколения 1898 года. Со всех сторон на нас посыпались обвинения в святотатстве, варварстве, тоталитаризме, а те, кого мы – без всяких на то оснований – считали своими наставниками, в благородном гневе рвали на себе одежды. Якобы спасая наследие 1898 года, некоторые из его апологетов, преследуя более субъективные цели, превращали это наследие в культ. Я не хочу сказать, что все они принимали в этом участие. Достойные исключения широко известны, и говорить здесь о них нет необходимости. Когда глаза наши открылись, изумленные, мы обнаружили, что нас обвели вокруг пальца: то, что выдавали за связь с традициями прошлого, незаметно превратилось в разрыв с будущим. Мы искали мост через пропасть, а перед нами воздвигли стену.
Прошло десять лет, и сегодня последствия этой ловкой подмены очевидны: наша культура, увязшая в проблематике модернизма и поколения 1898 года, прозябает в изжившем себя, превратившемся в анахронизм культе божеств, полубожеств и святых. Последние анкеты, посвященные Ортеге, обязаны своим появлением на свет именно такому положению вещей. Совсем иначе дело обстоит, например, во Франции: там центром внимания уже не является творчество Бергсона, Андре Жида или Валери: восхваление их, равно как и критика, исчерпали себя тридцать лет назад. Сегодняшние социальные, культурные, моральные и эстетические проблемы Испании имеют мало общего с проблемами, волновавшими поколение 1898 года. Общество 1965 года сильно отличается от общества, в котором жили Ортега и Унамуно. Беспрестанные ссылки на их творчество совершенно неоправданны и проистекают, как мне представляется, от непростительной косности мышления. Словно не решаясь идти вперед, сбросив с себя ветхие одеяния прошлого – видимо, из боязни, что с ними случится то же, что случилось с королем из сказки Андерсена, – эпигоны и инквизиторы цепляются за пьедестал своих идолов, цитируют их произведения, прикрываются их авторитетом. Задеть кого-нибудь из «последователей» – то же самое, что задеть «божество», и наоборот: симбиоз в данном случае абсолютный. Каждый из них имеет в своем распоряжении по крайней мере одного прославленного идола – с его помощью он и отбивается от всех нападок [279]. Неприкосновенные, вне критики, они «живут за чужой счет» и купаются в лучах чужой славы.
Критический дух, дремавший в течение двадцати пяти лет диктатуры, опустился сегодня до самого низкого за всю историю Испании уровня. Никогда еще боязнь воспользоваться свободой мысли не была так сильна, а количество «неприкосновенных» – так огромно. Прикрываясь каждый своим божеством, «последователи» втихомолку подмяли под себя нашу критику. Все это могло бы показаться настоящей комедией, если бы действительное положение вещей не было столь трагичным. Достаточно лишь полистать испанские литературные журналы, чтобы понять, до какой степени культ поколения 1898 года обесплодил наших эссеистов. Критика, как ее понимают в других европейских странах, у нас почти исчезла, вытесненная всевозможными апологиями, комментариями и толкованиями. Никто или почти никто не отваживается ступить в края неизведанные; современный испанский эссеист продвигается вперед, лишь предусмотрительно укутавшись – точнее было бы сказать, заковавшись – в плотную кольчугу цитат из какого-нибудь «неприкосновенного», – такой метод наилучшим образом помогает ему скрыть и интеллектуальное и духовное убожество. Никаких гневных выпадов, никакой сатиры, никакой иронии – одни лишь давно известные, навязшие на зубах рассуждения вперемешку с тоннами наводящей тоску эрудиции. Ни одной подобной Ларре личности – и сотни эпигонов и педантов. Вместе с тем, помимо восхищения и преклонения, о которых пишет Сернуда, они способны и на презрение, агрессивные нападки и травлю – только последние средства направлены целиком и полностью против еретиков и непокорных, которые не только еще живы, но и – что гораздо хуже – действуют, пренебрегая старыми, непререкаемыми авторитетами [280].
Можно было бы наивно предположить, что подобные негативные тенденции присущи только так называемым либеральным кругам. Однако это не так. Та же ограниченность, тот же конформизм процветают порой и среди наших марксистов. Зараженные всеобщей осмотрительностью и патологическим уважением к священным идеалам, писатели-марксисты ограничиваются в большинстве случаев комментированием и толкованием классиков исторического материализма: их работы, как правило, представляют собой неудобоваримое, низкопробное чтиво, перенасыщенное бесконечными повторениями тезисов учителей без каких бы то ни было свежих, оригинальных мыслей. Вместо того чтобы применить марксистскую диалектику к анализу культурных и эстетических проблем современного испанского общества, они лишь бездумно загромождают ту же самую диалектику концепциями и схемами, которые в отрыве от породившей их исторической и социальной действительности оказываются бесплодными и бессильными. Сознательно или бессознательно закрывая глаза на извращения в теории и практике марксизма, имевшие место в течение последних пятидесяти лет, они и в 1965 году пишут так, как будто отмена частной собственности на средства производства мгновенно и автоматически приведет к уничтожению эксплуатации человека человеком, иерархической структуры общества, противоречий между классами и слоями населения, различий между трудом отчужденным и не отчужденным. Формальное уважение кбукве доктрины подменяет собою свободное ее изучение. Как и в случае с «последователями» поколения 1898 года, боязнь впасть в ересь тормозит и парализует всякую критику. Горизонты ее скрыты от нас эпигонами и инквизиторами разных мастей, зато ее бесплодие видно невооруженным глазом.
Отдельные робкие попытки проанализировать нашу историю нередко приводят к недоразумениям. Так же, как знаменитый ответ Унамуно на призыв Мильяна Астрая отражал его разочарование в жестокости, которая не могла убедить (хотя ответ Унамуно и не отрицал в принципе возможности убеждения силой оружия), так и попытки превратить, например, Лопе де Вегу в революционера представляются мне по меньшей мере парадоксальными. По словам Америко Кастро, Лопе пытается изобразить в своих пьесах (имеются в виду «Перибаньес» и «Фуэнте Овехуна») не «противоречия между сеньорами и простолюдинами эпохи средневековья, а различия в деятельности христиан новых и старых… Единственным почетным трудом считался тяжелый ручной труд крестьянина… В результате подобных перипетий темные, не имевшие никаких знатных (еврейского происхождения) предков простолюдины были идеализированы и стали полноправными членами „касты“ избранных».
Я ограничиваюсь здесь лишь изложением фактов и предоставляю читателю возможность самостоятельно сделать соответствующие выводы. Никто, кроме нас самих, не найдет выхода из создавшегося положения. Для этого мы должны избавиться от многочисленных группировок и сект, кишащих по всей нашей «конфедерации объединенных королевств» [281], сбросить с себя непробиваемый панцирь, под который мы сами себя упрятали, признать, что и мы не застрахованы от промахов и ошибок, отбросить в сторону костыли и идти вперед, полагаясь лишь на собственные ноги, действовать с независимостью партизан и парий. Избегать, как избегали наши учителя, ловушек и сетей, расставленных сомнительными авторитетами.
Пусть же эпигоны и инквизиторы упиваются положением в обществе, которого они достигли. Их синекура нас не интересует. У настоящей культуры нет необходимости заботиться об общественном положении. Для нас, не стремящихся войти в число избранных, понятие литературы прямо противоположно «академическому» понятию этого слова, а истинная ценность произведения искусства прямо противоположна ценности, определяемой премиями Хуана Марча [282]или же наградами покойного Альфонсо Х Мудрого [283].
Памяти Луиса СернудыГод назад [284]в Мексике скончался самый современный поэт из блестящего поколения середины двадцатых годов: я имею в виду Луиса Сернуду. Может показаться, что смерть Сернуды, тихая и мало кем замеченная несмотря на величие и исключительное значение его творчества, подтвердила горькие предчувствия поэта, которого гражданская война заставила в 1933 году покинуть родную Испанию. Этими предчувствиями проникнуто одно из последних и самых поразительных его стихотворений, написанное незадолго до кончины и адресованное «Соотечественникам»:
Лишь подождите – и наступит день, когда
Уйду и я. Тогда невежество, забвенье, безразличье,
Что верно так служили вам всегда,
Волною накатившись, унесут меня
В небытие, куда я безвозвратно кану,
Как унесли всех тех, кто был достойнее меня,
И среди них – великого Альдану. [285]
Предчувствия эти, к сожалению, не были беспочвенными: тогда как политическая деятельность Альберти или, к примеру, драматические обстоятельства гибели Гарсии Лорки и Мигеля Эрнандеса обеспечивали им – независимо от собственно литературной значимости их творчества – известность и широкий круг читателей за границей (как бы компенсируя то забвение, которому были преданы их имена в Испании, особенно в период с 1939 по 1954 г.), поэзия Луиса Сернуды не только была обойдена вниманием зарубежных читателей (в том числе и многочисленных испанских эмигрантов) по причинам, о которых мы скажем ниже, но и являлась объектом последовательного бойкота со стороны франкистского режима и многих испанцев внутри страны. Факт этот уже сам по себе говорит о многом, ибо, как отмечал поэт Хосе Анхель Валенте, пренебрежение к подобным фигурам проявляется в «такой литературной среде, где даже похвала – в силу того, что в среде этой процветают невежество, корыстная лесть и всеобщий страх, – теряет какое бы то ни было моральное и объективное значение». Как говорит Октавио Пас в прекрасном эссе «Созидающее слово» (показательно уже, что единственное серьезное исследование, посвященное покойному поэту, принадлежит перу мексиканского критика), «большая часть работ, написанных о Сернуде в последние месяцы, могла быть написана о любом другом поэте». Так, менее чем через год после выхода в свет специального номера, посвященного памяти Сернуды, мадридский журнал «Инсула» посвятил другой свой номер консерватору, традиционалисту и, в общем-то, посредственному позу Леопольдо Панеро, что само по себе могло бы дискредитировать (если это не произошло раньше) подобные публикации в глазах читателей.
Понятно, что традиция эта восходит к весьма авторитетным критикам. Находясь в плену юношеских симпатий и привязанностей, виднейший исследователь Золотого века испанской литературы Дамасо Алонсо расточает своим современникам такие похвалы, перемешанные с пылкими, вызывающими улыбку заверениями в дружеских чувствах, которые заставили бы покраснеть самого Шекспира, будь они ему предназначены. И речь в данном случае идет не об Алейсандре, Гильене или Салинасе, а о таких второстепенных поэтах, как Диего, Панеро, Адриано дель Валье, Луис Росалес. Вот что пишет, к примеру, Алонсо о Херардо Диего (называя его не иначе, как «мой Херардо»): «…безусловный шедевр… мастерство поэта, достигшего расцвета сил… тончайший гений… Великолепные стихи! Они не уступают лучшим стихам Блейка (sic!)… великий художник, – . содержательная поэма, в которой автор с величайшей достоверностью сумел отразить глубокое понимание суровой Кастилии и унаследованного нами мистицизма – движущей силы наших поступков, мистицизма, который является нашей исторической миссией как сынов Испании (sic!)… самый прекрасный сонет из восхитительной книги сонетов…» А вот что говорит он о Леопольдо Панеро: «Это лучшее поэтическое произведение всех времен, написанное по-испански (речь здесь идет о весьма посредственной и – скажем прямо – старомодной поэме „Бремя человеческое“)… Я с большим восхищением отношусь к сонетам Панеро и другим его стихотворным произведениям и считаю, что некоторые из них являются шедеврами современной поэзии… В современной испанской литературе творчество Леопольдо Панеро, как ничье другое, отличается теплотой – да и не только в современной: его поэзия – одна из самых тонких во всей истории нашей литературы…» и т. д. и т. п. Любопытный штрих, характеризующий критические воззрения Алонсо: с одной стороны, он позволяет себе неуважительно отзываться о «мсье Сартре», которого, по собственному признанию, никогда не читал; с другой – рассуждает о внутренних движениях души, переживаниях, печалях и сердечных драмах, комментируя поэзию Диего, Панеро и Росалеса. Теперь мы можем понять – и даже оправдать – жестокость Сернуды («сеньора Сернуды», как называет его Алонсо), которой проникнута его поэма «Еще раз, с чувством». Любой другой на его бы месте…
В стране, где вмененное средствам массовой информации в обязанность каждодневное воскурение фимиама во славу и в интересах официальных кругов привело к такому положению вещей, когда журналы создаются исключительно ради восхваления правящего режима и публикации повторяющих друг друга, сочиняемых дежурными писаками угодливых дифирамбов; в стране, где мелкие конфликты и стычки, вызванные завистливой враждой между группировками и кланами столичного начальства, выдаются за политическую деятельность (увы, это по-прежнему единственный вид «политической деятельности», дозволенный в нашей печальной «конфедерации объединенных королевств» [286]), – в такой стране, как эта, причины сознательного и полного забвения, которому были преданы творчество и имя Сернуды, заслуживают специального изучения и объяснения.
Луис Сернуда родился в 1902 году в Севилье и прожил в этом городе до 1928 года. Будучи студентом, он слушал в университете лекции Педро Салинаса – в то время преподавателя испанского языка и испанской литературы. Эти лекции и познакомили его с виднейшими представителями новой французской поэзии – Бодлером, Рембо, Малларме, Реверди. Их творчество наряду с произведениями усердно им читаемых испанских классиков – Гарсиласо, Луиса де Леон, Гонгоры, а также Густаво Адольфо Беккера, бывшего родом тоже из Севильи, – решительным образом повлияли на формирование его личности. Когда в 1925 году появились первые стихи Сернуды, испанская поэзия уже вступила – прежде всего под влиянием романтизма Беккера, модернизма Рубена Дарио, а позднее – строгого, отточенного стиля Антонио Мачадо и Хуана Рамона Хименеса – на путь развития, который привел ее в годы диктатуры Примо де Риверы и Второй республики к небывалому расцвету. Полный отказ от сюжетности, насыщенность текста иносказаниями и аллюзиями, приоритет выразительности над содержанием – таково было творчество всех поэтов, которых сегодня называют «наследниками поколения 1898 года». Сюрреализм, теория дегуманизации искусства Ортеги-и-Гассета, заново открытые для публики произведения Гонгоры – вот источники, где черпали вдохновение Сернуда, Альберти, Александре, Гильен, Салинас, Гарсия Лорка. Как писал недавно критик Карлос Боусоньо, «испанскому сознанию, никогда – даже в XVIII веке – не умевшему быть до конца рациональным и всегда являвшемуся индивидуалистическим, оказалась особенно близкой поэзия, основу которой составили индивидуализм и иррационализм». [287]
Для Боусоньо – а его точка зрения отражает мнение большинства испанских критиков – существуют две основные тенденции в творчестве поколения 1925 года, которые «отличаются друг от друга степенью иррационализма: одна, более традиционная в этом отношении, представлена Рафаэлем Альберти, Педро Салинасом и Хорхе Гильеном. Другая – Нерудой, [288]Алейсандре и Сернудой». Оставим пока в стороне анализ последующей эволюции Неруды и Альберти, которые, начиная с тридцатых годов посвятили свою поэзию служению революции, а также Гильена и Алейсандре, чье становление началось с публикации соответственно «Песнопений» и «Истории сердца», и внесем сразу одно уточнение: если Боусоньо, рисуя такую схему, имеет в виду творчество Сернуды до выхода в свет «Облаков», то мы готовы с ним согласиться, хотя даже в этом случае с некоторыми оговорками. Но начиная с 1937 года поэзия Сернуды становится богаче как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания и уже никоим образом не укладывается в тот шаблон, в который пытается втиснуть ее Боусоньо. Однако он, подобно одному знаменитому официозному критику, полагает тем не менее, что «Сернуда совсем не изменился; в саду его произрастают те же цветы, что и в 1933 году. Любое проявление бунтарского духа, любой политический лозунг трогают больше, нежели эта безукоризненная с точки зрения формы лирика, по прочтении которой в душе нашей ничего не остается. Сопереживать, читая такую поэзию невозможно, она оставляет нас равнодушными». Нелепые высказывания, подобные этому, содержатся в бесчисленных работах о Сернуде, написанных как в Испании, так и за рубежом. На них можно было бы ответить следующими словами поэта:
…Неужто бью о мало
Соплеменникам твоим убить тебя?
И вот уж тупость следует за преступленьем.
(«Еще раз, с чувством»)
Уже в первой книге Сернуды, «Профиль ветра» (1928 г.) лейтмотив его творчества – противоречие между внутренним миром художника и миром, его окружающим, между действительностью и желанием (противоречие, вызывающее у поэта постоянное чувство отчужденности и одиночества, которое с годами становится все острее) – звучит совершенно отчетливо. И все же в первых стихах Сернуды больше какой-то смутной тревоги, беспричинной грусти и хандры (навеянных, вероятно, множеством произведений, им прочитанных, но до конца не осмысленных), нежели безысходного отчаяния, столь характерного для позднейшего его творчества. «„Профиль ветра“, – писал Сернуда тридцать лет спустя, – это книга, написанная подростком, причем подростком еще более незрелым, чем ему полагалось бы быть в его годы, обуреваемым не вполне еще осознанными стремлениями и впадающим в меланхолию именно из-за своей неспособности воплотить эти стремления в жизнь».
Вслед за «Эклогой», «Элегией» и «Одой», упражнениями на усвоение классических стихотворных форм, первое из которых, по признанию самого писателя, представляет собой подражание Гарсиласо, поэту наиболее им любимому, Сернуда публикует цикл стихов под названием «Одна река, одна любовь», где влияние сюрреализма Бретона, Элюара и Арагона угадывается во многих отрывках. Самобытность же его с особой силой проявляется в книге «Запретные удовольствия» (1931 г.). В этом произведении отчужденность Сернуды от внешнего мира, усиливающийся разрыв между действительностью и желанием находят свое выражение в крике протеста против «железных и бумажных стен», которые его окружают:
Тогда – ты только руку протяни —
Непроходимые перед тобой возникнут горы,
И лес непроницаемый, густой,
И море, что уносит юных бунтарей.
(«Скажу вам, как вы родились»)
Противоречия между пониманием любви самим Сернудой и социальными и моральными устоями того времени лишь усугубляют его неприязнь к браку, семье, религии и законам, неизбежно приводящим, по мнению поэта, к потере личной свободы. В противовес им Сернуда провозглашает неотъемлемое право на «запретные удовольствия»:
Долой, монументы безвестных кумиров,
Убожества, жалкие тени теней.
Возмездия час несет в своем чреве
Огонь удовольствий запретных,
Которые блеском одним способны разрушить ваш мир.
(«Скажу вам, как вы родились»)
В книгах «Обитель забвения» (1932–1933 гг.) и «Воззвания» (1934–1935 гг.) мишенью все более гневных выпадов Сернуды становится общество, в котором живет он уже после отъезда из Испании:
Взгляни на выбитые в мраморе каноны
О том, что есть рассудок, польза, красота,
Послушай, как они свои диктуют всем законы,
дают определения небесному, любви…
Смотри, как поколение за поколеньем,
Безумные, они стремятся возвести
громаду замка на песке…
И это – те, мой брат, среди которых
Я в одиночестве к своей шагаю смерти.
(«Слава поэта»)
Духом протеста, который усиливается в результате тягот, пережитых Сернудой во время гражданской войны, проникнуты, как мы увидим, все произведения, написанные им в изгнании. В качестве примера достаточно привести отрывок из книги «Жить, не живя» (1944–1949 гг.):
За ними следуют другие, машинально повторяя
Заученные действия, незыблемость которых
Всегда подкреплена стремлением к наживе.
Толпа, уже для размножения разбитая на пары,
Стоит перед вратами рая, что неотличимы
от тех, которые скрывают царство смерти.
(«Дерево»)
Другим примером может служить одно из наиболее значительных его стихотворений из сборника «В ожидании рассвета» (1941–1944 гг.), в котором поэт, невзирая на оскорбления и пренебрежение со стороны современников, гордо заявляет о своих убеждениях:
За счастье быть верным себе и немногим друзьям
Ты в жизни и смерти заплатишь немалой ценой,
Никто не поймет, что быть не таким, как другие,
Почетней, чем зваться с другими толпой.
(«Похвала людей»)
До самого конца Сернуда неизменно противопоставлял индивидуализм порядкам и нормам современного общества. В одной из лекций, прочитанной в 1935 г., он вскользь говорит о причинах такого противопоставления. «Поэт, – пишет Сернуда, – почти всегда революционер… революционер, который, как и все люди, лишен свободы. Однако, в отличие от них, он не может смириться с таким положением и потому неустанно бьется о стены своей тюрьмы».
Бунтарство Сернуды проявляется и в отношении к религии: он защищает мирские наслаждения, противопоставляя их сухому пуританству испанского общества того времени. [289]Восторженный поклонник человеческой красоты – он воспевает ее во всех своих книгах, начиная с «Юного моряка» (1936 г.) и кончая «Поэмами о красоте человека» (1957 г.), – Сернуда в одном из юношеских стихотворений обращается к богу своих соотечественников:








