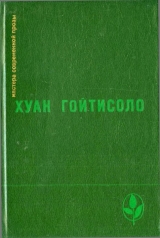
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хуан Гойтисоло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц)
(Авель видел его портрет в комнате Агеды и не мог понять, почему такой мальчик стал стариком и как это в тетиных рассказах он получался страшный, уродливый, словно в кривых зеркалах, которые стоят на ярмарках. Когда он был молодой, у него были светлые волосы, как у самого Авеля, и кожа гладкая, он тогда еще не брился.)
– В ту ночь, – сказала в заключение Филомена, – мы очень молились за него.
* * *
Теперь мертвый мальчик остался один. Лейтенант Феноса приказал отнести его вниз и до прихода родных оставить на раскладушке, на которой раньше спал сторож. Солдаты обшарили все здание в поисках распятия, не нашли и сделали сами крестик из двух веточек. Но руки у мальчика закоченели, и пальцы не хотели разжаться. Тогда солдаты положили крестик ему на грудь, возле маков, и, припомнив, как в таких случаях делал священник, прочитали коротенькую молитву за упокой души.
Мальчик лежал тихо, совсем как святой на картинке, а солдат, приставленный к нему, испуганно смотрел на него. После утреннего боя солдат выпил лишнего, и теперь голова у него кружилась быстрей пропеллера. Он заставил себя смотреть в одну точку – туда, где дробился свет в оконном стекле. За окном, словно мираж, дрожало солнце, отражаясь в ребрах решетки. Радужная муха кружила в тихом, застоявшемся воздухе. Солдат смотрел, как, будто в страшном сне, летает она вокруг недвижного тела. Муха была очень большая, какая-то жирная, мохнатая, она однообразно жужжала и наконец села на маленькую, едва заметную кровавую ранку. Солдату стало жутко, и с большим трудом он заставил себя ее согнать.
Лицо мальчика – белое, будто фарфоровое, – нагоняло на солдата несказанную тоску. Оно было тонкое, точеное, а от этих маков на груди казалось, что мальчик ненастоящий, того и гляди сломается. Сбоку от двери, на вешалке, висела холщовая занавеска метра в два длиной. Солдат осторожно поднялся с колен и покрыл занавеской, как саваном, мертвое тело. Тогда муха, алчно кружившая у самой ранки, полетела к окну.
Солдат опустился на колени, посмотрел и остался доволен. Теперь, когда покрыто холстом, можно подумать, что там лежит что-то другое. А то прямо наваждение. На коленях было неудобно, он присел на корточки. За окном болтали солдаты, сигналил интендантский грузовик. Только здесь, в комнате, было тихо, словно все угасло, и солдату стало как-то пусто, нехорошо. Другие смеются, а он тут сиди один, как в наказание, стереги мертвого мальчишку.
Это было несправедливо, ужасно несправедливо. Он сидел на корточках и тупо смотрел на шершавые пятна сырости, испещрившие стены и потолок. На стене в овальной красной рамке висела фотография старика с козлиною бородкой. Ребята пририсовали ему рога оранжевым карандашом. В лице у него действительно было что-то бесовское, и солдату стало противно на него смотреть, но отвести глаз он не мог. Что-то тоненькое, хрупкое, как паутинка, протянулось и связало их троих – его самого, старика с бородкой и мальчика под холщовой занавеской, словно они были связаны раньше, а чем – он сам не понимал.
Несколько женщин подошли к дверям и, прикрывая глаза рукой, заглянули внутрь. Солдат поднялся и одарил их слабым подобием улыбки. Сейчас, когда он торчал тут совсем один, он бурно обрадовался бы любому знаку участия. На секунду он пожалел, что у него не осталось вина, их угостить. Ему захотелось спеть вместе с ними веселую песню, забыть о мертвом теле, покрытом белым холстом. И он долго не мог понять, что им нужно; а когда понял, мгновенно побледнел.
– Вы простите, сеньор. Мертвенького нам не покажете?
Солдат отступил, пошатнулся и споткнулся о раскладушку. Передние ее ножки согнулись, и, раньше чем он успел ее подхватить, тело скатилось на ковер и распласталось, как паяц. Глаза широко открылись, словно их коснулось чудо, маки осыпались, и сморщенные, увядшие лепестки легли сиянием вокруг головы. Тогда женщинам стало жутко, и они закричали. А солдат почувствовал, что все у него внутри перевернулось, выбежал из комнаты, и его вырвало в коридоре.
Глава IV
У ручья, неподалеку от дороги, жил нищий, известный в окрестных селах под кличкой Галисиец. Его легко было узнать даже издали, потому что он всегда был обвешан огромным количеством мешков и ранцев. Родился он в Галисии, но уже лет сорок бродил по округе – с тех пор как, вернувшись с Кубы, побывал в военном госпитале, – и его силуэт вписался в пейзаж, стал частью местного быта, привычной и успокаивающей, как дневная почта, эхо церковных колоколов или бубен лоточника, проходящего долиной.
В то утро случай принес ему очень приятный подарок. Ночь он провел в пещерке на склоне оврага, у ручья, дремлющего под сенью густых деревьев, и теперь сидел на корточках у входа. Метрах в пятидесяти скрытая от него дорога кишела беженцами и машинами, но в тихой лесной заводи царила тишина даже тогда, когда застрекотали пулеметы. Пули пролетали над деревьями – время от времени какая-нибудь шишка падала на песок; с самой зари в кустах тихо ворковали голуби, и целая армия робких бабочек усеяла белыми пятнышками дубовую рощу.
Нищий сидел на корточках у входа, сосредоточенно точил ножи, как вдруг деревья по склону зашелестели все разом, возвещая о непрошеном госте. Машина старой марки с распахнутыми дверцами и с белой наклейкой на ветровом стекле, похожей на объявление о сдаче квартиры, быстро катилась вниз. Скатившись в лощину, она сильно покачнулась, но обрела равновесие и медленно, очень медленно потащила по песку свое побитое тело, словно удивляясь собственному подвигу.
Нищий, с большим недоверием, двинулся было к машине. Какая-то странная штука ворвалась в знакомые места – тут что-то не так, не к добру это. Песок тормозил ее, мотор дрожал вхолостую. Из радиатора поднимался дымок. Потом мотор заглох, и машина совсем остановилась.
Тогда он стал одной ногой на подножку и решился заглянуть внутрь. Кто-то забыл на переднем сиденье горящий окурок; ключи были на месте, они слегка покачивались. Нищий нажал на грушу и подождал ответа, но здесь, внизу, в лощине, ничто не нарушало хрустящей тишины, кроме хлопанья птичьих крыльев и далеких выстрелов.
– Это чья машина? – спросил он, и какой-то голос гулко повторил его слова. Он спросил снова: – Чья это?
Ответа не было, только птицы защебетали. Тогда он вернулся в пещеру и собрал все свои пожитки.
Колеса прятались в густой траве, и машина – черная, прямоугольная, увитая стеблями и веточками, – торчала из спутанной зелени. Клеенчатый непромокаемый верх был усыпан листьями; белка вскочила на него, увидела нищего и убежала.
Он вернулся не спеша и разложил свои вещи на заднем сиденье. Машина была большая, удобная, он расположился здесь по-хозяйски и снял с ветрового стекла белую бумажку. Тут, во всяком случае, нет насекомых, и жуков нет, и мышей – не то что в его берлоге. Спинка была мягкая, удобная, так и хотелось вздремнуть.
В полусне он смотрел на деревья, а жизнь тем временем входила в обычную колею; солнце осыпало листву желтыми стрелами, в воде отражались ветки дубов и сосен, сонно журчал ручей, тоненько чирикали птицы. В начале одиннадцатого по узкой тропинке прошли пять мальчишек с размалеванными лицами, но его не заметили. Посредине лощины присел заяц, спокойно оглядел машину. Потом спустился солдат в обнимку с девицей и поцеловал ее в губы. Он смеялся и что-то говорил ей на ухо, а она слушала как завороженная. Две пестрые бабочки затеяли любовную игру у них над головой, и, пока солдат и девица искали, где бы улечься, они летали над ними, слившись воедино.
«Любить всегда хорошо, – подумал старик. – Вот зимой как будто вся жизнь кончилась, а бродят соки в земле, и люди ищут и дают друг другу то, чего каждому из них не хватает».
Он уснул, убаюканный отблесками солнца на крыле машины, и спал, пока его снова не разбудил звук голосов.
Пять или шесть солдат присели поболтать у ручья, и старик прикинул, что в это время дня здесь должны быть уже новые войска. («Господи, чего только не случится за неделю в такой глуши!»)
Папоротники и травы чудесно его скрывали, и он смотрел сквозь просветы, не поднимаясь; на солдатах были штаны, заправленные в ботинки, и защитного цвета рубахи с засученными рукавами. Капрал открыл пачку мелкого табака и пустил ее по кругу.
– Который час?
– Полвторого.
– Когда, Сантос говорил, его ждать?
– Еще минут через двадцать.
– Ну, значит, покурим и двинемся.
– Ладно. На дороге солдат полно, вряд ли они туда сунутся.
Кто-то что-то сказал – так тихо, что нищий не расслышал. Потом:
– Как его звать-то?
– Авель Сорсано.
– А ты его видел?
– Нет, не захотел я туда идти.
– А я вот видел. Хорошенький был, бедняга. Прямо сюда угодили, в висок.
– Бог его знает что. Свои же ребята…
– Говорят, он не из ихних.
– Да, не завидую я Сантосу, если его парень с ними был…
Галисиец выпустил руль и встал. Его трясло, его как будто пришибло, в голове мелькали какие-то звездочки. Приятное чувство покоя, сменившее сон, теперь казалось ему ловушкой, наваждением. Ощупью, как лунатик, он вылез из машины и с трудом прошел десяток шагов, отделявших его от солдат.
– Вы про что говорите?
Увидев его, солдаты замолчали и удивленно на него смотрели.
– Сам видишь, – сказал наконец капрал. – Болтаем понемногу, чтобы время убить.
Первое удивление прошло, и появление старика даже обрадовало его. Что-то в этом нищем было свое, знакомое, домашнее, напоминало о далеких краях. Сам не зная почему, он подумал о своем детстве.
– Где медали заработал, дед?
Он ткнул пальцем в жестяные пробки от лимонада и от пива, украшавшие подол стариковой куртки, но тот не обратил никакого внимания.
– Что случилось с Авелем Сорсано? – спросил он. Его дрожащий голос стер улыбки с солдатских лиц, и, раньше чем заговорить, капрал откашлялся.
– Убили его, дед. Приходим мы сегодня утром, а он в интернате лежит, убитый.
Нищий ничего не ответил, только ему стало трудно дышать.
– Убитый?
– Да.
(Любовь и смерть танцевали в обнимку у него в голове – солдат с девицей хотели дополнить друг друга, сливаясь воедино, – и тут же, рядом, мелькало лицо убитого мальчика. И бабочки и люди, которые ходят парами, просто смутно тянутся к смерти. Всех тянет к ней, как пьяницу к бутылке, как мотылька на огонь, и то, что ты когда-то любил, – моргнуть не успеешь – попадает к ней в лапы.)
– Ты что, знал его, дед? – спросил капрал.
Нищий кивнул, но не сказал ни слова.
* * *
Их дружба началась в это лето, солнечным утром. Ее породила целая цепочка причин, среди которых страшный сон про вампиров и летучих мышей и ружейный выстрел лесника сыграли не последнюю роль.
Авель – он сам потом рассказывал – проснулся как-то от страшного сна и, хотя на часах было только без четверти семь и краешек солнца чуть виднелся над перилами насыпи, решил встать.
Он обнажил шпагу и принялся выслеживать врагов, притаившихся где-то у тропинки. На усадьбу только что напала шайка разбойников, и Агеду похитил атаман. В шелковой маске из старого корсета, то и дело сползавшей на глаза, он прошел через лохмотья солнца, сверкавшие между деревьями. Его волосы светились, синими огоньками вспыхивали глаза. Он влез на дерево (так делают в кино) и стал ждать похитителя, как вдруг ружейный выстрел в стороне дороги вытеснил Агеду, которая в эту минуту находилась в весьма неприятном положении (она висела на веревке над пропастью, кишащей крокодилами, а похититель поджигал шнур, чтобы взорвать скалу).
Авель видел охотника только на обложке охотничьего журнала; он был нарисованный, но статья какого-то страстного любителя охоты, где описывалось его снаряжение, дополняла образ. «Он должен быть одет скромно, – говорилось там, – и в то же время практично. Кожаная куртка, простые панталоны из тика или вельвета, в зависимости от времени года, кожаные гетры – вот что, по нашему мнению, подходит больше всего. Некоторые педанты добавят к этому фетровую шляпу, которую итальянские охотники украшают пером фазана, а охотники Тироля – пером попугая; но мы не сторонники столь экстравагантной моды и спешим заверить, что все это ни в малейшей степени не способствует пользе дела, предпочитая заморским выкрутасам скромную классическую одежду испанского охотника». Дальше шло описание разных типов охотничьих ружей, очень нудное, и Авель не дочитал.
Однажды ночью, в начале лета, когда лунный свет сочился сквозь ячейки москитной сетки, ему приснилось, что он охотник. Под мышкой у него было ружье – такое самое, как у мужчины с обложки, – и он звал манком стаю куропаток, притаившихся в зарослях. Тут появилась донья Эстанислаа с серебряными крылышками и тихонько прошептала ему на ухо: «Все наваждение, Авель. Взгляни, как растет луна, поднимаясь из моря. Опусти палку в воду, и тебе покажется, что она сломана. Все иллюзия – и жизнь, и смерть, и тяга к бессмертию. Задолго до того, как ты родился, другие существа, подобные тебе, тщетно пытались забыть, что они – порождение сна; а теперь их тела питают кусты на каком-нибудь кладбище. Люди часто говорят о младенцах, умирающих при рождении, но я спрошу тебя, что сталось с выжившими детьми – со мною, с былой Филоменой, с маленькой Агедой? Где их тела, где их могилы, кладбище? Не дерзай, ничего не торопи, пусть все идет своим ходом. Убивать птицу так же бессмысленно, как громко ступать в пустоте…» Сейчас он увидит настоящего охотника, и неверные тени того сна рассеются, как бледные призраки.
У излучины дороги, там, где начиналась каштановая роща, был источник вроде колодца, в котором сквозь травы, головастиков и древесные корни можно было увидеть свое лицо, искаженное, как в волнистом зеркале. Именно там и прозвучал выстрел. Авель поспешил туда, как вдруг заметил, что Звездочка насторожилась. Целая шайка эвакуированных ребят привязалась к нищему, швыряла в него камнями, а он оборачивался, показывал им кулак и грозил палкой. Они окружили его и стали дразнить, дергать за полы сюртука. Один из ребят вырвал у него фляжку и, торжествуя, хвастался ею перед товарищами.
– Старик бородатый! Старик бородатый!
Нищий пытался отнять фляжку, ругался. Ребята не обращали внимания – они шли за ним, громко топая, и всякий раз, как он пытался заговорить, хлопали в ладоши. Самый маленький, в коротенькой, до пояса, рубашке, повернулся и показал ему зад.
– Старик бо-ро-да-тый!..
Потом, видя, что он не противится, они остановились посреди дороги, громко крича и распевая песни.
Старик привел в порядок свои кастрюли и направился к повороту. Авель смотрел, как он спускается по тропинке, опираясь на палку; потом пошел за ним.
Когда он спустился вниз, старик стоял над водой. Солнечный луч пронзил густую листву, вонзился дротиком в воду и осветил песок на дне, весь в мелкую складочку, как море в штиль.
Услышав шаги, старик обернулся и внимательно оглядел мальчика. И Авель, и собака Звездочка у его ног выглядели мирно, безобидно. Авель удивленно разглядывал разноцветные ленты, жестяные пробки, белую бороду вроде сосульки и потрепанную фетровую шляпу.
Нищий вынул из кармана грязную тряпку, тщательно вытер лицо, облегченно вздохнул и уселся на упавший ствол каштана.
– Хорошо это, по-твоему?
Он показал в сторону дороги; другой рукой он ковырял в зубах.
– Постыдились бы за стариком гоняться, я им в дедушки гожусь, две раны за родину получил.
– Я с ними не был, честное слово… – пробормотал наконец Авель. – Мы со Звездочкой, это моя собака, гуляли там за поворотом, и я все видел. – Он помолчал немного и прибавил то, что в подобных случаях говорил отец: – Нет нужды говорить, как я сожалею о случившемся.
Старик снял шляпу и надел ее на левое колено, где порвалась штанина.
– Верю, верю. Да, были бы они мои дети… Ух, выдрал бы, гадов!..
Котомки, мешки и кастрюли, болтавшиеся за плечами, не давали ему выпрямиться. С большой осторожностью он отвязал веревку, которой они были связаны, и положил их на траву.
– В мое время таких дел не бывало. Нас с самого детства учили почитать стариков. А теперь… прогрессы там всякие, а толку что?
Авель молча кивнул. Он догадался, что это тот самый Галисиец, о котором столько рассказывала Филомена, – удивился, обрадовался и забыл про охотника.
– Тут самое главное, что все идет хуже и хуже. До войны этой проклятой жил я тихо в своей хижине и никогда дверь не запирал, потому что знал – кто пойдет у такого воровать? Я ведь человек тихий, с янками на Кубе сражался, и живу я с моих изобретений. Ну, а теперь все с ума посходили. Собак на меня спускают, и ребята чертовы гоняются. Сам видел – фляжку утащили, а я ее тридцать лет носил. Бог их знает, что другой раз стащат. Ты, конечно, мал еще, тебе это все ни к чему, что я говорю. Да и поздно уже, пора мне за дело приниматься.
Он вынул рогатый ореховый прутик в палец толщиной, в полметра длиной. Потом тяжело поднялся с упавшего дерева и с неожиданной легкостью потоптался на месте.
– Нога затекла.
Он направился к ручью, прошел шагов пятьдесят, держа за концы прутик острием вперед.
– Смотри, чтоб никто нас не увидел.
Он шел медленно, держа свой прутик в горизонтальном положении. Дошел до тростников, повернул и направился обратно тем же путем.
Так, в полной тишине, прошли несколько минут. Туннель света золотой пыльцой стоял в воздухе, на мокрой лесной траве лежало золотистое пятно.
Целлофановые стрекозы парили над цветущим дроком. Авель увидел свое лицо в движущемся зеркале воды и для развлечения стал на него дуть. Солнце сверкало все сильней, и москиты кружились над ручьем сверкающей галактикой.
– Опускается, скажи, опускается? – вдруг спросил нищий.
– Что опускается?
– Ну, прутик.
Авель нерешительно поднялся с колен.
– Я не знаю…
Нищий выпустил прутик и отер лоб платком.
– Наверное, опять я ошибся, а?
– Простите, пожалуйста, – сказал Авель. – Я не знаю, о чем вы говорите.
– Прошу тебя, не волнуйся по пустякам.
Он сказал это очень торжественно, и слова на минуту задержались в сверкающем утреннем воздухе.
– Это вопрос не особенно важный. Я бы так сказал: это вопрос маленький.
Он ласково взял руку Авеля и вложил в нее прутик.
– Знаешь, что это такое?
Мальчик отрицательно покачал головой – старик подавлял его.
– Просто-напросто рабочий инструмент колдуна, или, если хочешь, волшебная палочка.
– А для чего она?
Нищий снова сел на ствол каштана, а палочку сунул в котомку.
– Такие палочки, – сказал он, – показывают место, где прячутся источники, трупы или клады. – Он заметил недоверие в глазах мальчика и поспешил добавить: – А если правду говорить, они показывают, где есть ключи, да и тут ошибаются. Вот я, например, тридцать с лишним лет ищу, где бы устроить водохранилище для здешнего местечка. Еще при короле, скоро после выборов, объявили тут власти конкурс, так никто и не победил. Я с тех пор перепробовал этих палочек сотню с лишним.
Конечно, иногда подумаешь, может, и не врут в книжках, что это все зря, только я человек честный, теперь мне обратного пути нет. Такие дела за тобой всю жизнь тянутся, и раз уж начал, бросать нельзя. Я и сам знаю, что нет конца тому конкурсу, хоть я и внес сотню с лишним предложений. Один со мной соревновался, умер в прошлом году. Только я обязан искать, такое мое дело. Могу, если надо, и в анкете государственной написать, что служу, а, по сути говоря, что человеку еще нужно?
Он зевнул и затянул ремни на плече.
– Хочешь, пойдем ко мне, – предложил он. – Позавтракаем вместе.
Но мальчик вспомнил о письме генералу, которое написал вчера перед сном. Он хотел дать его Мартину на проверку и покачал головой.
– Мне так жаль, но у меня как раз важное дело, и я никак не могу опоздать.
Старик посмотрел на него с подозрением.
– Ты не из вежливости говоришь?
Авель ответил не моргнув глазом:
– Честное-пречестное слово.
– Ну, если так, увидимся в другой раз. В этом мире надо слово держать.
– Если вы хотите, мы можем увидеться в любой день, – сказал Авель, пугаясь, как бы старик не обиделся. – Завтра, например.
Нищий подумал.
– Завтра… завтра… вряд ли смогу сюда прийти завтра. Лучше ты приходи на той неделе. Я с утра всегда тут сижу, у ручья.
– Хорошо, я обязательно к вам приду, – обещал мальчик. – Теперь уже поздно, меня дома ждут.
Он пошел к шоссе в сопровождении своей Звездочки и по пути много раз оборачивался.
«Вы мне сразу понравились, – говорил он потом, – потому что с вами я не чувствую себя маленьким. Вы и Мартин со мной обращаетесь как с равным, и мне это очень приятно».
Тянулись душные августовские дни, похожие один на другой. Авель каждое утро ходил встречать грузовик, но ответа не было. Однажды он вспомнил обещание, данное старику, и, вместо того чтобы идти на перекресток, свернул к ручью. Старик сидел на корточках подле упавшего каштана и, завидев его, улыбнулся довольной улыбкой.
– Молодец, молодец. Я как раз тебя ждал.
Из четырех камней он сложил очаг, а на очаге стояла огромная жестянка. Старик снял крышку и показал мальчику зайца.
– Утром убил. Давно не ходил на охоту, а сегодня вот вышел и ружье прихватил.
Он показал Авелю камышину с какими-то болтами, прикрученными проволокой.
– Я тоже сейчас видел зайца, – сказал Авель.
– Зайца видел? – тихо спросил старик.
– Когда вышел из дому, – врал Авель. – Шагах в десяти от входа.
– Везет людям…
– А вам? Вы долго ходили?
Старик неопределенно махнул рукой.
– Да так, знаешь… В мои годы…
Авель чуть не спросил: «А сколько вам лет?», но вовремя удержался.
– Во всяком случае, вы не слишком устали.
– Да, не особенно, – признал нищий.
Через край жестянки текли струйки жира, и Авель заметил у зайца около шеи кусочки шкурки. Словно проследив за его взглядом, нищий полил их из ложки соусом, пока они совсем не пропитались.
– Трудное дело стряпать, – объяснил он. – На таком огне вовек не управишься.
– Хотите, я пойду поищу дров?
– Спасибо, пойди поищи.
Мальчик углубился в рощу. Он знал тут все наизусть и без труда нашел сухую ветку. Он положил ее на плечо – так, он видел, делал Элосеги – и вернулся к старику.
– Достаточно будет?
– Еще бы, еще бы!
Он взял жестянку за края и поставил на камень. Потом принялся шевелить пальцами головешки и подложил углей под ветку.
Авель вздрогнул, волосы поднялись у него, как колючки у кактуса.
– Вам не горячо? – спросил он тоненьким голосом.
Нищий показал ему жилистую руку.
– А ты взгляни, – сказал он. – Потрогай.
Мальчик почтительно пощупал руку; она была мозолистая, жесткая, шершавая, как древесная кора. Старик гордо улыбнулся.
– У детишек руки нежные, как у головастиков лапки, – сказал он, – А потом пожестче становятся, как у птиц.
Он снял сапог и размотал бинт на пятке.
– Я и ходить могу по углям, ничего мне не будет.
Он показал Авелю бесформенную, заскорузлую пятку – такие пятки бывают у людей, привыкших ходить босиком.
– Потрогай, если хочешь, – разрешил он. – Не бойся, нога не дернется.
Авель почтительно потрогал ее кончиком пальца. Старик начал как-то странно перебирать пальцами – одни пальцы пошли вперед, другие назад, сами собой, словно он играл ими на гитаре.
– Было время, играл я вот так «Королевский марш». Теперь не могу, стар стал. Кости ломит…
Громко пыхтя, он натянул сапог. Авель с интересом разглядывал его вещи; в котомке лежали самые диковинные штуки – жестянки из-под сардин, древесные корни, пустые банки, флакончик в виде бочки, с аккуратно выкрашенным отверстием, краником и клепками, сложенная вчетверо старая газета, полная бутылка муравьев.
Нищий вынул из кармана темно-зеленый пузырек, встряхнул его и наклонил над алюминиевой кружкой.
– Дай-ка водицы, – сказал он.
Авель растерянно огляделся.
– Темную бутылку. Там вода.
Мальчик дал ему бутылку. Старик налил половину зеленой жидкости и половину воды. Потом указательным пальцем размешал как следует.
– Хочешь глоточек?
– А что это? – спросил мальчик.
– Наливочка. Сам утром изготовил.
Преодолев отвращение, Авель отхлебнул чуть-чуть.
– Очень вкусная, – сказал.
Нищий поднял брови углом.
– Еще хочешь?
– Нет, правда, не хочу, спасибо.
– Ну, как знаешь.
Он быстро поднес кружку к губам и раньше, чем пить, ополоснул рот своей наливкой.
– Конечно, не будь я такой рассеянный, занимайся я больше своими делами, я бы запатентовал мои изобретения. Другой бы на них заработал кучу денег. А я уж с детства такой, и теперь мне меняться поздно. Дам хорошую мысль, а другие разрабатывают. Выдумал я, а они пускай пользуются. – Он вздохнул. – Так всегда бывало с учеными. В нашей стране никто нам не поможет.
Он расстегнул куртку и принялся ощупывать подкладку. Авель, к своему удивлению, обнаружил, что к ней привязано множество мешочков на разноцветных ленточках, а в мешочках самые разные вещи – пробочники, пробки от пивных бутылок, стеклянные шарики, гребенки с обломанными зубьями, фарфоровые изоляторы, семена, сухие травки. Старик проверял свое имущество в четыре приема: сперва вытаскивал накопленное добро, потом осматривал, потом проверял мешочек и, наконец, складывал все обратно.
– Эти мои мешочки, – объяснил он, – было время, приносили пользу. – Он запустил два пальца в один мешочек, вытащил резинку, смутился и спрятал. – Только теперь столько накопилось, что не хватает, не хватает. – Он полез в другой мешочек. – Ну, никак не вспомню, куда сунул. – Полез еще в один. – Представляешь?
– Что?
– Представляешь, сколько у меня мешочков?
Авель посмотрел на сюртук, весь покрытый пятнами и медалями.
– Трудно сказать… – начал он.
– Ну, назови какую-нибудь цифру, – настаивал старик.
– Не знаю…
– Ну, давай!
– Тридцать, – сказал Авель.
– Больше.
– Пятьдесят.
– Еще больше.
– Шестьдесят пять.
– Горячо.
– Шестьдесят шесть.
– Шестьдесят восемь. – Старик сиял. – Ни больше ни меньше.
– Не трудно вам с ними?
– Понимаешь, я сначала хотел обметать их разными нитками, а потом привык, так разбираюсь.
– Заяц горит, – сказал Авель.
Нищий не спеша снял жестянку. Соус выкипел, шкурка была вся в черных катышках. Старик вынул две алюминиевые тарелки и протянул одну мальчику.
– Вот, клади себе.
– Спасибо большое, только меня ждут дома, и я бы не хотел, чтобы они беспокоились.
– Бог с ними! Если надо, я сам пойду скажу твоей маме.
– У меня нет мамы, – сказал Авель. – Она умерла уже больше восьми месяцев.
– Ну, папе скажу, – поправился старик.
Он взглянул на бледное, худенькое лицо и поспешил прибавить:
– Может, у тебя и папы нету?
– Он тоже умер.
– Ах ты! – воскликнул старик. – Прямо скажем, не повезло.
Он помолчал, осматривая мальчика с головы до ног.
– А не обидишься, если спрошу, отчего они умерли?
– Папа утонул на корабле. А мама – не знаю. Мы с бабушкой пошли опознавать в подвал. – Он неопределенно повел рукой. – Она там была.
– А кто же с тобою теперь занимается?
– С тех пор как бабушка умерла, обо мне заботится донья Эстанислаа Лисарсабуру. Не знаю, знакомы ли вы с ней. Она хозяйка усадьбы «Рай».
– Знаю, – сказал старик. – Раньше все гуляла по дороге с фиолетовым зонтиком. Мы с ней всегда здоровались.
– У нее очень тонкие чувства, – сказал мальчик. – Она, к несчастью, намного выше своей среды.
Старик почесал затылок.
– Нравится мне, как ты говоришь. Всякий даст тебе лет на двадцать больше, чем оно есть.
Авель поднес ко рту листик.
– Мне кажется, война всех нас состарила раньше времени. Теперь, в сущности, нет ни одного ребенка, который верил бы в дары волхвов.
Нищий пристально на него посмотрел.
– Может, ты и прав, дети теперь родятся стариками. А в мое время мы в твои годы держались за мамину юбку. Ну, поговорили, и хватит. Теперь зайцем займемся.
Он пошарил в котомке, но вилок не нашел. Ничуть не смутившись, он повернулся к мальчику.
– Ну, роскоши этой у меня нет, а жаркое удалось. Бери-ка. Выбирай кусок себе по вкусу.
Нищий вынул зайца за хребет. Авель тщетно пытался оторвать лапу; наконец оторвал и, пыхтя, положил на тарелку.
– Ты не стесняйся, – сказал нищий.
Он впился зубами в зайца и стал жадно его пожирать. Шляпа с огородного пугала, которая держалась кое-как у него на макушке, соскользнула на затылок.
– Вот тебе еще.
Ловко орудуя палочкой, он положил Авелю несколько каштанов и немножко какой-то травки. Тут Авель обнаружил, что заяц не выпотрошен.
– Я не хочу есть, – жалобно сказал он.
– Как так не хочешь? А почему это?
Авель показал на черные шарики, измазанные соусом.
– Я не знаю, что это такое.
Нищий беззаботно на них посмотрел.
– А бог его ведает! Маслины, что ли. Положил к зайцу, приправа.
Это объяснение не внушило Авелю особого доверия. Таких маслин было полно в клетках у кроликов, которые Филомена чистила по утрам. Он протянул нищему свою тарелку и минуту-другую сидел молча, глядя на головешки.
– Ну как хочешь, – сказал старик, – только не взыщи. Не нравится мое жаркое – я не виноват.
Он переложил куски на свою тарелку и быстро все уничтожил.
Потом засыпал песком головешки.
– Зря не кушаешь. На пустой желудок и ум не работает.
Он смотрел по сторонам, как будто что-то искал и сам не помнил что; потом вынул из котомки зеленый флакончик.
– Для волос, – объяснил он.
Измазанными соусом пальцами он взял большую щепоть студенистой массы и смазал лохматые виски, от чего они стали совсем зеленые.
– Сам варю, из индейской смоковницы с одуванчиками. Хочешь помазать?
Авель из вежливости смазал чуть-чуть свои кудри.
– Очень приятный запах, – сказал он.
Теперь нищий смазывал носки ботинок.
– И вакса хорошая, – объяснил он. – На, помажь. Если хочешь, чтоб люди тебя почитали, никогда не забывай о внешнем виде.
Он нахлобучил шляпу, собрал разбросанные вещи и сунул их в котомку.
– Как ты думаешь, ничего не забыли?
Авель огляделся.
– Нет, по-моему… Вот, пробка…
– Давай сюда, – приказал старик.
Он внимательно ее осмотрел и решил положить в карман. Потом расправил плечи.
– Ты мне вот что скажи, – начал он, – Мы с тобою о чем только не говорили, а я так и не знаю, зачем ты ко мне пришел.
Авель покраснел; по-видимому, старик умел читать мысли.
– Как вы думаете, война еще долго протянется? – наконец нерешительно спросил он.
Нищий вынул из мешка старую зубочистку и принялся ковырять в зубах.
– Кто его знает! Теперь войны пошли хитрые. Когда мы с янками на Кубе воевали, тогда не то было. Вот была война так война.
– Ну, не говорите, – запротестовал Авель. – В Бельчите тоже большие сражения. – Его раздражало, что у стариков всегда только их времена хорошие, а теперь все не так. Он хотел показать старику, что и в тридцать восьмом году люди способны на подвиги. – Вчера, например, было больше двух тысяч убитых.
Нищий недоверчиво покачал головой.
– Врут. Такой войны, как на Кубе, больше не будет. Тогда…
Авель встал. У него перехватило дыхание.
– Я хочу сражаться. Мне все равно, что тогда было. Я теперь родился, а не в девятнадцатом веке.








