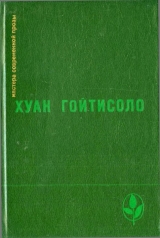
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хуан Гойтисоло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 40 страниц)
Из книги «Свобода, свобода, свобода»
In memoriam F. F. B. [329]Есть события, которых ожидаешь так долго, что, наступив наконец, они теряют всякое подобие реальности. В течение многих лет – со времени поступления в университет – ожидал я, как и миллионы моих соотечественников, этот день, День с большой буквы, что, как рождение Иисуса для христиан, должен был разделить мою жизнь, нашу жизнь надвое: на До и После, Чистилище и Рай, Деградацию и Возрождение.
Я не слишком злопамятный человек. Искренне думаю, что среди моих недостатков и отрицательных черт характера ненависть не значится. На протяжении своих дней я всегда старался, чтобы моральные или идейные конфликты, вызываемые любым моим участием в испанской культурной жизни, не приводили к личной вражде, а если это и происходило – в тех редких случаях, что имели место, – прощение неизменно оказывалось сильнее мстительности.
Чем же объяснить тогда мою упорную ненависть к нему?Ни разу не покинуло меня это чувство во время его затянувшейся, неправдоподобной агонии последних недель, пока над ним, словно во искупление историко-моральной несправедливости, позволяющей ему умирать в постели от старости, творила свой жестокий суд медицина; ни единого проблеска жалости не рождал во мне перечень – сам по себе чудовищный – все новых и все более тяжелых недугов, что день за днем оглашали медицинские бюллетени, составляемые группой врачей, растущей, казалось, прямо пропорционально количеству его болезней.
Я не собираюсь описывать здесь ни кровавую историю захвата власти, ни репрессивные методы, с помощью которых он удерживал ее в течение тридцати девяти лет; не буду напоминать о миллионе павших в гражданской войне, о сотнях тысяч арестованных и расстрелянных в последующие годы, об изгнании еще одного миллиона испанцев, среди которых находились самые выдающиеся представители культуры – от Пикассо до Касальса, от Америко Кастро до Хорхе Гильена, от Бунюэля и до Сернуды. Не собираюсь останавливаться и на парадоксальных – хотя и предсказуемых – последствиях совершенного под его эгидой поворота экономики посредством жесткой военной дисциплины, навязанной рабочему классу, и немыслимого угнетения крестьянства, что привело в шестидесятые годы к превращению страны в современное индустриальное общество – эту пугающую реальность, против которой как раз и боролись многие испанцы из его лагеря, защитники традиционной и застойной Испании, одураченные, таким образом, после смерти или же вынужденные быть прижизненными свидетелями торжества экономических ценностей, что ни протестантская Реформация, ни Век просвещения, ни индустриальная революция не смогли утвердить на нашей земле. Преобразованиям несть числа: ежегодное мирное нашествие тридцати миллионов туристов; массовая эмиграция рабочей силы в страны Европейского экономического сообщества; рост иностранных, главным образом американских, капиталовложений; форсированные темпы индустриализации; разрушение простейших производственных отношений в аграрном секторе… Образовав непрестанно углубляющуюся трещину между структурой полного жизни динамического общества и анахронической политической надстройкой, эта коренная, тотальная ломка тайно подтачивала основы режима – такой была оборотная сторона его обманчивого. Показного триумфа. Палач и в то же время невольный создатель современной Испании, онпринадлежит историкам, и они, а не я должны, избегая как лжи официальной агиографии, так и искажений его личной «черной легенды», установить подлинную роль, сыгранную им на протяжении последних сорока лет.
В час его смерти я хотел бы прежде всего пояснить, чтó означал ондля тех из нас, кто был детьми в годы гражданской войны, – нынешних мужчин и женщин, обреченных на противоестественное положение людей, уже стареющих, но никогда не знавших – из-за него —ни молодости, ни ответственности, Быть может, отличительной чертой эпохи, в которую нам довелось жить, явилась именно невозможность осуществить себя в свободной и взрослой жизни поступков, принять какое-либо участие в решении судьбы общества иным путем, нежели тем, что раз и навсегда установил он,неизбежно ограничивая сферу деятельности людей рамками частной жизни или подталкивая их на корыстную борьбу за личное благоденствие по закону сильного. Я не закрываю глаза на то, что возможность немедленного упрочения своего материального положения, сколь несправедливы и жестоки ни были бы способы ее достижения, все же представляла собой значительный шаг вперед по сравнению с положением в испанском обществе перед войной, и признаю, что, разделяя понятия «свобода» и «благополучие», множество испанцев относительно неплохо приспособились к «прогрессу», не знавшему необходимости в непременном существовании свобод. Но для мужчин и женщин двух последующих поколений, более или менее наделенных социальной и моральной чуткостью, для которых свобода преуспевать и обогащаться более или менее честными способами не могла никоим образом удовлетворить их потребность жить по совести и справедливости, система имела поистине губительные последствия: это был настоящий моральный геноцид. При невозможности физической борьбы с учрежденным им репрессивным аппаратом все мы в тот или иной момент нашей жизни неизбежно оказывались перед выбором; эмигрировать либо смириться с ситуацией, обрекавшей нас на молчание и лицемерие – если не на самоубийственный отказ от принципов, – на холуйскую покорность, циничность и горькое понимание истинного положения вещей. Небольшое меньшинство мужественно избрало иной, третий, куда более трудный путь: величие и тяготы подпольной борьбы, которая в силу своего постоянного характера и по причине крайнего неравенства втянутых в игру сил превращала политику, вплоть до совсем недавнего времени, в некую разновидность наркотика, а самого противника – в тот столь распространенный в испанской жизни тип одержимого, чья навязчивая хвастливая демагогия, опровергаемая суровой правдой фактов, есть не что иное, как отражение полного бессилия, и чьи доводы не столько доводы, сколько акты даже уже и не веры, но воли. Изгнание, молчание, отставка либо wishful thinking, постепенно перешедший в мифоманию: годы и годы и годы боли, безверия, горечи, в то время как – зачастую по причинам, далеким от его личной прозорливости и даже от сугубо испанской конъюнктуры, – картина в стране менялась, заводы, блоки жилых зданий и туристические комплексы разрушали вековой пейзаж, потоки машин заполняли улицы и дороги, а национальный доход подскакивал за десятилетие с четырехсот до двух тысяч долларов.
Не менялся только он,Дориан Грей с почтовых марок, газетных страниц и кабинетных портретов, а тем временем дети становились юношами, юноши достигали зрелого возраста, у взрослых редели волосы и зубы, а те, кто, как Пикассо или Касальс, поклялся не возвращаться в Испанию, пока онжив, умирали один за другим вдали от земли, на которой родились и где при иной ситуации могли бы жить и выражать себя. Его всеобъемлющее, вездесущее присутствие тяготило нас, как образ деспотичного и самовластного отца, правящего нашими судьбами посредством декретов. Помню, словно это было вчера, как в неполные двадцать лет я написал наивную притчу, обличавшую его произвол, а на следующую ночь мне приснилось, что я арестован, Наряду с установленной им официальной цензурой его режим порождал нечто худшее: систему автоцензуры и духовной атрофии, обрекавшую испанцев на ухищренное искусство писать и читать между строк, всегда помнить о существовании цензора, облеченного чудовищным полномочием их калечить. Свобода выражения приобретается нелегко. По собственному опыту знаю, какие огромные усилия необходимы, чтобы избавить свое сознание от незваного гостя – полицейского, просочившегося в душу безо всякого к тому приглашения. Вероятно, в тот день, когда, сбросив с плеч груз этого сверх-Я, испанские журналисты и писатели возьмутся за перо, они почувствуют тот же, охвативший и меня, страх перед внезапно разверзшейся головокружительной пустотой – этой раскинувшейся под ногами свободой, возможностью говорить без околичностей то, что думаешь. Им предстоит не внешняя, но внутренняя борьба против интрапсихической модели цензуры, цензуры, включенной в «механизм души», по известному выражению Фрейда. Не исключено, что для многих интеллектуалов моего поколения свобода пришла слишком поздно и они, пожизненные жертвы стерилизующего сверх-Я, внутренней проекции его неограниченной власти, так никогда и не смогут научиться ответственному творчеству.
Его политический прагматизм, основанный на незначительном числе простейших посылок, вроде тех, что фигурируют в его завещании (недавно я прочел, что он был «единственным тактиком в стране стратегов»), признавал только одну форму идеологической лояльности – полное подчинение, Масштаб официальных добродетелей и заслуг измерялся лишь в пропорции к преданности его персоне. Такое положение способствовало процветанию продажного меньшинства, ревностно оберегающего свои привилегии и доходы, но обрекало огромную массу подданных на пожизненное гражданское несовершеннолетие: невозможность голосовать, покупать газеты иных, нежели правительственные, взглядов, читать и смотреть не прошедшие цензуру книги и фильмы, объединяться с другими гражданами, не согласными с официальной линией, протестовать против беззаконий, создавать профсоюзы… Не находя выхода в обычном творческом русле, необъятный потенциал энергии неизбежно выливался в неврозы, озлобленность, алкоголизм, агрессивность, тягу к самоубийству, маленькие личные преисподние. Испанской психиатрии еще предстоит серьезно изучить последствия этой пагубной опеки над массами взрослых людей, вынужденных страдать от сознания собственной ущербности, а в социальном плане обреченных на увечное, инфантильное, отягченное чувством вины поведение. В один день не удается избавиться от подавлений и табу, от внутренней привычки кподчинению, к некритическому восприятию обуславливающих наше сегодняшнее существование официальных ценностей. Независимо от превратностей политической жизни потребуется очень много усилий, чтобы научить каждого испанца самостоятельно мыслить и действовать, Нужно будет мало-помалу учиться читать и писать без страха, говорить и слушать с подлинной свободой. Народ, который почти сорок лет прожил лишенным ответственности и воли, – народ неизбежно больной, и его выздоровление затянется на срок, прямо пропорциональный длительности самой болезни.
По мере того как рвалась моя привязанность к родине и к физическому отдалению от нее прибавлялось иное, духовное, отчуждение, я много размышлял об этой фигуре, чья тень тяготела над моею судьбой и определяла ее с большей силой и властью, чем отец. Никогда мной не виденный и в свою очередь не подозревавший о моем существовании, именно онбыл первопричиной цепи событий, обусловивших мое изгнание и выбор призвания, незаживающей травмы, оставленной гражданской войной и смертью матери под бомбами егоавиации; отвращения к духу конформизма, в котором хотели меня воспитать и ненавистные шрамы которого я до сих пор несу на себе; раннего желания навсегда покинуть страну, отлитую по образу его и подобию, под небом которой я чувствовал себя чужим. Тем, чем я стал сегодня, я обязан ему.Это онсделал меня вечным странником, этаким Хуаном Безземельным, неспособным нигде прижиться и пустить корни. Онпобудил меня с детства взяться за перо, чтоб избыть мои конфликтные отношения со средой и с самим собой посредством литературного творчества.
Другим повезло меньше, чем мне. Я говорю не только о его бесчисленных непосредственных жертвах, но и о том, что разрушено и загублено в сознании тех, кто был вынужден принять крушение самых благородных своих идеалов и собственную моральную смерть. Или о мечтах и надеждах, связываемых с ликвидацией режима, силой насажденного им в Испании, воплощения которых столько людей не дождалось. Я думаю о Сиприано Мере, командире IV армейского корпуса республиканцев, умершем в тесноте и нищете парижской больницы, в то время как егожизнь искусственно поддерживали наисовременнейшим хирургическим оборудованием. Думаю о Леоне Фелипе, о Максе Аубе, Хулио Альваресе дель Вайо и стольких других, что героически, до последнего, сохранили верность принципам, за которые так благородно боролись, Для них его зловещий конец, достойный кисти Гойи или пера Валье-Инклана, наступил слишком поздно, Их уже никому не воскресить.
Но и для меня эта весть пришла с опозданием, как согласие на брак, данное долгое время спустя после предложения руки, когда человек, сделавший его, уже устал ждать и – как может – устраивает свою судьбу с другой. Чтобы произвести должный эффект, этой вести следовало прийти пятнадцать лет назад, когда я еще страстно любил свою страну и мог принять участие в общественной жизни с куда большей верой и энтузиазмом, чем ныне. А в 1975 году я уже, как говорил Луис Сернуда, – «испанец без желаний», испанец, который есть то, что он есть, лишь потому, что ничем иным быть не может. Для меня урон также оказался непоправимым, и я приспосабливаюсь к нему на свой лад, без злопамятства и ностальгии.
То, как яростно онцеплялся за жизнь, – это упорное сопротивление, так поразившее всех, кто был свидетелем нескончаемой агонии, – делает еще чудовищнее и без того зловещий облик человека, который за несколько недель перед смертью, презрев протесты во всем мире, хладнокровно обрек на казнь пятерых молодых соотечественников, непростительно виновных перед ним в тягчайшем деянии – ответе насилием на узаконенное насилие егоправительства.
Мне трудно произнести эту привычную формулу, но я силой вырву ее из своих уст, разумеется при условии, что онне будет править и с того света: коль скоро, освободившись от егоприсутствия, страна сможет, наконец, жить и дышать, «да почиет онв мире».
Оккупация, которую мы пережилиТот, у кого достанет любопытства перелистать испанские газеты за первые восемь месяцев 1868 года и сравнить увиденное с тем, что писала пресса после военного выступления в сентябре того же года [330], обнаружит, что события 1868 года весьма сходны с тем, что сегодня, после смерти Франко, переживаем мы. В обоих случаях наблюдается резкий переход от серой, безликой печати, делающей вид, будто в стране ничего не происходит, к печати яркой и живой, занятой действительными событиями; от прилежного бумагомарания велеречивых писак, состязавшихся в благородном искусстве звонкого пустословия и трескучей бессодержательности, к внезапной лавине информации о конкретных насущных проблемах; от вызывающих зевоту статей и репортажей о зиме, кошках, продавщицах каштанов, шляпках и tutti quanti [331]к передовицам и воззваниям, кричащим о свободе, правах, партиях, выборах, демократии. В архивах испанской прессы первых восьми месяцев 1868 года мы сталкиваемся с такой же узаконенной серостью, как и та, что в последние десятилетия нашего века пыталась придать убедительность выхолощенной официальной версии, согласно которой на несчастном полуострове не происходило ничего, кроме фантасмагории речей, учреждений, парадов, религиозных процессий, коррид и футбольных матчей.
Сравнение наших газет и журналов периодов до и после антиизабеллинского восстания и смерти генерала Франко открывает нам тот возмутительный и позорный, имеющий неисчислимые последствия факт, что в обоих случаях Испания пережила долгую и невидимую оккупацию без касок, винтовок и танков, – оккупацию не земель, но душ посредством отчуждения, захвата власти и свободы слова в стране меньшей частью ее населения. Мы пережили годы и годы незаконного, безраздельного властвования над умами, рассчитанного на то, чтобы оторвать слова от их подлинного содержания (так, нам твердили о свободе личности, насаждая цензуру; о достоинстве и справедливости, создавая «вертикальные» синдикаты), дабы выхолостить язык, лишить его разрушительной силы, обратить в послушное орудие для нарочито запутанных, обманчивых и усыпляющих речей. То была монополизация слова устного и письменного псевдополитиками и псевдосиндикалистами, псевдоучеными, псевдоинтеллектуалами и псевдописателями, которые ныне, как внутри, так и вовне «бункера» [332], дрожат от страха и священного негодования, видя, что их «непререкаемые» истины оспариваются, самовольно присвоенные привилегии ставятся под сомнение, а покушение на их ветхие догмы перестало быть святотатством; дрожат, видя со злобой и бессилием, что начинают обретать голос те, кто жил в изгнании либо лишенным слова, и что им самим для защиты своих синекур и доходов нужно теперь выходить на арену и бороться, как любому соседскому мальчишке; дрожат, убеждаясь с отчаянием и унынием, что народ потерял к ним уважение и собирается представить им счет – причем не из мстительности, а единственно из чувства справедливости. Свободный от подобного страха, негодования и слепой ярости, народ – огромная масса страждущих и жадных читателей – испытывает сегодня удивление, недоверие и восхищение, наблюдая, как с грохотом рушатся идолы, загоняются в хлев священные быки, тают понемногу призраки и спешат заблаговременно убраться со сцены толпы увешанных медалями монстров. Постепенно, день за днем и дюйм за дюймом, эти перемены пробивают все новые бреши и трещины в возведенной цензурой ветхой словесной тюрьме, перерезают завязки сковывавшей газеты смирительной рубашки, открывают доступ кислороду в измученные легкие народных масс.
Всем известно, как действовала эта система угнетения на наше сознание: понятия изымались из обращения, критика не облекалась в слова, тайные или высказываемые с крайней предосторожностью мысли скапливались в сердце, в груди и в крови, отравляя нас своим ядом, и утверждалась пассивная форма защиты от монополизированного слова в виде шуток и анекдотов за столиком кафе – этот наш печальный и вечный выпускной клапан. После подобной ядовитой и удушливой атмосферы нынешняя система дозволенной полусвободы – постепенное приведение языка в соответствие с действительностью, конец продолжительной и тягостной эпохи шизофренической жизни в двух различных и несовместимых плоскостях – представляется нам почти подарком. Однако, ослепленное новизной этих перемен, подавляющее большинство граждан не видит обратную сторону медали: затяжные последствия ампутации, жертвами которой оно стало; следы длительного процесса колонизации умов, что, уничтожив всяческое свободное обсуждение идей, зачастую вынуждает людей действовать в рамках небольшого числа манихейских схем, не давая им задумываться ни над истинностью рассматриваемых принципов, ни над степенью поражения языка.
Последствия этого положения вещей у всех на виду: с одной стороны, словесное недержание (столь же опасное, как угарный туман, отравляющий наши города искусственными токсинами); с другой – идеологическое манихейство, сводящее все богатство и разнообразие характеристик зрелого и развитого общества к примитивному двухцветному репертуару «мы» и «они», к кинематографическому делению на «плохих» и «хороших». Кроме препятствий, стоящих перед народными массами, кроме яростного сопротивления «бункера» и тех, кто оплакивает старый порядок, на пути к демократии предстоит преодолеть еще и множество внутренних трудностей – следствия нашей неискушенности в вопросах политического сосуществования, плоды повседневного применения формул-на-все-случаи, зачастую подменяющих естественный процесс критического мышления клановыми или корпоративными проповедями, служащими для наставления оглашенных и посвященных. И если мы действительно хотим избавиться от последствий пережитого угнетения и двинуться по пути, ведущему в свободное, справедливое, достойное и полноценное общество, необходимо незамедлительно избавиться от насажденных схем, исследовать удельный вес понятий и слов; эта необходимость сегодня – не факультативное занятие риторикой, но неотложная задача по национальному оздоровлению.
В статье, написанной на смерть Франко и до сих пор (в соответствии с известным изречением Ларры: «то, что не может быть сказано, не должно быть сказано») не опубликованной в Испании, я уже проанализировал некоторые аспекты проблемы, с которой мы столкнулись сегодня, – я имею в виду пережитое нами длительное гражданское несовершеннолетие: «невозможность голосовать, покупать газеты иных, нежели правительственные, взглядов, читать и смотреть не прошедшие цензуру книги и фильмы, объединяться с другими гражданами, не согласными с официальной линией, протестовать против беззаконий, создавать профсоюзы… Не находя выхода в обычном творческом русле, необъятный потенциал энергии неизбежно выливался в неврозы, озлобленность, алкоголизм, агрессивность, тягу к самоубийству, маленькие личные преисподние. Испанской психиатрии еще предстоит серьезно изучить последствия этой пагубной опеки над массами взрослых людей, вынужденных страдать от сознания собственной ущербности, а в социальном плане обреченных на увечное, инфантильное, отягченное чувством вины поведение. В один день не удастся избавиться от подавлений и табу, от внутренней привычки к подчинению, к некритическому восприятию обусловливающих наше сегодняшнее существование официальных ценностей. Независимо от превратностей политической жизни потребуется очень много усилий, чтобы научить каждого испанца самостоятельно мыслить и действовать. Нужно будет мало-помалу учиться читать и писать без страха, говорить и слушать с подлинной свободой. Народ, который почти сорок лет прожил лишенным ответственности и воли, – народ неизбежно больной, и его выздоровление затянется на срок, прямо пропорциональный длительности самой болезни».
Заявлять, как делают сегодня некоторые, что франкистский режим уже принадлежит прошлому – лишь потому, что имя его основателя почти исчезло не только из официальных и частных бесед, но и с телевидения, радио, из журналов и газет, – означает, на мой взгляд, впадать в заблуждение и заниматься самообманом. Народы, как и отдельные люди, склонны набрасывать глухой покров на те периоды своей истории, с которыми они перестают себя отождествлять, но одним этим от перенесенной травмы не исцелиться. Немцы внезапно перестали говорить об ужасах гитлеризма, французы – о позорных страницах времен оккупации, в СССР же решили, что навсегда покончили с ночью сталинизма одним тем, что назвали ее периодом культа личности. Но, старательно скрытый, недуг продолжает подспудно свое разрушительное действие, что подтверждается нынешним расцветом французских книг и фильмов о временах «Виши» и примирением значительной части населения с насажденным нацистами «новым порядком».
Как бы далека ни казалась сегодня тень самого Франко, следы франкизма в наших душах стереть будет очень трудно. Посибилизм, или наука приспосабливать перо к требованиям цензуры, стал своего рода второй натурой испанских авторов, со всеми вытекающими для них отсюда последствиями: самоцензурой, искусством умолчания, иносказания, аллюзии и полунамека; тем самым одновременно формировалась и читательская аудитория, искушенная в науке чтения между строк и постижения тайных замыслов внешне безобидных и безвредных текстов. Это профессиональное деформирование писателей и читателей играло первостепенную роль в период франкистского режима, особенно в последние его годы. Чтение наших газет и еженедельников трех прошлых лет являет множество примеров этой игры, правила которой, требуя определенных навыков и хотя бы минимального соучастия адресата в авторской гимнастике ума, практически недоступны зарубежному читателю из демократической страны, но вполне ясны для испанца, понимающего изощренность и замысловатость построений писателя, вынужденного прибегать к перифразам и сложным, витиеватым оборотам, чтобы выразить свою мысль.
Породив эту противоестественную систему окольного чтения (от которого голова пошла бы кругом у читателя любой другой, не столь многострадальной, как наша, страны), франкистская цензура одновременно обрекла читателей и авторов на интеллектуальную и моральную атрофию и, что еще хуже, посеяла в них подсознательное чувство вины, от которого, как мне известно из собственного опыта, исключительно трудно избавиться. «Цензура, – пишет французский социолог Жан-Поль Валабрега, – карает разом и донора, и реципиента; как пишущего, так и читающего. Если в уголовном праве ни один закон не наказывает и преступника, и его жертву, то для цензуры нет разделения на виновных и жертв. Здесь виновны все – за исключением, разумеется, цензора. Все считаются потенциальными сообщниками. Все становятся укрывателями. Таким образом, если взглянуть на нее с той точки обзора, в которой находится цензор, мы увидим, что цензура обращена к своего рода предполагаемой всеобщей виновности». Это рассуждение помогает нам понять двойственность положения испанских писателей не только на протяжении последних тридцати девяти лет, но и во все исторические эпохи (то есть ставшую правилом, а не исключением!), в которые они жили под властью палаческих, идеологически тоталитарных режимов. Неизбежность подцензурного существования и пассивное примирение с посибилизмом в значительной степени повинны в отсталости, ограниченности и слабости наших авторов, обреченных при франкизме – как и в другие времена – на изгнание или полуправду. Посибилизм предполагает самоцензуру и в конечном счете сговор между цензором и писателем.
Необходимость писать, сообразуясь с определенными нормами, оборачивается значительным ущемлением творческих способностей автора и постоянным болезненным страхом их реализации. Именно этим объясняется явление, против которого я уже не раз выступал: оккупация языка – нашего языка, на котором мы ежедневно говорим и читаем, – всеобъемлющей кастой, калечащей его скрытым насилием над выразительными возможностями. Мы вполне серьезно можем говорить об оккупированных языках, как говорим об оккупированных странах, и потому творческая личность в первом случае должна стать на тот же путь, что истинный патриот – во втором: на путь сопротивления и борьбы, для чего необходимо порвать со всеми клише и стереотипами языка и мышления (вроде неуместной фамильярности по отношению к Пабло, Рафаэлю и Федерико, как в свое время – к Рамиро и Хосе Антонио), со всеми мифами и тюрьмами разума, среди которых, иногда сама того не сознавая, эта творческая личность существует. Очевидно, что эта позиция, подобная позиции партизана или вольного стрелка в оккупированной стране, требует героической повседневной борьбы от писателя, не пожелавшего покинуть родину и не мирящегося с выхолащивающим действием посибилизма. Потому не случайно, что большая часть самых значительных и долговечных произведений, написанных или созданных во время длительного правления Франко, принадлежит испанцам, жившим и работавшим за границей: Америко Кастро, Бунюэлю, Альберти, Семпруну, Максу Аубу, Аррабалю, Луису Сернуде. Любое литературное или художественное творчество обусловлено совокупностью факторов, отчасти не зависящих от воли создателя: оно всегда – плод индивидуального труда и в то же время исторической обстановки, в которой существует автор. Как и научный поиск или философская мысль, литературное творчество не может успешно развиваться без необходимого минимума благоприятных обстоятельств; когда же таковых нет, создатель имеет право эмигрировать и искать подходящие для себя условия, без которых его произведение не обретет жизнь. Наличие цензуры – сколь «либеральной» ни была бы она сегодня, после смерти Франко, – представляет собой непреодолимое препятствие для подъема испанской культуры на уровень французской, английской, немецкой или итальянской. Разумеется, и у нас есть несколько блестящих, стоящих особняком писателей, которые, как говорил недавно один молодой автор, «напоминают испанской литературе ее место».Но одна ласточка (или несколько ласточек) весны не делает.
Впервые за почти сорокалетний период – время, за которое вырастает два с половиной поколения, – испанский народ получил реальную возможность принимать участие в общественной жизни и решать свою собственную судьбу, и мы, писатели и интеллектуалы, даже далекие от политики, не можем позволить себе роскошь упустить этот случай. В этот новый исторический период, в который вступает страна, я хотел бы обратиться и присоединиться к словам Бланко Уайта, какими он приветствовал из Лондона всенародное сопротивление в Испании империалистическому вторжению Бонапарта: «Пусть все мыслят, все говорят, все пишут. Гоните из страны все, что походило бы на ваше старое правительство».
Потому не следует довольствоваться одним требованием отмены цензуры – меры, кстати говоря, неотъемлемой от коренной перестройки всех политических, социальных и экономических структур в стране. Необходимо уже сейчас разоблачать анахронизм и инертность цензуры посредством возможно более свободного, не ограниченного никакими рамками и условиями творчества, направленного на создание целого ряда произведений, которые – будет наложен на них арест или нет – заставили бы ее пасть под ударами самого действенного оружия, что мы можем ей противопоставить: ее собственного бессилия и нелепости.
Франкизм не может и не должен пережить физическую смерть того, кем он создан. От нас, и только от нас – писателей, интеллектуалов, читателей – зависит, сумеем ли мы решительно, твердо и бесповоротно покончить с последствиями его долгой и невидимой оккупации.









