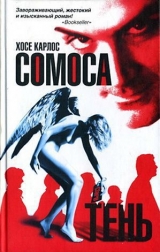
Текст книги "Клара и тень"
Автор книги: Хосе Карлос Сомоса
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Когда она закончила, то поняла, что ван Тисх ее даже не слушал. Он все смотрел ей в глаза.
– Что вы почувствовали после смерти отца? – спросил ван Тисх.
– Облегчение, – сразу ответила Клара. – У него была жуткая болезнь. Он долго лежал на диване и пускал слюни. Пердел прямо передо мной и улыбался, будто он животное. Один раз его вырвало в столовой, он нагнулся и стал копаться в рвоте. Он был болен, но я этого не могла понять. Мой папа всегда был воспитанным, образованным человеком. Он обожал классическую живопись. Это существоне было моим отцом. Поэтому его смерть принесла мне облегчение. Но теперь я знаю, что…
– Замолчите, – не повышая тона, сказал ван Тисх. – Почему вы так боитесь, что кто-то зайдет ночью к вам в комнату?
– Я боюсь, что мне сделают больно. Я боюсь, что мне сделают больно. Я говорю вам все, что знаю.
Ветер усилился. Висящий на ветке ближайшего дерева халат покачнулся и в конце концов упал, но Клара об этом не узнала.
– Искренность нам дается с трудом, правда? – проворчал ван Тисх. – Нас учили, что это – противоположность лжи. Но скажу вам одну вещь. Для многих искренность – не что иное, как обязанностьне говорить неправду. Это тоже притворство.
– Я стараюсь быть искренней.
– Но не получается.
Полы пиджака ван Тисха развевались на ветру. Он поднял воротник, чтобы защитить от холода шею, и растирал руки. Потом внезапно указал пальцем на Кларину голову:
– Там внутри что-то шевелится, что-то крутится, прячется что-то, что хочет выйти наружу. Почему вы так серьезно к себе относитесь? Почему воспринимаете все это как воинскую повинность? Почему не сделаете какую-нибудь глупость? Хотите опорожнить мочевой пузырь?
– Нет, – ответила Клара.
– Все равно попробуйте. Описайтесь.
Она попробовала. Не вышло ни капли.
– Не могу, – сказала она.
– Видите. Вы говорите: «Не могу». Все в вас – «могу» или «не могу». «Я могу сделать то-то, не могу сделать того-то…» Забудьте на минутку о себе. Я хочу, чтоб вы поняли… Нет, не чтобы поняли… Хочу сказать вам, что вы не имеете никакого значения… Да ну, зачем говорить, если вы мне не верите. – Он сделал паузу, будто подбирая слова попроще, и медленно продолжил, помогая себе руками: – Вы – просто носитель того, что мне нужно для моей картины. Слушайте, говорю вам совершенно серьезно, я знаю, что вам трудно это принять, но представьте себя скорлупой: я вас хочу разбить, но не потому, что вас ненавижу, не потому, что презираю,не потому, что считаю вас особенной, а потому, что ищу то, что у вас внутри. Остатки я выброшу. Дайте мне это сделать.
Клара ничего не ответила.
– Скажите по крайней мере, что не хотите, чтобы я это делал, – спокойно предложил ей ван Тисх чуть ли не с просьбой в голосе. – Воспротивьтесь мне.
– Я хочу дать вам то, о чем вы просите, – пробормотала Клара, – но не могу.
– А, видите? «Не могу». Я расставил вам небольшую ловушку. Конечно, не можете. Но видите? Выделаете усилие. Вы не можете согласиться, что вы просто носитель. Как будто скорлупа может расколоться сама, без всякого давления. – Он поднял руку и мягко положил ее на голое плечо Клары. – Вы заледенели. Смотрите, как дрожите. Видите, что я прав? Вы прикладываете усилия. Усилия!Лучше всего все бросить.
Он на минуту отошел, а когда вернулся, принес халат.
– Одевайтесь.
– Нетпожалуйста.
– Ну же, одевайтесь.
– Пожалуйстанетпожалуйста.
Она чудесно знала, что ван Тисх воспользовался довольно грубым методом письма: мнимым сочувствием. Но его мазок был гениальным. Что-то в ней подалось. Она это чувствовала так же, как могла бы чувствовать приход смерти. Сама мысль о том, чтоб вернуться домой, вызывала у нее панику. Этот практически невыносимый вариант – снова надеть халат и закончить со всем одним росчерком – разбил внутри нее нечто очень твердое. Ее плечи задрожали. Она поняла, что плачет без слез.
Он с минуту смотрел на нее.
– Хорошее выражение, – отметил он, – довольно хорошее, но в ваших глазах я не вижу ничего особенного. Надо будет попробовать что-то другое.
Последовало молчание. Клара сжала веки. Ван Тисх внимательно смотрел на нее.
– Невероятно, – прошептал он. – У вас огромная воля, но сама себя подавить она не может. Она напрягает мышцы лица. Натягивает удила. Ну же, ну… Вы что, хотите стать шедевром? Разве ради этого вы согласились, чтоб вас писали? Хотите стать шедевром?… Какая большая ошибка. Смотрите… Даже сейчас, слушая меня, смотрите, как вы напрягаетесь… Ваша воля шепчет: «Я должна сопротивляться!»
Он поднял руку и дотронулся до ее груди. Он сделал это безразлично, будто трогал какой-то предмет, чтобы понять, зачем он нужен. Клара застонала. Грудь ее была холодной и чувствительной.
– Если я касаюсь вас, используювас, вы превращаетесь в тело,видите? У вас меняется выражение, и мне нравится этот полуоткрытый рот, но это не совсем то, что я ищу… – Он отвел руку. – Много художников делали из вас разные картины, и все они были красивыми. Вы привлекательны. Участвовали в арт-шоках. Обожаете трудности. Будучи подростком, входили в группу «Зе Сёркл». В прошлом году отправились в Венецию, чтобы вас написал Брентано. Какой богатый опыт, – сыронизировал ван Тисх. – Вас превратили в архетип желания. Использовали вас, чтобы возбуждать карманы. Вы стремились быть картиной,а они превратили вас в тело. – Указательным пальцем он отвел волос с ее глаз. Клара чувствовала, что от него пахнет трубочным табаком. – Мне никогда не нравилось, когда полотно проходит через руки многих художников. Оно может подумать, что живопись – это оно. А полотно никогда, никогда не является живописью: оно только ее носитель.
– Я прекрасно знаю, кто я! – взорвалась Клара. – А теперь еще знаю, кто вы!
– Ложь. Вы не знаете, кто вы.
– Оставьте меня в покое!
Ван Тисх пристально смотрел на нее.
– Это выражение получше. Уязвленная гордость. Жалость к себе. Интересная дрожь губ. Если бы получить еще и блеск, было бы замечательно!..
Воцарилось долгое молчание. Ван Тисх наклонился над ней, опершись на ее левое плечо. Его пиджак касался голого Клариного тела, а давление руки на плечо вынуждало находиться в постоянном напряжении. Она заметила, что он смотрит на нее как на интересную живописную проблему, рисунок с трудной или слишком тонкой линией, которым он не вполне доволен. Она отвела взгляд от глаз ван Тисха. Прошла целая вечность, прежде чем снова послышался его голос.
– Как удивительно жалки люди. Кто сказал, что мы вообще можем быть произведениями искусства? У моих «Цветов» болит спина. Мои «Монстры» – преступники и калеки. А «Рембрандт» – как насмешка настоящих полотен настоящего художника. Расскажу вам историю из жизни. Гипердраматическое искусство выдумал Василий Танагорский. Однажды он пришел в одну галерею во время открытия выставки своих работ, влез на подиум и сказал: «Живопись – это я». Представляете, что за шутка. Но мы с Максом Калимой тогда были очень молоды и приняли ее всерьез. Раз мы пошли его проведать. У него было старческое слабоумие, и его положили в больницу. Из окна его палаты виднелся прекрасный английский закат. Танагорский рассматривал его, усевшись в кресло. Увидев меня, он указал на горизонт и сказал: «Бруно, как тебе моя последняя картина?» И мы с Калимой засмеялись, думая, что он шутит. Но это-то он говорил всерьезна самом деле. Природа в целом – гораздо более достойная восхищения картина, чем человек.
Говоря, ван Тисх провел пальцем по лицу Клары: лоб, нос, скулы. Его локоть все так же опирался на ее плечо.
– Какой ужас… Какой великий ужас – тот день, когда художник действительно будет знать, как сделать из человеческого существа настоящеепроизведение искусства. Знаете какой, я думаю, была бы эта картина? Она бы вызвала у всех отвращение.Я мечтаю о том, чтобы однажды сделать такую картину, за которую меня бы оскорбляли, презирали, проклинали… В этот день я впервые в жизни действительно создам искусство. – Он отодвинулся от нее и дал ей халат. – Я устал. Завтра буду писать вас дальше.
Он отвернулся и зашагал вперед. Казалось, что он замечательно ориентируется, несмотря на почти полную уже темноту. Клара пошла за ним, засунув руки в карманы халата, спотыкаясь и дрожа от холода и судорог из-за длительной неподвижности. На крыльце ждали Герардо и Уль. Свет с потолка одевал их в золотые капюшоны. Как будто ничего и не произошло. Клара даже подумала, что они стояли в тех же позах, в которых она их запомнила, когда видела в последний раз. Герардо держал руки на поясе. В припаркованном перед домом «мерседесе» притаилась молчаливая тень Мурники де Верн, секретаря Мэтра.
Вдруг ван Тисх остановился посреди дороги, словно что-то с ним случилось, и обернулся. Клара тоже остановилась.
– Подойдите поближе к машине, – сказал ван Тисх. – Но не совсем. Встаньте там.
Она прошла туда, куда он указал. Теперь вся верхняя часть ее тела отражалась в матовом черном стекле окошка машины.
– Посмотрите в сторону окна.
Она послушалась. Не увидела ничего, кроме собственного закутанного в халат тела и рыжих коротких волос, затемненных ночью. Внезапно рядом с ней появилась дрожащая тень ван Тисха. В его голосе слышалось отчаяние.
– Вот!.. Я снова его видел!.. На фотографии в каталоге вы стоите перед, зеркалом!..Это зеркала!.. Зеркала дают этов ваших глазах! Какой я был идиот! Настоящий идиот!
Он схватил Клару за руку и потащил к дому, одновременно выкрикивая что-то своим помощникам, которые мгновенно исчезли в дверях. Когда вошли ван Тисх с Кларой, Герардо и Уль выдвигали в центр гостиной одно из зеркал в полный рост. Художник поставил Клару перед ним.
– Вот это?… Неужели я искал вот это, это так просто?!. Нет, не смотрите на меня! Смотрите на себя!..
Клара посмотрела на свое лицо в стекле.
– Вы смотрите на себя и загораетесь! –воскликнул ван Тисх. – Это выше вас! Вы смотрите на себя и… превращаетесь в другое существо!.. Вас завораживает ваше изображение?
– Не знаю, – после паузы ответила она. – Однажды в детстве я зашла на чердак… Там было зеркало, но я этого не знала… Я его увидела и испугалась…
– Отступите назад.
– Что?
– Отойдите к стене и продолжайте глядеть в зеркало оттуда… Вот так… Точно, когда вы смотрите на себя издалека, ваше выражение меняется… Становится более напряженным.Около машины этопропало, когда вы подошли ближе… Почему?… Вам нужно разглядывать себя издалека… Нужно видеть свое изображение на определенном расстоянии… Далекое изображение… Или, может, уменьшенное?…Я видел это выражение, когда подошел к вам в «Пластик Бос»! Но в этот момент рядом не было зерка… – Он остановился и поднял палец: – На мне были очки! Очки!.. Этот предмет вам о чем-нибудь говорит?
Кларе показалось, что особого потрясения у нее не было заметно, но ван Тисх его уловил. Он подошел к ней, не снимая очков, взял лицо руками и заговорил с ней почти мягким голосом:
– Расскажите. Ну же, расскажите. В нас есть вещи легкие, хрупкие и родные, как дети. Малейшие подробности, которые важнее всей нашей жизни. Я знаю, что вы стараетесь вспомнить нечто подобное.
Малюсенькая Клара смотрела на Клару из стекол очков ван Тисха. Слова послушно выскочили из ее губ на бесконечном расстоянии от ее ошеломленного разума.
– Да, такое есть, – прошептала она. – Но я никогда не придавала этому большого значения.
– Именно это и есть самое важное, – сказал ван Тисх. – Рассказывайте.
– Однажды ночью отец вошел в мою комнату… Это было когда он уже заболел…
– Продолжайте. Но все время смотрите в мои очки.
– Он разбудил меня. Разбудил и напугал. Но он уже был болен…
– Продолжайте.
– Он придвинул свое лицо очень близко к моему… очень близко…
– Он зажег свет?
– Лампу на тумбочке.
– Продолжайте. Что он сделал потом?
– Он очень придвинул свое лицо к моему, – повторила Клара. – Он ничего не сделал, только это. На нем были очки. У моего отца были очень большие очки. Мне они всегда казались большими. Очень большими.
– И вы увидели в них себя.
– Да, наверное, да… Теперь вспоминаю… Я увидела в стеклах свое лицо. На минуту я подумала о картине: оправа была толстой и походила на раму… Я была в стекле…
– Продолжайте! Что случилось потом?
– Отец сказал мне какие-то непонятные слова. «Что такое, папа?» – спросила я. Но он только шевелил губами. Внезапно, не знаю почему, я подумала, что это не мой отец был со мной, а другой человек. «Папа, это ты?» – спросила я. А он мне не ответил. Это меня очень напугало. Я снова спросила: «Папа! Пожалуйста, скажи, это ты?» Но он не ответил. Я расплакалась, а он ушел из комнаты.
– Замечательно, – сказал ван Тисх. – Замолчите наконец. Замечательно. – Он знаками подозвал Уля и Герардо. – Ее выражение сейчас… Лицо, полное ужаса и сострадания, любви и страха. Замечательно. Прорвало. Я написал ее. Она моя.
Он повернулся к помощникам и заговорил по-голландски. Она поняла, что он говорит о картине. Дает им указания. Его поведение полностью изменилось, теперь он не был ни злым, ни взволнованным. Он будто размышлял вслух, погруженный в элементарные технические сложности. Потом он замолчал и снова взглянул на Клару. Еще погруженная в только что всплывшее в памяти напряжение, она слабо улыбнулась.
– Но я никогда не думала, что этот случай в детстве наложит на меня такой необычный отпечаток… Я… Отец был очень болен и… и поэтому так себя вел. Он не хотел мне сделать ничего плохого… Со временем я поняла…
– Мне не важно, наложил он на вас отпечаток или нет, – сухо ответил ван Тисх. – Я художник по людям, а не психоаналитик. Кроме того, я уже сказал, что вы меня совершенно не интересуете, так что приберегите свои глупые соображения. Я получил то, что искал. Перед вами мы поставим скрытое зеркало, так что зрители его не увидят, но вы будете в нем отражаться. И все.
С Кларой он больше не говорил. Отдал последние указания Герардо и Улю и покинул дом. «Мерседес» тронулся с места. Потом наступила тишина.
* * *
Из ванны она вышла, завернувшись в полотенце, с вновь посветлевшими волосами, без бровей, с загрунтованной кожей. Герардо сидел на полу в гостиной, опираясь спиной о стену. Увидев ее, он встал и протянул ей сложенный лист бумаги. Это была цветная ксерокопия классической картины.
– Наверное, тебе уже можно узнать. Она называется «Сусанна и старцы». Рембрандт написал ее около 1647 года. Знаешь эту историю?… Она из Библии…
И он рассказал. Сусанна была благочестивой молодой женщиной, и муж ее был праведным человеком. Два старых судьи пристали к ней, когда она собиралась купаться в саду своего дома. Она отказалась угодить им, и старцы обвинили ее в прелюбодеянии. Ее приговорили к смерти, но Даниил, мудрый судья, спас ее в последнюю минуту, доказав, что обвинение лживо.
– На картине Рембрандта Сусанна с темно-рыжими волосами только что разделась, на ней осталась одна сорочка… Сзади показались старцы… Они бросаются на нее… Одна нога у нее уже в воде, словно один из старцев ее толкнул…
Именно такой эскиз из нее делали с самого начала, пояснил он: рыжие волосы, нагота, ночная слежка, приставания и унижения со стороны двух мужчин. Весь гипердраматизм крутился вокруг этих идей.
– Рисунок готов, – сказал Герардо. – Теперь остается закончить картину. В оставшиеся дни мы займемся прорисовкой позы и цвета тела и фиксацией твоих гипердраматических выражений. Предупреждаю, что работа и дальше будет сложной, но худшее уже позади. – В его голосе звучало облегчение. – Потом мы подсветим тебя софитами, чтобы создать светотени, и поставим на предназначенное для твоей картины место в «Туннеле». – Помолчав, он с улыбкой спросил: – Как себя чувствуешь после бури?
– Хорошо, – ответила она. И расплакалась.
По ее щекам побежала легкая странная влага. Ощущение было настолько удивительным, что она растерялась и не могла понять, что это. Но, кинувшись искать защиты у тела Герардо, она поняла, что впервые после того, как ее загрунтовали, у нее снова были слезы.
●●●
У идущей энергичным шагом к дому женщины короткие волосы, она очень худа, на ней дорогая одежда спортивного стиля: куртка, рубашка, узкие джинсы и ботинки, она в черных очках, в левой руке – сумочка. Ее скованное поведение не вписывается в окружающий ее мирный пейзаж. По обе стороны от гравийной дорожки, по которой она шагает, простирается превосходно подстриженный зеленый газон, четкие тени немногочисленных деревьев и вдалеке забор, огораживающий луг, где можно заметить нескольких пони в яблоках кофейного цвета. Дальше тянутся изгибы холмов, ковры кудрявых от травы пастбищ, пятна кустарников и лесков – весь этот влажный бескрайний пейзаж Дартмурских пустошей в западной Англии. Вечер подходит к концу, и солнце склоняется по левую руку от женщины. Дом, к которому она идет, состоит из двух крыльев: одного вытянутого, с двумя каминными трубами и восемью окнами, и второго, поменьше, перпендикулярного первому. У входной двери ожидает служанка в безукоризненном форменном платье. Она толстовата, и у нее очень белая кожа. При приближении женщины она улыбается, но та и не думает отвечать. Где-то заливается виртуозная пташка, одна из тех, что, несомненно, привлекли бы внимание естествоиспытателя.
– Добрый вечер, мисс. Пожалуйста, проходите.
Краснощекая улыбающаяся служанка говорила с уэльсским акцентом. Хоть Вуд и не ответила, служанка не утратила из-за этого ни капли своего видимого довольства жизнью. Дом был удобным и просторным; пахло благородными сортами деревами.
– Будьте любезны, подождите здесь, мисс. Господин сейчас вас примет.
Гостиная была огромной; в нее вели три полукруглые каменные ступени, сходящие вниз. Вуд спустилась по ним очень медленно, словно участвовала в каком-то театральном представлении. Ее ботинки от Феррагамо заскрипели на камне. У нее мелькнула мысль снять темные очки, но блеск остекленной стены в глубине гостиной заставил ее передумать. Эти диоровские очки шли к ее коротким волосам, на которые она наложила блики оттенка корицы. Стилист салона красоты на Оксфорд-стрит, куда она обычно ходила, порекомендовал ей костюмы спортивного типа в коричневатых и кремовых тонах. Вуд выбрала тонкую хлопчатую куртку, рубаху без ворота на шнурках и брюки в обтяжку. Сумка была крохотной, многогранной, очень легкой – казалось, что пальцы левой руки ничего не держат.
Стоя в ожидании, она быстро огляделась. Просторно, комфортно, без излишеств, в сельском стиле, решила она. «Денег у него больше, но вкусы не изменились», – подумала Вуд. Широкие ковры ручной работы, диваны неброских цветов, огромный камин и в глубине эта стеклянная стена с двойными дверями, ведущими в какой-то чудесный райский сад. Гостиную украшали всего две картины: одна стояла рядом со стеклянными дверьми, а другая у стены справа, около громадного ковра. Этой картиной был светловолосый обнаженный парень лет двадцати, прикрывавший руками лобок. Он не был окрашен, только чуть загрунтован. Было заметно, как он дышит, он часто моргал и, казалось, внимательно следил за движениями Вуд. Похоже было, что это не картина, а самый обыкновенный симпатичный парень, стоящий в гостиной без одежды. Он назывался «Портрет Джо», автор – Габриэль Мориц. Мориц относился к французской школе натурал-гуманизма. Вуд прекрасно знала это направление. Натурал-гуманизм отвергал все попытки превратить человека в искусство и поэтому резко противопоставлял себя чистому гипердраматизму. Для гуманистов картины прежде всего были человеческими существами. Они не покрывали свои модели красками и выставляли их такими, какими они были в обычной жизни, голыми или одетыми, фигуры позировали, почти не входя в состояние «покоя». Натурал-гуманисты кичились тем, что не скрывают недостатки тела: Вуд смогла разглядеть на правом колене «Портрета Джо» шрам от раны, вероятно, полученной им еще в детстве, и линию от давней операции аппендицита. Казалось, парню уже немного надоело выставляться. Пока Вуд разглядывала его, он кашлянул, набрал в грудь воздуха и облизнул губы.
Вторая картина была получше, но она вписывалась в то же направление. Вуд ее уже знала, и ей не нужно было подходить и читать название: «Девушка в тени» работы Жоржа Шальбу. Тело «Девушки в тени» было не таким грациозным, как в картине Морица. Она была похожа на студентку университета, которая решила над кем-то подшутить, сняла с себя всю одежду и застыла неподвижно. На подставках перед обеими картинами красовались характерные для ухода за картинами гуманистов вещи: маленькие подносики с бутылками минеральной воды и печеньем, которое картина могла поглощать в любое время, таблички с надписями о том, что картина пошла отдыхать или отлучилась, которые можно было вешать на стену, и даже плакат, гласивший: «Этот человек работает произведением искусства. Пожалуйста, проявляйте к нему уважение».
Вуд отвела взгляд от картин и, покачивая из стороны в сторону крохотной сумкой, прошлась по гостиной. Она ненавидела гуманистическое французское искусство и все его течения: стремившийся к искренности «сенсеризм» Корбетта, «демократизм» Жерара Гарсе и «абсолютный либерализм» Жаклин Тревизо. Картины, просящие позволения сходить в туалет или просто идущие туда, не говоря ни слова, наружные картины, бегущие под навес, когда начинается дождь, картины, договаривающиеся с тобой о часах работы и даже о позе, в которой они должны стоять, встревающие в твои разговоры с другими людьми, имеющие право жаловаться, если им что-то не нравится, или попросить у тебя то, что ты ешь, если им это понравилось. Что касается ее, ей больше нравился чистый гипердраматизм.
Послышался шум, и она обернулась. По садовой тропинке, прихрамывая и опираясь на палку, шел Хирум Осло. На нем были бежевый свитер и брюки и красная рубашка от «Эрроуз». Он был высоким и видным мужчиной. Смуглая кожа контрастировала с явно выраженными англосаксонскими чертами лица, унаследованными от отца. Черные короткие волосы зачесаны назад, брови густые и выразительные. Вуд показалось, что он не изменился, разве что немного похудел, но грустные глаза, доставшиеся в наследство от матери-индуски, были такими же. Она знала, что ему сорок пять, хотя выглядел он почти на пятьдесят. Он был очень участлив и внимательно наблюдал за всем, что происходило вокруг, стремясь обнаружить человека с проблемами, чтобы протянуть ему руку. Это изобилие солидарности старило его, по мнению Вуд, словно часть моложавости Осло переходила к другим.
Она пошла в сторону стеклянных дверей, к нему навстречу. Осло улыбнулся ей, но сначала остановился, чтобы поговорить с картиной Шальбу.
– Кристина, если хочешь, можешь отдохнуть, – сказал он ей по-французски.
– Спасибо, – улыбнулась картина и кивнула.
Только тогда он обратился к Эйприл:
– Добрый вечер, Эйприл.
– Добрый вечер, Хирум. Мы можем поговорить без картин?
– Конечно, пойдем в мой кабинет.
Кабинет был не в доме, а в пристройке на другом конце сада. Осло нравилось работать в окружении природы. Вуд заметила, что он не утратил своего пристрастия: он выращивал редкие растения и подписывал их названия на маленьких табличках, словно это произведения искусства. Пропуская Вуд в узком простенке с огромными кактусами по краям, Осло сказал ей:
– Ты очень хорошо выглядишь.
Она улыбнулась и промолчала. Быть может, чтобы заполнить паузу, он быстро добавил:
– Картины ван Тисха сняли с экспозиции в Европе не из-за реставрации, правда? Я ошибаюсь, думая, что твой сегодняшний приезд сюда как-то с этим связан?
– Не ошибаешься.
Из-за хромоты Осло шел медленно, но мисс Вуд без проблем приспосабливалась к его шагу. Казалось, у нее масса времени. Когда они вошли под свежий полог дубов, тени сгустились. Откуда-то Доносилось журчание воды.
– Как доехала? Легко нашла мою берлогу?
– Да, до Плимута долетела на самолете и взяла машину напрокат. Ты дал мне точные указания.
– Не все так думают, – с улыбкой заметил Осло. – Есть головы, которые теряются, как только выедут из Ту-Бриджес. Недавно ко мне приезжал один из этих художников, которые хотят ввести в картины музыку. Бедняга два часа плутал.
– Я вижу, ты наконец нашел идеальное убежище: одинокий уголок на лоне природы.
Осло не знал, воспринимать ли слова Вуд как похвалу, но, несмотря ни на что, улыбнулся:
– Здесь, конечно, намного лучше, чем в Лондоне. И климат превосходный. Хотя сегодня на рассвете были тучи. Если пойдет дождь, я спрячу наружные картины. Никогда не оставляю их под дождем. Кстати, – Вуд заметила, что его голос странно изменился, – тебя ждет сюрприз…
Они подошли к месту, откуда доносился шум воды. Это был искусственный пруд. В центре стояла наружная картина.
Помолчав, напрасно пытаясь понять чувства Вуд, Осло сказал:
– Работа Дебби Ричардс. Честно говоря, я считаю Дебби великой портретисткой. Она использовала твою фотографию. Тебе неприятно?
Девушка стояла на маленькой платформе. Мальчишеская стрижка была точной копией, а очки «Рэй-Бэн» были очень похожи на ее, так же как и покрашенный в зеленый цвет хорошо сшитый костюм с мини-юбкой. Было важное отличие (Вуд не могла не обратить внимание на эту деталь): нагие ноги подправили и чуть нарастили. Они были длинными и точеными. Намного более привлекательными, чем ее. «Но все знают, что хороший художник всегда тебя приукрашивает», – цинично подумала она.
Портрет неподвижно стоял в позе, в которую его выставили. За ним вздымалась стена из натурального камня, а справа журчал маленький водопад. Кто же эта девушка, так похожая на нее? Или это только эффект керубластина?
– Я думала, тебе не нравятся портреты с керубластином, – заметила она после паузы.
Осло сдержанно рассмеялся.
– Они мне на самом деле не нравятся. Но в этом случае определенное сходство с оригиналом было необходимо. Он у меня уже год. Тебе неприятно, что я заказал твой портрет? – добавил он, беспокойно глядя на нее.
– Нет.
– Тогда больше не будем об этом. Я не хочу, чтоб ты теряла время зря.
Кабинет располагался внутри стеклянной беседки. В отличие от гостиной здесь царил хаос из журналов, компьютеров и книг, сложенных в шаткие стопки. Осло настоял на том, чтобы расчистить кусочек стола, и Вуд молча ждала, пока он закончит. Неизвестно почему, она была немного выбита из колеи. Однако по ее внешнему виду этого никак нельзя было заметить. Но костяшки сжимавших сумочку пальцев побелели.
Это удар ниже пояса, черт возьми, удар ниже пояса. Ей никогда и в голову не могло прийти, что Осло хочет о ней вспоминать, да еще так романтично. Это абсурдно, бессмысленно. Она не виделась с Хирумом уже много лет. Конечно, оба они довольно часто слышали друг о друге; она – чаще, чем он. С тех пор, как Хирум Осло дезертировал из Фонда и стал гуру натурал-гуманистического движения, не было почти ни одного издания по искусству, которое не писало бы о нем с похвалой или с порицанием. В этот момент Осло прятал затасканный экземпляр своей последней книги, «Гуманизм в ГД-искусстве», которую Вуд уже прочитала. Во время перелета она продумала разговор и решила высказаться о некоторых местах книги – так, думала она, им не придется говорить о прошлом. Но прошлое было рядом, в этом кабинете не было ни одного места, где бы оно не пряталось, не существовало бесед, которые могли бы оставить его незатронутым. И в довершение всего – неожиданный портрет Дебби Ричардс. Вуд повернула голову и посмотрела в сторону сада. Она сразу заметила картину. «Он поставил ее так, чтобы видеть из кресла во время работы».
Когда Осло закончил с уборкой, он обратился к этой бледной, худой фигуре в черных очках. «Обиделась? – размышлял он. – Она никогда не показывает своих настоящих чувств. Никогда не знаешь, что у нее в голове на самом деле». Он внезапно решил, что ее возможная обида не имеет никакого значения. Уж ей-то меньше кого бы то ни было подобало упрекать его за воспоминания.
– Садись. Хочешь что-нибудь выпить?
– Нет, спасибо.
– Я готовлю небольшое выступление на следующей неделе. Будет проводиться большая ретроспектива французских мастеров наружных картин. Будут конференции и круглые столы. Но, кроме того, я отвечаю за уход за тридцатью картинами, среди них десять несовершеннолетних. Я стараюсь добиться, чтобы дети меньше выставлялись и у них было больше дублеров. И я еще не получил отчеты о разведке на местности. Все будет проходить в Булонском лесу, но мне нужно точно знать, где именно. Такие дела…
Он сделал жест рукой, словно извиняясь за то, что говорит о проблемах, касающихся только его. Последовало молчание. Когда Вуд заговорила, старавшийся избежать неловких пауз Осло вздохнул с облегчением.
– Вижу, твои дела в качестве советника Шальбу идут хорошо.
– Жаловаться не на что. Французский натурал-гуманизм начал с малого, но сейчас он в моде в большей части Европы. Здесь, в Англии, мы еще не спешим его импортировать, потому что тут преобладает влияние Рэйбека. И еще потому, что мы, как правило, меньше беспокоимся о ближних. Но некоторые английские художники уже меняют свое отношение к картинам и примыкают к гуманистическому течению. Они вдруг поняли, что могут творить великие произведения искусства и одновременно не унижать людей. Однако общая картина достойна сожаления.
Осло говорил своим обычным спокойным голосом, но Вуд видела, что он взволнован. Она знала, что эта тема не оставляла его равнодушным.
Мгновение спустя он взглянул на нее мягче.
– Но ты, наверное, приехала из Лондона не для того, чтобы интересоваться моими мелкими обязанностями. Расскажи немного о себе, Эйприл.
Мисс Вуд послушалась неохотно, но в итоге сказала намного больше того, что собиралась. Она начала с небольшого обзора своей личной жизни. Ее отец при смерти, сказала она, и ее срочно вызвали в больницу, чтобы сообщить, что конец может наступить в любой момент. У нее много дел в Амстердаме, но она была обязана, так она и сказала – «обязана», – переехать на эти дни в Лондон на случай, если произойдет худшее. Однако времени она даром не теряла. Из дома в Лондоне она рассылала факсы, отправляла и получала сообщения по электронной почте и проводила переговоры со специалистами со всего света и со своими сотрудниками. Наконец она решила обратиться за помощью к Осло. «Но предпочла приехать ко мне лично», – подумал он с оттенком удивительной радости.
– У нас кризис, Хирум, – подытожила Вуд. – И времени почти не осталось.
– Я сделаю все возможное, чтоб тебе помочь. Расскажи, что происходит.
Вуд ввела его в курс дела меньше, чем за пять минут. Она не рассказывала ему все подробности, а дала возможность представить все самому. Не назвала также и уничтоженные картины. Осло слушал молча. Когда она закончила, он сразу с болью спросил:
– Что это были за картины, Эйприл?








