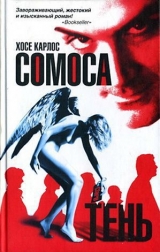
Текст книги "Клара и тень"
Автор книги: Хосе Карлос Сомоса
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Бенуа иногда нравилось произвести впечатление, что он ничего не скрывает от своих картин. В его затянутом бархатом кабинете на седьмом этаже «Нового ателье» их было восемь, и по крайней мере две из них были достаточно ценными, чтобы начальник отдела по уходу за картинами при любой возможности демонстрировал, что обращается с ними с большим уважением, чем с обычными людьми. Это, конечно, включало открытый разговор с гостями без необходимости пользоваться заглушками для ушей.
Кабинет был спокойным, удобным местом, обитым синим. Свет ярко сверкал на плечах хрупкого масла работы Филиппа Бреннана, всего четырнадцати лет от роду, стоявшего за спиной Бенуа. Босх видел, как оно изредка моргает. С потолка свисала легальная копия «Клаустрофилии-17» Бунхера в стеклянном ящике с отверстиями для дыхания. За спиной у Босха «Пепельница» работы Яна Манна обнимала свои ноги, удерживая поднос на ягодицах. В окне великолепное тело светловолосой «Портьеры» Шоббера в позе балерины ожидало приказа откинуться. Обед подали два «Столовых прибора» Локхеда, надушенные парень и девушка с мягкими кошачьими шагами. «Стол» был выполнен Патрисом Флемардом: прямоугольная доска покоилась на спине обритой, окрашенной в марганцево-синий цвет фигуры, которая, в свою очередь, опиралась на спину другой такой же. Запястья и щиколотки одной были привязаны к запястьям и щиколоткам другой. Нижняя фигура принадлежала девушке. Босх подозревал, что верхняя тоже, но убедиться было невозможно.
Обед, в сущности, был небольшим банкетом. Бенуа отдал должное всему: супу из угрей с укропом и прядями водорослей, оленьей ноге в мускатном орехе на виноградных листьях с салатом из трав и салатного цикория и десерту, похожему на следы недавнего преступления: муссу из черники и малины в сметанном соусе – все это было приготовлено фирмой, которая каждый день обслуживала «Ателье». До и после обеда Бенуа занимался обрядом поглощения лекарств. В общей сложности он проглотил шесть красно-белых капсул и четыре изумрудные пилюли. Он жаловался на язву, утверждал, что не может себе позволить ничего из того, что ест, и что должен компенсировать свои вольности лекарствами. Несмотря на это, он попробовал шабли и лафит, поставленные на «Стол» элегантными движениями фигурок Локхеда. Легчайшее дыхание «Стола» колебало вино. Босх ел плохо и почти не пил. Атмосфера этого кабинета его отупляла.
Они обсудили все, о чем можно было говорить вслух в присутствии дюжины человек, находившихся в комнате, кроме них (хотя из-за молчания всех остальных казалось, что они одни): о «Рембрандте» и спорах с мэром Амстердама по поводу установки каркаса для занавесов на Музеумплейн; о приглашенных, которые придут на праздничную презентацию; о все более возможной вероятности того, что голландская королевская семья посетит «Туннель» перед открытием.
Когда беседа исчерпалась, Бенуа протянул руку к торчащему вверх заду «Пепельницы» и поймал на большом позолоченном подносе, балансирующем на ягодицах, сигареты и зажигалку. «Пепельница» – явно мужского пола – была окрашена в матовый бирюзовый цвет, а по депилированным ногам бежали декоративные черные линии.
– Пойдем в другую комнату, – предложил Бенуа. – Дым вреден для картин и украшений.
«Ты просто маэстро лицемерия, дедуля Поль», – подумал Босх. Он знал, что Бенуа изначально спланировал этот второй разговор наедине, но хотел, чтобы у его картин сложилось приятное впечатление, будто он делал это, чтобы не мешать им курением.
Они направились в смежную комнату, и Бенуа закрыл тяжелую дубовую дверь. Он начал почти без предисловий:
– Лотар, это полный хаос. Сегодня утром я встречался с Саскией Стоффельс и Якобом Стейном. Американцы решили притормозить. Финансирование нового сезона приостановлено. Их беспокоит вопрос с Художником и совершенно не нравится массовое снятие картин ван Тисха с выставок. Мы пытаемся продать им теорию, что Художник – проблема чисто европейская, местный псих, так сказать. Мы говорим, что Художник не экспортируется, он действует в Европе и только в Европе. Но они говорят: «Да, да, хорошо, а вы его поймали?»
Он потушил сигарету в металлической пепельнице. Пепельница была самая обыкновенная: Бенуа тратил деньги только на украшения из плоти и крови. Не переставая говорить, он достал из внутреннего кармана безупречного пиджака от Савиль Роу маленький баллончик.
– Ты представляешь себе, сколько стоит содержание этой фирмы, Лотар? Каждый раз, как прихожу на совещание по финансам со Стоффельс, со мной случается одно и то же: голова идет кругом. Наша прибыль огромна, но дыра просто бездонная. Кроме того, Стейн говорил об этом сегодня утром, раньше мы были первыми. А сейчас… Боже мой! – Он открыл рот, направил баллончик в горло и дважды пшикнул. Резко встряхнул и пшикнул еще раз. – Когда в 1998 году появилась «Арт Энтерпрайзиз», мы предсказывали им не больше двух лет жизни, помнишь? Сейчас они занимают первое место по продажам в Америке и являются монополистом на лакомом рынке, обслуживающем коллекционеров Калифорнии. А сегодня утром Стоффельс нам сообщила, что у японцев дела еще лучше. Хочешь верь, хочешь не верь, но в 2005 году объем продаж «Суке» превысил объемы Фонда и «Арт Энтерпрайзиз» почти на пятьсот миллионов долларов. Знаешь, за счет чего?
– За счет украшений, – ответил Босх.
Бенуа кивнул.
– Они смогли нанести нам решающий удар даже в Европе. Сейчас ничто, слышишь, ничтоне может сравниться с японскими живыми предметами. А хуже всего то, что европейские мастера поручают продажу своих работ японцам. Чудесная «Портьера» в моем кабинете… Видел, какое совершенство форм?… Так вот ее создал Шоббер, австрийский мастер, а продает ее «Суке». Да, то, что слышишь… Ты удивишься, но мне очень хочется, чтобы Художник оказался наемником «Суке», клянусь. Связать этого чертова психопата с «Суке» – хороший способ поставить под сомнение их престиж… Но такой удачи нам не видать…
Он спрятал баллончик и поднес ко рту руку. Дохнул, понюхал. Результат, похоже, его не удовлетворил, а может, опять заболела язва, Босх точно не знал. Потом он уселся и немного помолчал.
– Для искусства настали плохие времена, Лотар, плохие времена. Образ одинокого гениального художника и дальше привлекает покупателей, но это уже не зависит от самого художника. Ван Тисх стал мифом, как Пикассо, а мифы мертвы, даже если они еще живут, потому что, чтобы продать картину, им не нужно ее творить: достаточно подписать щиколотку, бедро или ягодицу творения. Однако именно их работы лучше всего продаются, а значит, и имеют наибольшеезначение. Естественно, это равнозначно смерти творца. Таково предназначение современного искусства, его неизбежная цель: смерть художника. Мы возвращаемся к векам, предшествующим эпохе Возрождения, когда художников и скульпторов считали всего лишь умелыми ремесленниками. Так-то, но вот в чем вопрос… Если художники стали бесполезны для искусства, а в бизнесе без них не обойтись,что нам с ними делать?
Бенуа имел обыкновение задавать вопросы, не ожидая ответа. Знавший об этом Босх промолчал, давая ему продолжить.
– Сегодня утром Стейн предложил нечто интересное: когда ван Тисх исчезнет, нам нужно будет написатьдругого. Искусство должно будет создавать своих художников, Лотар: не для того, чтобы бытьискусством, потому что для этого они ему не нужны, а для того, чтобы делать деньги. В наше время произведением искусства может быть все что угодно, но только одно имяможет стоить столько, сколько имя ван Тисха. Так что нам придется поднапрячься и написать другого ван Тисха,извлечь его из небытия, наделить подходящими красками и заставить сиять перед целым светом. Как там сказал Стейн?… Погоди, вспомню его точные слова… Я наизусть заучил, потому что они мне показались… Ах да: «Мы должны сотворить другого гения, который будет направлять слепые шаги человечества и к ногам которого сильные мира смогут и дальше складывать свои сокровища…» Фусхус,замечательно. – Он на миг остановился и нахмурил лоб. – Ну и задачка, да? Создать Сикстинскую капеллу было явно гораздо легче, чем создать Микеланджело, согласен?
Босх кивнул без особого интереса.
– Как ваше расследование, Лотар? – неожиданно спросил Бенуа.
Босх умел различать, когда у Бенуа наступал черед вопросов, требовавшихответа.
– Застряло. Ждем докладов «Рип ван Винкля».
«Никому не доверяй, – предупредила его Вуд. – Скажи, что мы в тупике. Теперь нам придется вести игру в одиночку».
– А Эйприл? Где она?
– Срочно уехала в Лондон. Ее отцу стало хуже.
Так оно и было, на выходных Вуд пришлось вернуться в Лондон из-за состояния здоровья отиа. Но она сказала Босху, что будет продолжать работу оттуда. О том, какова эта работа, не знал даже он, но для него было очевидно: мисс Вуд разработала свой план контратаки. Босх верил в этот план.
Он распрощался с Бенуа при первой же возможности. Нужно было немного отдохнуть. В дверях заведующий отделом ухода остановил его рукой, одновременно снова пшикая в горло спреем от запаха во рту.
– Если можешь, накрути немного этих придурков из НГД. Они там организовывают на неделю открытия выставки веселуху. Полиция сообщает, что соберется около пяти тысяч человек из разных стран. Нам это было бы очень на руку.
НГД – одна из международных организаций, которые наиболее яростно выступали против гипердраматического искусства. Ее основательница и лидер, журналистка Памела О'Коннор, обвиняла таких художников, как ван Тисх или Стейн, в нарушении прав человека, детской порнографии, торговле проститутками и унижении женщины. К ее заявлениям прислушивались, ее обличительные книги хорошо продавались, но ни один суд не обращал на нее внимания.
– Не думаю, что они станут буйствовать, Поль, – заметил Босх. – Людей Памелы О'Коннор едва хватает на то, чтобы писать лозунги.
– Знаю, но мне бы хотелось, Лотар, чтобы ты их немного завел. Нам нужен небольшой скандал. В этой выставке все против нас, начиная с названия. Кому, черт побери, теперь дело до Рембрандта? Разве что паре-тройке зануд-специалистов по древнему искусству. Кто выложит деньги, чтобы пойти на выставку в честь Рембрандта? Публика придет смотреть, что сделал с Рембрандтом ван Тисх,а это не одно и то же. Мы ожидаем многочисленных посетителей, но нужно как минимум вдвое больше. Очереди должны стоять до Лейдсеплейн. Стычка между членами НГД и нашими охранниками была бы как раз кстати… Несколько журналистов в нужном месте, фотографии, репортажи в новостях… На самом деле такие организации, как НГД, очень полезны. Не поверишь, Стейн даже предложил нам тайно их финансировать.
Босх поверил.
– Сделай все возможное, чтобы подогреть обстановку, – подмигнул Бенуа.
– Постараюсь смотреть на все с положительной стороны, – ответил Босх.
Он ушел, не поговорив с Бенуа о самом для него важном: о присутствии на выставке Даниэль.
●●●
На стоящей рядом с деревом девушке только завязанный на поясе короткий белый халат, не подходящий для выхода на улицу или для неподвижного стояния под открытым небом. Но больше, чем ее внешний вид, нас интригуют другие вещи. К примеру, кто-то нарисовал ей кисточкой брови, ресницы и губы, волосы сверкают цветом красной киновари, вся она пахнет масляной краской. Видимые участки кожи на лице, шее, руках и ногах лоснятся искусственным блеском, будто ее затянули полиэтиленом. Однако, как бы странно она ни выглядела, что-то в ее взгляде – что-то, никак не связанное с маской из краски или с нелепой одеждой, какая-то глубокая черта, которая исконнее любой фигуры или рисунка, но хорошо видна там, внутри ее глаз, – пожалуй, заставило бы нас остановиться и постараться узнать ее получше. Ребенка зачаровали бы чудесные краски на ее теле. Взрослого больше заинтересовал бы ее взгляд.
Стоящий передней мужчина – один из лучших художников этого века; в будущем его станут считать одним из величайших художников всех времен. Зная это, мы можем подумать, что его внешность несет на себе отпечаток славы. Это высокий стройный мужчина лет пятидесяти. Одет во все черное, на шее висят очки. Лицо его – узкое, удлиненное – увенчано пышными волосами цвета воронова крыла, седеющими в бакенбардах. Лоб широкий, исчерченный линиями. Две более черные линии, будто утолщенные настойчивым карандашом, образуют брови. Глаза большие и темные, но веки немного обвисают, так что глаза видно наполовину, они все время могут взглянуть дальше. Контур губ обрамлен плотными усами и бородкой. На щеках нет и следа бороды. Мы пытаемся абстрагировать его черты от воспоминаний о фотографиях и репортажах, от знания человека, которому они принадлежат, и, обстоятельно подумав, наконец делаем вывод, что нет: в этом лице нет ничего особенного, все особенное этому лицу придаю ясвоими знаниями о нем. Это мог бы быть принимающий меня в кабинете врач, убийца, фотография которого однажды мелькнула на телеэкранах, механик, у которого я забираю машину после техосмотра.
Он не сказал ей еще ни слова. Говорил по-голландски с Улем, и Герардо поспешил перевести его указания. Она должна надеть халат и идти с ним: Мэтру нравилось творить под открытым небом. Они молча вышли из дома, ван Тисх шел впереди. В этот пятничный вечер стояла отличная погода, может, чуть свежевато, но ее это не беспокоило. Не беспокоило ее и то, что она забыла тапочки. Она слишком волновалась, чтобы обращать внимание на эти мелочи. Кроме того, хоть гравийная дорожка и неудобная, она привыкла ходить босой. Ван Тисх открыл калитку, и Клара просочилась через нее до того, как она снова закрылась. Они пересекли дорожку и пошли дальше, пока не дошли до «Пластик Бос», куда Герардо водил ее накануне. Сквозь нижние ветки проникали солнечные лучи. Они были похожи на золотые штрихи рейсфедера. Ван Тисх остановился, и Клара сделала то же самое. Какое-то время они рассматривали друг друга.
«Пластик Бос» раскинулся в небольшом соснячке, как лужа. Его пространство двадцати метров в длину и шести в ширину было ограничено одиннадцатью искусственными деревьями, которые отличались от настоящих прежде всего тем, что были покрасивее, а их листья издавали звук падающих градинок при сильных порывах ветра. Кларе нравился «Пластик Бос». Она думала, что он – в стиле Голландии, страны пейзажей Вермеера и Рембрандта; таких городов для лилипутов, как Мадуродам, с домиками, каналами, церквями и памятниками, уменьшенными по масштабу; плотин и польдеров, где земли выдумали по воле человека в упорной борьбе с морем. Она стояла босиком на пружинистом ковре силиконовой травы около одного из деревьев. Заходящее солнце светило ей в лицо, но она старалась не моргать.
Она хотела держать глаза широко открытыми, потому что на расстоянии трех метров от нее находился Бруно ван Тисх.
– Вам нравится Рембрандт? – были его первые слова на правильном испанском языке.
Голос был низким и величественным. В греческом театре таким голосом говорил Зевс.
– Я не очень хорошо знаю его живопись, – ответила Клара. Ее желтый загрунтованный язык двигался с усилием.
Ван Тисх повторил вопрос. Было ясно, что ответ его не удовлетворил. Клара заглянула в себя и вытащила всю свою искренность.
– Нет, – сказала она, – на самом деле не очень.
– Почему?
– Ну, не знаю. Знаю, что не нравится.
– Мне тоже, – неожиданно выдал художник. – Поэтому я постоянно смотрю на его картины. Надо постоянно встречаться лицом к лицу с тем, что нам не нравится. То, что нам не нравится, это как честный друг: он обижает нас, но говорит.
У него был какой-то потухший, усталый голос. Клара подумала, что это ужасно грустный человек.
– Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения, – пробормотала она. – Это очень интересный взгляд.
И тут же подумала, что ван Тисху ее похвалы не нужны, и сжала губы.
– Ваш отец умер? – вдруг спросил он.
– Что?
Он повторил вопрос. Сперва Кларе показалось странным, что ван Тисх так резко сменил тему. Однако ее вовсе не удивило то, что он знает подробности ее биографии. Она решила, что Мэтр вникал в жизнь каждого полотна, которое нанимал.
– Да, – ответила она.
– Почему вы так пугаетесь по ночам?
– Что?
– Когда мои помощники будили вас, шурша за окном. Почему у вас было такое испуганное лицо?
– Не знаю. Потому что я боялась.
– Чего?
– Не знаю. Я всегда боялась, что кто-то ночью войдет ко мне в дом.
Ван Тисх подошел ближе и повертел головой Клары, как драгоценным камнем на свету, придерживая ее за подбородок. Потом отошел, оставив ее голову склоненной вправо. Солнечные лучи гирляндами увешивали ветки. Воздух в пластмассовом лесу был влажным, призматическим, и косые лучи света дробились на чистые цвета.
Казалось, что он наблюдает за ней, но уверенности в этом у нее не было.
– Моя мать была испанкой, – сказал ван Тисх.
Невероятные смены темы, похоже, были нормой в разговоре с этим человеком. Клара без проблем приняла это.
– Да, я знаю, – ответила она. – И вы, кстати, очень хорошо говорите по-испански.
Она опять поймала себя на бесполезном комплименте. Ван Тисх продолжал говорить, будто ее и не слышал:
– Я никогда ее не знал. Когда она умерла, мой отец порвал все ее фотографии, и я никогда не смог ее увидеть. Точнее, я видел ее в сделанных с нее рисунках. В акварелях. Мой отец был хорошим художником. Впервые я увидел мою мать в акварелях отца, так что я не уверен, не приукрасил ли он ее еще больше. Мне она показалась очень, очень, очень красивой. – Он проговорил «очень» трижды, медленно, каждый раз произнося звуки по-другому, будто стараясь постичь скрытый смысл этого слова, по-разному проговаривая его. – Но быть может, все дело было в искусстве моего отца. Я не знаю, были акварели лучше или хуже оригинала, никогда этого не знал и не хотел знать. Я не знал мою мать, вот и все. Позже я понял, что это нормально. То есть это нормально – не знать.
Он замолчал и подошел поближе. Наклонил Кларину голову в противоположную сторону, но потом словно передумал и снова наклонил так, как было. Отступил на несколько шагов и снова подошел. Взял одной рукой ее затылок и заставил нагнуть голову. Надел висевшие у него на шее очки для чтения и на что-то посмотрел. Снял их и отошел на несколько шагов.
– Ваш отец, наверное, тоже умер молодым, – сказал он.
– Мой отец?
– Да, ваш отец.
– Он умер в сорок два года от опухоли мозга. Мне было девять лет.
– Значит, вы тоже его не знали. У вас остались только воспоминания о его образе. Но вы никогда его не знали.
– Ну, немного знала. В девять лет у меня уже сложилось о нем какое-то представление.
– У нас всегда складывается какое-то представление о том, чего мы не знаем, – ответил ван Тисх, – но это не значит, что мы знаем его лучше. Мы с вами друг друга не знаем, но у нас уже сложилось какое-то представление друг о друге. Вы не знаете саму себя, но у вас сложилось о себе какое-то представление.
Клара снова кивнула. Ван Тисх продолжал:
– Нет ничего из того, что нас окружает, ничего из того, что мы знаем или не знаем, что было бы нам полностью известно или полностью неведомо. Крайности – примитивная выдумка. То же самое происходит со светом. Не существует полнойтемноты, даже для слепца, разве вы не знали? Темнота населена формами, запахами, мыслями… И присмотритесь к свету этого летнего вечера. Скажете, он чистый? Присмотритесь хорошенько. Я имею в виду не только тени. Смотрите в просветысвета. Видите крохотные комки тьмы? Свет вышит по очень темной материи, но это трудно заметить. Нужно созреть. Когда мы становимся зрелыми, мы наконец понимаем, что истина – нечто среднее. Наши глаза словно привыкают к жизни. Тогда мы понимаем, что день и ночь и, пожалуй, жизнь и смерть – только разные по насыщенности моменты одной светотени. Мы понимаем, что истина, единственная истина, достойная этого имени, – это полумрак.
Помолчав, словно раздумывая над только что сказанным, он повторил:
– Единственная истина – полумрак. Поэтому все так ужасно. Поэтому жизнь настолько жутко невыносима и ужасна. Поэтому все так страшно.
Кларе показалось, что он не вкладывает в слова никаких эмоций. Он как будто размышлял вслух при работе. Разум ван Тисха напевал в пустоте.
– Снимите халат.
– Хорошо.
Пока она раздевалась, он спросил:
– Что вы почувствовали, когда умер ваш отец?
Клара вешала халат на ветку дерева. Ветерок овевал ее нагое загрунтованное тело, как нежная ласка очень чистой воды. Вопрос заставил ее остановиться и взглянуть на ван Тисха.
– Когда умер мой отец?
– Именно. Что вы почувствовали?
– Мало что. То есть… Не думаю, чтобы я переживала так, как мама или брат. Они знали его лучше, и для них это был более сильный удар.
– Вы видели, как он умер?
– Нет. Он умер в больнице. Когда у него начался приступ, судороги, он был дома. Его увезли в больницу и не позволили мне его навещать.
Ван Тисх неотрывно смотрел на нее. Солнце чуть сместилось и частично освещало его лицо.
– Он вам потом снился?
– Иногда.
– Что это за сны?
– Мне снится его… его лицо. Появляется его лицо, говорит странные вещи, потом исчезает.
Какая-то птичка запела и умолкла. Ван Тисх смотрел на нее, прищурив глаза.
– Пройдите туда, – приказал он, показывая на тень искусственного дерева.
Пластмассовая трава послушно пригнулась под ее босыми ногами. Ван Тисх поднял правую руку.
– Там хорошо.
Она остановилась. Ван Тисх надел очки и пошел к ней. Он не дотрагивался до нее, лишь едва очерчивалкороткими приказами, но она казалась себе уже иной, с другим выражением лица, прорисованнойлучше, чем когда-либо. Она была уверена, что ее тело сделает все, что он скажет, не ожидая согласия ее мозга. Что же касается разума, она постарается тоже положить его к ногам художника. Весь. Целиком. Все, что он скажет, все, что он захочет. Без всяких ограничений.
– Что случилось? – спросил ван Тисх.
– Когда?
– Только что.
– Только что?
– Да, только что. Скажите, о чем вы думаете. Скажите, о чем в точностивы сейчас думаете.
Слова еще не нахлынули в голову, но она уже решила говорить:
– Я думаю, что никогда еще так себя не чувствовала ни с одним художником. Что я вам отдалась. Что мое тело делает то, что вы говорите, чуть ли не до того, как вы произнесете слова. И думаю, что мой разум тоже должен вам отдаться. Когда вы спросили, что случилось, я думала об этом.
Когда она замолчала, ощущение было будто сброшена гора с плеч. Она провела ревизию. Обнаружила, что признаваться больше не в чем, и застыла, как солдат в ожидании приказаний.
Ван Тисх снял очки. Вид у него был скучающий. Он забормотал что-то по-голландски и вытащил из кармана платок и флакончик. Где-то в небе проревел самолет. Солнце агонизировало.
– Сотрем-ка эти черты, – произнес он, смачивая кончик платка жидкостью из флакона и поднося его к Клариному лбу.
Она не шевельнула ни одной мышцей. Завернутый в платок палец ван Тисха с силой тер ей лицо. Когда он спустился к глазам, она заставила себя держать их открытыми, потому что он не говорил ей их закрывать. Слабые воспоминания о Герардо доносились до нее, как далекое эхо. Ей было хорошо, когда он нарисовал ей лицо, но сейчас она радовалась тому, что ван Тисх его стирает. Это была еще одна глупость со стороны Герардо – как если бы ребенок размалевал уголок полотна, которым собирался воспользоваться Рембрандт. Казалось невероятным, что ван Тисх ничего не сказал.
Закончив дело, ван Тисх снова надел очки. На мгновение ей показалось, что он недоволен. Потом увидела, как он прячет флакон с платком.
– Почему вы боитесь, что кто-то войдет ночью к вам в дом?
– Не знаю. Правда не знаю. Я не помню, чтобы со мной случалось что-то такое.
– Я видел записи, которые мы делали ночью, и меня поразило, какое у вас было жутко напуганное лицо, когда мои помощники подходили к окну. Я решил, что мы сможем зафиксировать какое-нибудь похожее выражение. Я имею в виду, так вас и написать. Может, я так и сделаю. Но я ищу нечто получше…
Она ничего не сказала, а только смотрела на него. Над головой ван Тисха небо темнело.
– Что вы почувствовали после смерти отца?
– Мне было неважно. Это было незадолго до Рождества. Помню, что праздники вышли очень грустными. На следующий год было полегче.
– Почему вы моргнули?
– Не знаю. Может, от вашего дыхания. Когда вы говорите, вы на меня дышите. Мне постараться не моргать?
– Что вы почувствовали после смерти отца?
– Было очень грустно. Я долго плакала.
– Почему вы так возбуждаетесь от опасности, что кто-то войдет к вам ночью?
– Потому что… Возбуждаюсь? Нет, я не возбуждаюсь. Мне страшно.
– Вы не искренни.
Эта фраза застала ее врасплох. Она выдала первое, что пришло в голову:
– Нет. Да.
– Почему вы не искренни?
– Не знаю. Я боюсь.
– Меня?
– Не знаю. Себя.
– Сейчас вы возбуждены?
– Нет. Может, немножко.
– Почему вы всегда говорите в ответ две разные вещи?
– Потому что хочу быть искренней и говорить все, что приходит мне в голову.
Ван Тисх выглядел слегка раздраженным. Он достал из кармана пиджака свернутую бумагу, развернул ее и сделал нечто неожиданное: бросил ее Кларе в голову.
Бумага ударилась о ее лицо и спланировала на пластмассовую землю. Когда она упала, Клара ее узнала: это был потрепанный каталог «Девушки перед зеркалом» Алекса Бассана. В каталоге была крупная фотография ее лица.
– Когда я искал полотно для одной из фигур «Рембрандта», я увидел эту фотографию, и меня сразу же привлек блеск в ваших глазах, – сказал ван Тисх. – Я приказал, чтобы вас наняли на работу, велел, чтобы вас натянули и загрунтовали, и заплатил большие деньги, чтобы вас привезли из Мадрида как художественный материал. Я решил, что этот блеск идеально подойдет моей картине и что я смогу написать вас намного лучше, чем этот тип. Почему у меня не выходит? В записях в доме я его не видел. Я думал, что это может быть связано с вашими ночными страхами, и приказал помощникам совершить сегодня утром с вами «прыжок в пустоту». Но не думаю, что он зависит от минутного напряжения, поэтому я приехал лично. Только что мне показалось, что я его видел на какую-то долю секунды, когда подходил к вам. Я спросил вас, что случилось. Но не думаю, что этот блеск связан с вами. Думаю, он от вас не зависит. Появляется и исчезает, как робкий зверек. Почему? Почему ваши глаза вдруг начинают так сверкать?
Не давая ей ответить, ван Тисх заговорил другим тоном. Ледяным шепотом, гальваническим током.
– Я устал задавать вам вопросы, чтобы поймать его и зафиксировать в вашем взгляде, но вы отвечаете на все как идиотка, и нигде не видно того, что меня интересует. Вы ведете себя как маленькая девочка, ищущая свой шанс. Красивое тело, жаждущее, чтобы его раскрасили. Вы считаете себя очень красивой, хотите выделиться. Ждете, чтобы вас превратили во что-нибудь прекрасное. Думаете, вы профессиональное полотно, но не знаете, что такое быть полотном, и умрете, так этого и не узнав. Я понял это по записям в доме: как полотно вы – совершенная посредственность. Единственное, что мне от вас нужно, это то, что есть в ваших глазах. В нас есть вещи, которые больше нас самих, и, несмотря на это, они крошечные. Например, опухоль вашего отца. Мельчайшие вещи, но они важнее всей нашей жизни. Жуткие вещи. Из этих вещей творится искусство. Иногда мы вытаскиваем их наружу: это называется «устроить промывку». Это как рвота. Для меня вы презреннее вашей рвоты. Я хочу вашу рвоту.И знаете почему?
Она не ответила. Она отчасти обрадовалась, что у нее нет слез, потому что ей отчаянно хотелось плакать.
– Ответьте. Знаете, почему она мне нужна? – снова спросил ван Тисх безразличным голосом.
– Нет, – прошептала она.
– Потому что она моя.Она в вас, но она моя. – Указательным пальцем он стучал себе в грудь. – Этот блеск, который временами возникает у вас в глазах, принадлежит мне.Я первым его увидел, а значит, он мой.
Он отодвинулся назад, повернулся и отошел на несколько шагов. Клара услышала, как он чем-то гремит. Когда он повернулся, она увидела, что в руках у него свеженабитая трубка.
– Так что тут мы с вами и будем сидеть, пока он не появится.
Он поднес к трубке пламя спички. Окружающая их темнота была все плотнее и плотнее. Он кинул спичку на землю и потушил ногой.
– Преимущества лесов из невоспламеняющейся пластмассы, – заметил он.
Эта неуместная шутка, именноэта жуткая шутка, которую он вставил в свою ледяную речь, показалась ей самым жестоким. Ей пришлось призвать все свои силы, чтобы промолчать и ничего не сделать, чтобы и дальше неподвижно стоять и смотреть на него.
– Будем вытравливать этого блестящего зверька из ваших глаз, чтобы он вышел из норки, – сказал ван Тисх. – А когда я увижу, что он вышел, я его поймаю. Все остальное меня не интересует.
И чуть помолчав, он добавил:
– Все остальное – это всего лишь вы.
Она не знала, сколько часов неподвижно стоит на пластмассовой траве, терпеливо вынося ночь на своей гладкой нагой коже. Поднялся холодный северный ветер. Небо затянуло облаками. Медленная, глубокая стужа, поднимавшаяся, казалось, изнутри ее тела, подтачивала ее волю, как сверло. Но она чувствовала, что источником страданий являются не физические неудобства, а он.
Ван Тисх приходил и снова исчезал. Иногда он подходил поближе и в сгущающейся темноте рассматривал ее лицо. Потом кривился и отходил. Один раз он ушел. Какое-то время его не было, а потом он вернулся с чем-то вроде фруктов. Оперся спиной на пластмассовое дерево и принялся есть, не обращая на нее внимания. Издалека он казался ей, неподвижно стоявшей на ногах, темным пятном с длинными конечностями, огромным худощавым пауком. Потом она увидела, что он улегся на траву и скрестил руки. Казалось, он дремлет. Кларе хотелось есть, было холодно, очень тянуло сменить позу, но все это в тот момент мало ее волновало. Прежде всего она старалась сохранить в целости свою волю.
В один прекрасный момент ван Тисх снова подошел. Он тяжело шагал и дышал, как разъяренный зверь.
– Говори, – выплюнул он.
Она не поняла. Тогда он испустил что-то вроде яростного вопля. На полуслове голос у него сорвался, как у заядлого курильщика.
– Говори что-нибудь!
Говорить ей было сложно. Ей мешала мощная инерция молчания, которое она уже столько часов хранила. Однако она повиновалась. Слова выплыли из нее так, будто были делом исключительно губ:
– Мне плохо. Я стараюсь все делать как можно лучше, но мне плохо, потому что вы меня презираете. Я думаю, вы сумасшедший или сволочной козел и сукин сын, а может, и то, и другое – сумасшедший сволочной козел и сукин сын. Я ненавижу вас и думаю, вы сами хотели, чтоб я вас ненавидела. Не выношу, когда меня презирают. Раньше вы меня возбуждали. Клянусь. Меня возбуждало чувствовать себя в ваших руках. Сейчас уже нет. Мне теперь на вас плевать с высокой башни. И вот я тут стою.








