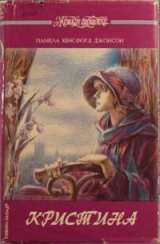
Текст книги "Кристина"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
– Я сама выбрала Нэда, – запротестовала я, достаточно еще простодушная, чтобы тут же попасться ей на удочку.
Она посмотрела на меня со странной улыбкой, но ничего не сказала.
Кто-то из общих знакомых, выйдя из магазина, буквально нос к носу столкнулся с нами, но при виде миссис Олбрайт, поспешно перешел на другую сторону улицы. Дики как-то заметил, что он безошибочно может сказать, когда миссис Олбрайт выходит из дому – все пешеходы квартала словно сквозь землю проваливаются.
– Айрис сейчас на переломе, – продолжала она. – Она только что закончила сниматься в своем первом фильме. Если ее ждет успех, кто знает, может дон Хайме и не понадобится.
Она произнесла это имя с такой нарочитой манерностью, что мне пришлось спросить, как оно пишется.
– У нее очень маленькая роль, – рассказывала дальше миссис Олбрайт, – но это настоящая находка. Фильм выйдет на экраны через месяц. Айрис поет в нем старинную английскую балладу.
Теперь, когда она сообщила мне все, что хотела, ей больше незачем было задерживать меня. Однако не успела я сделать и пяти шагов, как она снова догнала меня; веки ее дрожали, нос заострился.
– Навести девочку и постарайся образумить ее. Она всегда прислушивалась к твоим словам. Она боготворит тебя. Скажи ей, что синица в руке лучше журавля в небе.
Но я не навестила Айрис: все было в прошлом, выцвело и запылилось, как тряпичная кукла на ее туалетном столике.
Когда мы с Нэдом посмотрели ее фильм, мы поняли, что карьера Айрис не сулит ей многого. Ее лицо с необычайно мелкими и тонкими чертами выглядело бледным пятном на экране, который не мог передать ее нежных красок. Голос, записанный на пленку, звучал манерно, чего я обычно не замечала, разговаривая с ней; должно быть, только слепые способны по-настоящему слышать голоса, ибо у них они не соединяются ни с улыбкой, ни с очаровательным трепетом мускулов лица, ни с печалью или радостью, светящейся в глазах. И без того маленькая роль, доставшаяся Айрис в этом фильме, была, без сомнения, еще больше урезана при монтаже, а песенка снята совсем.
И все же в тот вечер мне казалось чудесным, что я вижу Айрис на экране и что миллионы людей тоже увидят ее, и, возможно, захотят узнать ее имя. Я поймала себя на том, что слежу за Нэдом со вновь вспыхнувшим чувством ревности. В последнее время мы были сравнительно счастливы, ибо бывают моменты, и нередкие, даже в очень неудачных браках, когда все идет хорошо и даже в повседневном общении друг с другом люди испытывают чувство, похожее на нежность. Иногда достаточно общей неудачи, чтобы создать иллюзию разделенного счастья. Мой собственный брак, неудачный с самого начала, подтверждал это. Иногда нас с Нэдом сближала мысль о ребенке.
И все же Нэд не был влюблен в меня, как прежде. Его ласки стали короткими и заученными. Мы реже бывали близки. Его начал интересовать ребенок, он гадал, кто будет – мальчик или девочка, и на кого будет похож. На меня он смотрел теперь без прежнего обожания.
Я не сильно раздалась в фигуре, и мне казалось, что беременность не портит меня. И все же я завидовала девушкам, которым в это жаркое лето удавалось быть такими привлекательными даже в самых простых нарядах. Мне хотелось, чтобы Нэд успокоил меня, сказал, что я так же мила, как они, так же мила, как прежде.
Выйдя из кино, мы прошлись пешком до Пикадилли-серкус. По небу бежали яркие буквы реклам, из золотой бутылки в золотой бокал щедро лились звезды. Над крышами горел ржаво-красный лондонский закат. Я чувствовала себя грузной и усталой, но старалась ступать легко, ибо не хотела, чтобы моя походка напоминала неуклюжий переваливающийся шаг многих женщин в моем положении. По правде сказать, теперь я заботилась о своей внешности гораздо больше, чем в дни увлечения граммофоном и танцульками или когда в романтические воскресные вечера моей юности безуспешно пыталась соперничать с Айрис. Я хотела по-прежнему нравиться Нэду и не хотела чувствовать себя неинтересной и опустившейся. И хотя любовь прошла, я эгоистично цеплялась за Нэда. У меня остался он один, и я боялась одиночества. Без Нэда я буду совсем одна.
Глава IX
Нэд внезапно остановился.
– Мы позволим себе небольшое удовольствие, – сказал он. – Почему бы нет? Мне кажется, мы его вполне заслужили.
Неожиданно он ввел меня в один из тех баров, которые когда-то приводили меня в трепет: бывая в них, я считала, что тоже живу в кварталах Вест-Энда. Но сегодня я входила туда без всякой охоты, хотя и старалась не показывать этого. Думая о здоровье ребенка, я не прикасалась теперь к вину, а в общества стройных и изящных женщин чувствовала себя безобразной и словно бы выставленной на осмеяние. Моя жизнь (жалкая горстка дней, так щедро растрачиваемых мною) никогда еще не казалась мне столь бесполезной. Мы с Нэдом сидели в розовом полумраке бара, наши лица, отражаясь в розоватых зеркалах, казались очень красивыми. Я медленно потягивала лимонный сок.
– Нет, так не пойдет, – сказал Нэд. – Чтобы развеселиться, тебе надо выпить чего-нибудь покрепче.
– Мне и так ужасно весело, – ответила я, едва сдерживая слезы.
Он что-то пробормотал себе под нос, а затем его лицо вдруг расплылось в неестественно широкой улыбке:
– Так чувствуют себя, должно быть, все женщины в твоем положении, у всех у них бывают свои капризы.
– Должно быть.
– Когда все кончится, ты снова будешь прежней.
– Конечно, буду.
Он прислушался к музыке, долетавшей сверху из ресторана.
– Вот ты всегда говорила, что у меня нет слуха, но ручаюсь, что это та мелодия, которую мы часто слышали в Ричмонде.
– Нет, не та, – сказала я.
– А мне кажется, та.
– Нет.
Наступило молчание, будто мы поссорились. Но Нэд ласково потрепал меня по колену и положил ладонь на мою руку.
– Я горжусь тобой, ты это знаешь. Просто я не умею выразить этого.
– Ты мною гордишься? – не могла не переспросить я. Мне так хотелось, чтобы он по-прежнему видел во мне женщину. И вместе с тем я испугалась, что он прочтет все это на моем лице, – мне было стыдно за свои мысли.
– Конечно, горжусь, – миролюбиво повторил он и снова похлопал меня по колену. – Я только что сказал это и, если хочешь, могу подтвердить письменно.
– Да, но… – начала было я.
– Что но? – переспросил он с довольным видом.
Но этого я не могла ему сказать. По какой-то причине, возможно потому, что он боялся за ребенка, которого и сам теперь, казалось, с нетерпением ждал, он избегал близости со мной. Уже несколько недель он не прикасался ко мне. Меня же томило желание. Это была не тоска по любви, а грубое плотское желание, заставлявшее меня презирать саму себя и, как ни странно, Нэда тоже, словно я собиралась просить его об этом, как чужая, истосковавшаяся по мужской ласке женщина, а он снисходительно и иронически соглашался удовлетворить ее просьбу. Я решилась бы даже намекнуть ему об этом, если бы была уверена, что по-прежнему кажусь ему привлекательной. Но пока я лишь испытывала обиду женщины, которая носит в своем чреве дитя от любимого человека, согласилась ради этого стать безобразной и вдруг поняла, что именно за эту жертву он меньше всего способен ее благодарить.
– Я и сама не знаю, что хотела сказать, – улыбнулась я ему, ибо в эту минуту он был счастлив и мне не хотелось огорчать его.
– Странная ты у меня, – заметил он без всякого любопытства. – Помнишь, как мы были здесь?
Я хорошо запомнила тот вечер – удовольствие от встречи внезапно сменилось тогда раздражением, которое теперь было непонятным. Мы помирились тогда, но эта ссора запомнилась мне, как первая, оставившая тоску в душе и неприятную горечь во рту.
– Ты была в шляпке, которая мне не понравилась. В шляпке красного цвета, ужасно вульгарной, – сказал он со свойственным ему высокомерием, словно считал себя арбитром хорошего вкуса. Затем он взял меня за руку. – Но все равно ты была в ней мила, хотя и немножко смешная.
– Ты сказал мне это. – Я вдруг вспомнила этот пустяшный эпизод, так огорчивший меня, сделавший по-новому несчастной. – Это было бестактно с твоей стороны.
– Милая моя девочка, – произнес он снисходительно самодовольным тоном, напомнившим мне прежнего Нэда. – Когда ты поближе узнаешь меня, а на это потребуется еще немало лет, ты поймешь, что бестактным я бываю только намеренно. Я презираю людей, которые не умеют заранее обдумывать своих бестактностей.
Ему показалось, что он изрек некую истину, и, возможно, это так и было, но я обратила внимание лишь на слова «немало лет». Годы и годы, думала я, а я уже так устала. И все же я спросила, чтобы избавиться от последних остатков ревности, не имевшей теперь никаких оснований:
– Как ты считаешь, Айрис красива?
– Так себе. Ничего особенного.
Я заметила, что в тот вечер, когда она заставила его подарить ей цветок, он, должно быть, думал иначе.
– Нет. Она никогда мне особенно не нравилась. Но в тот вечер ты нравилась мне еще меньше.
Об Айрис мы услышали еще раз в начале декабря: в «Таймсе» было помещено сообщение о ее бракосочетании в Париже с Хайме Силвера де Кастро из Бразилии.
Я позвонила Каролине и спросила, видела ли она газету и не знает ли подробностей, но она ничего не знала.
– Ну, что ж, – сказала я, – подождем.
Я была уверена, что миссис Олбрайт не заставит нас долго ждать, и оказалась права. Как-то утром она навестила меня. На ней были новые меха и довольно много косметики; манеры ее тоже изменились. Она опустилась на диван с таким видом, будто вообще не привыкла ходить пешком, и приняла позу томно догорающей свечи.
– Милая Кристина, ты должна простить нас обеих за то, что мы держали все в тайне. Будь великодушной. Все произошло так неожиданно и в такой спешке… – она бросила на меня быстрый взгляд, чтобы убедиться, что я ей верю. – Айрис все же пожертвовала своей карьерой, – заключила она.
– Мне очень жаль, – ответила я, чтобы как-то помочь ей.
– Пожертвовала как раз тогда, когда все усилия увенчались успехом, и ею заинтересовался С. Б. Кочрен.
Миссис Олбрайт, сжав губы, словно от боли и сожаления, закрыла глаза, но тут же снова открыла их. Наклонившись вперед, она порывисто положила мне руку на локоть. – Но ничего. Хайме такой милый, хотя и немного старомоден, – ни за что не хочет, чтобы его жена оставалась в театре. Айрис почти не жалеет. – Затем она добавила уже совсем другим тоном: – Теперь мне все равно, пусть рожает детей и теряет фигуру. Она всегда была ужасной лентяйкой.
Вынув маленький позолоченный портсигар, миссис Олбрайт открыла его, и я увидела голубые, розовые и зеленые сигаретки с золотыми ободками.
– Через месяц они с Хайме уезжают. Хотят обосноваться в Буэнос-Айресе, где у него дело. Я только надеюсь, – устало промолвила она, – что богатство не испортит мою девочку. Я всегда хотела, чтобы она была как можно более естественной. – Она помолчала. – Могу я передать ей, что ты желаешь ей счастья?
– Конечно, – сказала я и почувствовала укол зависти. Мы с Нэдом не были богаты. Мне никогда не бывать в Париже, не говоря уже о Латинской Америке. Я подумала: Айрис поедет туда, но она все равно ничего не увидит, для нее это все равно впустую. А как бы я использовала это, сколько бы всего повидала! – Я напишу ей, – сказала я. – Вы дадите мне ее адрес в Париже?
Миссис Олбрайт записала мне адрес Айрис.
– Через некоторое время я тоже поеду к ним, как только у Айрис будет свой дом. Стану бедной родственницей, представляешь? Хотя Хайме очень щедр. Он не забыл меня, – она окинула взглядом свои меха. – Мне буквально приходилось уговаривать его не делать мне столько подарков.
Поднявшись, чтобы распрощаться со мной, она несколько отстранила меня и оглядела со всех сторон.
– Должно быть, тебе уже недолго осталось ждать. Как все это будет ново и интересно для тебя! Что ж, Кристина, может статься, в этом и есть твое счастье.
Я спросила, почему она так думает. Странно сдавленным голосом она ответила:
– Ведь тебе не пришлось пожертвовать карьерой. Айрис могла бы добиться успеха. Она знала, что я мечтаю об этом. Я увидела бы ее имя на афишах. – От набежавших слез ее глаза казались большими, – от крупных, щедрых, как хороший дождь, слез, которые так легко умела проливать ее дочь Айрис; но у матери это были слезы гнева и разочарования. – Она всегда все делала мне назло, всегда! – не выдержав, воскликнула миссис Олбрайт. – Что бы я ни попросила, она всегда все делала наоборот. Вместо карьеры, о которой я так мечтала для нее, она вдруг выходит замуж за противного старикашку, годного ей в отцы. Правда, и ты вышла замуж за человека, который намного старше тебя, но тебе нечего было терять.
Она показалась мне старой и больной. Она крепко зажмурила глаза, но слезы, как бисер, катились по щекам.
– Вы расстроены, потому что все случилось так неожиданно, – сказала я.
– Да, это верно. Что поделаешь? Я успокоюсь. – Она вынула сильно надушенный платок и приложила его к глазам. – Все матери – эгоистки! – воскликнула она, словно повторила обвинение, кем-то уже брошенное ей, и ушла.
Декабрь был месяцем новостей. Через несколько дней после визита миссис Олбрайт мне позвонила Каролина и сообщила, что муж оставил ее.
– У него другая женщина, – сказала она, как всегда выражаясь осторожно, – которая не знает его ужасной тайны. Ему с ней легче, чем со мной, понимаешь? Он оставил мне квартиру и все прочее.
Я высказала предположение, что теперь она может развестись с ним.
– Столько осложнений, дорогая, ты не представляешь. Очевидно, я могла бы, но он не согласится. Видишь ли, он католик.
Это было полной неожиданностью для меня. Она никогда не говорила мне об этом.
– Понимаешь, мы просто не хотели никому об этом говорить, потому что мои родители были ужасно против, а его просто в бешенстве. Наш брак был одним из тех неудачных смешанных браков, когда жене приходится давать обещание, что дети будут воспитываться католиками. Очень смешно говорить об этом после всего, что случилось. – Она умолкла, а затем сказала: – Вот почему мы никого к себе не приглашали. Все были ужасно обижены, и ты, должно быть, тоже. Но мой брак всегда был окружен тайной, так что никто, возможно, и не заметил ничего.
– Почему ты мне никогда не говорила об этом? – спросила я.
– Ты же знаешь, как я не люблю рассказывать о себе. Правда, события меня изменили. Теперь я стала ужасно болтливой.
И спросила, не надо ли навестить се.
– Ты моя сестренка, – ответила Каролина, – и если бы мне хотелось кого-либо видеть, то прежде всего тебя. Но сейчас я хочу побыть совсем одна в комнате со спущенными шторами. Подожди, когда я приду в себя; я позвоню тебе.
Глава X
Была полночь. В постели было тепло, в комнате очень холодно, и холод щекотал ноздри. Стрелки моих часов светились, и я могла следить за интервалами – двадцать минут, пятнадцать, десять. Нет, это не желудок.
– Нэд.
Вздох из-под одеяла.
– Что случилось?
– Мне не хочется тебя будить…
– Тогда не буди.
– Мне кажется, началось.
– Что началось? – Еще вздох, а затем свет лампы осветил нас обоих, – О господи! – Одним прыжком Нэд выскочил из кровати, – Я позову Эмили.
– Не будь идиотом. Позвони лучше врачу.
– Но Эмили должна быть с тобой.
– Говорю тебе, мне не нужна Эмили.
– О господи! Телефон твоего врача?
Спотыкаясь, Нэд побежал к телефону; одна штанина его пижамы закаталась выше колена. Он тут же вернулся.
– Он советует ехать в больницу. Я позвоню туда.
Он снова вышел, а вернувшись, наконец спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – ответила я, чувствуя себя далекой от всего, спокойной, в преддверии каких-то новых ощущений. – Пока я оденусь, согрей мне чаю.
Все уже было собрано. Список необходимого был прислан мне из больницы еще месяц назад.
Я попробовала курить, но папироса вызвала тошноту. Нэд был бледен и серьезен. Мы сидели рядышком на постели, обняв друг друга за плечи. Говорили мало.
– Вот опять.
– Что опять? – спросил Нэд, вздрогнув.
– Больно.
– О господи!
– Это ничего. Сейчас это пустяки. – Я с удовольствием думала о том, что скоро начнется все по-настоящему. Это, должно быть, интересно. В последнее время у меня было так мало интересного. Что-то случалось у Айрис, у Каролины, – если все то, что с ними случилось, можно назвать интересным. Но не у меня.
– Я растоплю камин, – сказал Нэд. – Здесь холодно, как в склепе.
– Забавно, – сказала я, – если смотреть на коробку на комоде с этой стороны, она похожа на человека в цилиндре.
– Очень забавно.
– Ты видишь?
– Да, да, вижу. Выпей еще чаю.
– У нас ничего не приготовлено для встречи рождества.
– Нам уже не придется развешивать бумажные гирлянды на елке.
– Тебе будет неплохо на Мэддокс-стрит. – Мы договорились, что, если я попаду в больницу накануне рождества, Нэд проведет рождество у своих.
Мы ждали. Время тянулось ужасно медленно. Наконец в прихожей раздался звонок, и все пришло в движение. Нэд проводил меня до самой больницы, но был тут же отправлен обратно – ему было велено справляться по телефону. Меня осмотрел врач, затем явилась маленькая толстенькая сестра и проделала все унизительные процедуры подготовки к родам. Меня еще раз напоили чаем и велели позвонить, если мне что-нибудь понадобится. Я лежала одна в небольшой комнате с блестящими, гладко выкрашенными в серую краску стенами. В комнате стояли стул, шкаф и у дальней стены не лишенный изящества белый комодик с надписью: «Инструментарий. Эклампсия». Под потолком ярко горела белая лампочка, и время от времени от сильного сквозняка ее тень на стене раскачивалась, как колокол. В больничной карете я изрядно продрогла или, возможно, сама того не сознавая, перетрусила. Здесь же я не чувствовала себя одинокой; я по-прежнему была на каком-то пьедестале, вдали от всего, посвященная в великую тайну. И тем не менее мне ужасно хотелось читать. Я нажала кнопку звонка.
На этот раз явилась новая сестра, ирландка с медно-красным лицом и такого же цвета волосами; у нее был такой вид, словно она постоянно ждала каких-то невероятных сюрпризов.
– Вы меня ужасно напугали! – воскликнула она, когда я изложила ей свою просьбу. – Я бежала как сумасшедшая, решив, что у вас уже началось. – Я поняла, что она делает мне замечание. И тем не менее она принесла мне старый иллюстрированный журнал, на обложке которого красовалась девица в купальном костюме.
За окном посветлело. Верхние стекла не замерзли, и я увидела прозрачное, розовое по краям, напоминающее маргаритку облачко. Я подумала, когда же придет Нэд, чтобы справиться обо мне; как приятно будет хоть с кем-нибудь перекинуться словом. Я попыталась думать о Нэде и нашей с ним жизни. И пока я лежала в этой тихой комнате, где ждут роженицы, а рассвет светлел все больше, мне показалось, что у нас с Нэдом в сущности самая обыкновенная жизнь, ничуть не хуже и ничуть не лучше, чем у большинства супружеских пар. Мне вдруг показалось знаменательным, что женщины чаще всего без особого интереса говорят о своих мужьях. Брак в сущности совсем не такое волнующее событие. Должно быть, это давно известно всем, кроме меня. Я постаралась найти утешение в этой мысли, но она мало радовала меня. Повернувшись набок, я решила прочесть единственную из непрочитанных мною страниц журнала, оказавшуюся страницей объявлений.
Вошла сестра-ирландка узнать, не нужно ли мне чего-нибудь.
Я сказала, что все обстоит хорошо. Мне очень хотелось, чтобы она осталась и поболтала со мной, но она казалась очень занятой. Когда она ушла, я подумала, как странно, что никого не интересую ни я, ни мой ребенок. Впрочем, почему это кого-то должно интересовать? Принимать роды здесь столь же привычное занятие, как для лавочника отпустить фунт масла. Мне захотелось всплакнуть, потому что время тянулось очень медленно.
Я, должно быть, задремала. А когда проснулась, почувствовала (предварительно справившись с часами), что именно теперь имею полное право нажать кнопку звонка.
– Уже каждые четыре минуты, – сказала я сестре.
Теперь все стало на свое место. У меня было какое-то занятие, и я могла хоть в чем-то участвовать. Мне позволили пройтись по комнате. Когда боль утихала, я была совершенно спокойной. В течение трех с половиной минут из четырех боль была ничтожной. Я не понимала, как вообще ее можно заметить. Но вскоре я испытала первый приступ панического страха, ибо боль была настолько острой, что я с трудом могла выдержать ее и чувствовала, что если она еще усилится, я просто не вынесу.
Сестра внимательно следила за моим лицом.
– Кажется, пора вам в родильную.
Меня положили на коляску, и началось необычайное, головокружительное, почти жутко-веселое (как у Макхита[29] на виселицу, подумала я) путешествие по темно-зеленым и светло-зеленым коридорам, пока я не очутилась в серебристо-белой комнате.
– Вот и мы! – воскликнула одна из сестер. На ее лице была веселая, несколько ненатуральная улыбка человека, который только что не очень удачно сострил. – Раз, два, гопля! Сию минуту здесь будет доктор.
Когда появился доктор, сестра-ирландка сообщила ему, что у меня хорошие боли. Меня несколько удивило такое определение.
Поднялась суета, и я оказалась в центре внимания: меня мяли там, где я боялась дотронуться, подбадривали, хвалили, говорили, что я молодец. Я думала: придет же в конце концов завтра. Прежде чем я опомнюсь, все будет уже позади и я буду говорить себе: «Подумать только, ведь все это произошло всего лишь позавчера». Не может же время остановиться.
Я заметила, что неприлично громко дышу.
– Как отвратительно, – с трудом вымолвила я.
Доктор рассмеялся и посоветовал мне дышать еще громче – это полезно.
– Пыхчу, как паровоз, – сказала я, довольная тем, что хоть голос остался у меня прежним. А затем я очутилась во власти боли такой невероятной силы, что она показалась мне отвратительным надругательством над моим толом.
– Хорошо, хорошо, – говорил доктор. – Все идет хорошо.
Перед глазами носились кровавые зарницы, они напоминали солнечные лучи, бьющие в плотно закрытые глаза, когда летом пытаешься заснуть под ярким солнцем. Я не думала уже о ребенке, а только о себе, о раздирающей меня боли и о том, держаться ли мне до конца или сдаться уже сейчас. Я боялась, что разорвусь надвое. «Не бойся, – успокаивал меня мой друг критик, который всегда был со мной и как всегда оставался невозмутим. – Никто еще от этого не разрывался надвое».
– Думаю, пора дать вам наркоз, – сказал доктор.
Рядом со мной появился еще какой-то мужчина, я видела край его белого халата.
– Благодарю вас, – сказала я, словно мне предложили билеты в театр. – Это было бы очень хорошо, – уже невнятно пробормотала я. – Только подождите, когда пройдет эта боль…
– Она сейчас пройдет. Все будет хорошо, и вы сейчас уснете.
Пары наркоза показались мягким бархатным покровом, наброшенным на объектив фотокамеры. Объективом была я, а за мной лежала бархатная темнота. И видела зеленые горы и реку, а в ней водяную змейку из голубого стекла, величественно и грациозно подплывающую ко мне. Но я тут же услышала:
– Пора проснуться, у вас родился чудесный сынок.
– Уже? – сказала я. – Как хорошо!
Я видела, как его держали, высоко подняв над тазом – брыкающуюся куклу из ярко-красного атласа с огромным ртом; ее крик заполнил собою всю комнату. Наконец ребенка завернули в одеяльце и подали мне; у него было маленькое обиженное личико, словно у ангелочка, изгнанного из рая.
Ну что же ты, подумала я, что же ты?
Я поцеловала его; он словно и не был моим. Я прикоснулась к его крохотной ручонке и вдруг полюбила его, чей бы он ни был. А потом мне захотелось поцеловать доктора, анестезиолога, акушерку. Меня переполняла гордость.
– Благодарю вас, – сказала я. – Я так благодарна вам, доктор, и вам, сестра. – Я была очень довольна, что не потеряла способности быть вежливой. Я гордилась этим.
Но доктора уже не было, не было и анестезиолога.
– Они ушли завтракать, – сказала сестра.
Мне показалось довольно бессердечным с их стороны тут же побежать завтракать. Я почувствовала разочарование.
Ребенок тоже исчез; я не помнила, как его взяли у меня.
Меня снова отвезли в мою палату. Солнце ярко светило сквозь незамерзшую полоску окна, искрилось и сверкало на замерзших стеклах. Мне принесли чай, и я сделала несколько глотков.
Я подумала о Нэде и внезапно встревожилась – все это время, все эти долгие часы он, должно быть, ужасно волновался и, может быть, не знает до сих пор, что все уже кончилось и у нас есть сын.
И поскольку мне показалось, что рядом никого нет, я изо всех сил крикнула:
– Может, кто-нибудь сообщит моему мужу!
Откуда-то вынырнула голова; передо мной было лицо санитарки, маленькой простоватой девушки в розовом платье.
– Если хотите, я поищу сестру.
Откуда-то появилась сестра.
– Ваш муж уже знает, миссис Скелтон. Я сообщила ему по телефону. Он рад, как щенок о двух хвостах и как только вы хорошенько выспитесь, он навестит вас.
Снова наступила ночь или, может быть, вечер. Я что-то поела, попудрила лицо и причесала волосы. Мое тело казалось странно мягким, плоским и невесомым. Из кухни в конце коридора доносился стук посуды, отвратительный, лезущий в ноздри запах капустной запеканки.
Внезапно на цыпочках, с испуганным видом вошел Нэд. Он совсем не был похож на ликующего щенка о двух хвостах, и я удивилась, что сестре пришло в голову такое сравнение.
– Слава богу. – Он быстро, словно стесняясь, поцеловал меня. – Было страшно?
Я сказала, что не так страшно, чтобы я побоялась повторить еще раз. Он вздрогнул.
– Ни за что на свете.
Я сказала, что если он нажмет кнопку звонка, я попрошу, чтобы принесли ребенка.
– Не сейчас, подожди. – Он крепко сжал мои руки. – О Крис, это было ужасно. Если бы ты знала, что я пережил.
Я напомнила ему избитую остроту о мужьях, страдающих от родов.
– Я боялся, что ты умрешь. Я все-таки разбудил Эмили, я не мог оставаться один.
– Почему я должна была умереть? – Я привела ему статистику смертности от родов.
Он чертыхнулся.
– Смертность очень низкая, – заверила я его.
Он гладил меня по голове. Он только и мог сказать, что рад, что родился мальчик.
Когда принесли все еще крепко спавшего малыша с выбившейся из-под одеяльца светлой прядкой волос, с крохотными ручонками, сложенными под подбородком, Нэд едва взглянул на него.
– Очень мил, очень. Весь в тебя.
Он с трудом дождался, когда сестра унесла ребенка обратно и мы снова остались одни.
Тогда он начал говорить мне о своей любви и просил меня тоже любить его. Нам не повезло вначале, но теперь мы поправим наши дела, мы будем жить лучше, сможем вместе поехать отдохнуть.
Из первого чувства разочарования от того, что он не способен разделить мою любовь к этому крохотному, таинственному мальчугану, спящему в первый день своей жизни где-то вдали от меня, вдруг родилось чувство смутной радости, что ребенок принадлежит только мне и больше никому. И когда Нэд посмотрел на меня глуповато-робким взглядом Дики, не зная, уходить ли ему или еще остаться, я почувствовала к нему нежность более глубокую, чем угасшая любовь. Из кухни больше не доносился стук посуды, лишь, включаясь, гудел холодильник. В этой застывшей легкой тишине мне было приятно, что Нэд рядом и я держу его руку.
Глава XI
Первый сон новорожденного похож на сон путешественника в конце долгого пути – он покоен, глубок и безмятежен. Дитя находится на грани непонятного прошлого и столь же непостижимого будущего; оба распростерли над ним свои крылья. Но когда, отдохнувший, он покидает темноту и тепло воспоминаний, от них остается лишь положение, которое привычно принимает его тельце и сморщенные ручонки, тянущиеся под подбородок, – глаза его уже смотрят в будущее. Каждый день отмечен новыми успехами – это, может быть, всего лишь что-то едва уловимое во взгляде, или звук, такой тихий, что его едва расслышишь, движение пальцев, учащихся хватать, но еще не знающих, где найти предметы, за которые можно крепко уцепиться.
Как зачарованная, я следила, как менялся Марк (так мы назвали нашего сына), и готова была смотреть на него, не отрываясь, забывая о времени. Я хотела, чтобы Нэд видел, как бесконечно разнообразен был в сущности каждый день и как он отличался от другого. Но Нэд ничего не видел.
– Мне он понравится потом, когда подрастет, начнет говорить и хоть немножко ходить. Сейчас он просто клякса.
Это должно было звучать как шутка, но она приводила меня в отчаяние. Мне хотелось, чтобы он разделял со мной это новое состояние необыкновенных открытий, чтобы он подтверждал мои наблюдения, убеждал меня, что все это действительно так, а не мое воображение, что не только ежедневно, но ежечасно совершается процесс приближения к сознательному. Но Нэд не был способен на это. После долгого добровольного воздержания я снова была ему нужна. Пока я купала, кормила и укладывала ребенка спать, он нервничал и злился. Он хотел быть со мной, только со мной, так, словно у него и не было сына. Он с нетерпением ждал, когда я поправлюсь и снова смогу быть ему женой.
Нянька, жившая у нас первый месяц после моего возвращения из больницы, приводила его в бешенство. Это была огромная, усатая, умеренно болтливая особа, прекрасно справлявшаяся со своими обязанностями и откровенно презиравшая всех мужчин.
– Я буду чертовски рад, когда она наконец уберется отсюда, – сказал он, когда мы вместе следили из окна, как она выкатывает коляску с ребенком в садик перед домом. – Боже, как я буду счастлив, когда в последний раз увижу ее спину.
– А я нет, – ответила я, ибо все еще была слаба и с ужасом думала о том времени, когда все заботы о ребенке лягут на мои плечи.
Нэд как-то странно посмотрел на меня.
– Хочешь, я тебе скажу, почему ты против.
Я сказала, что это ясно без всяких объяснений.
– Нет, не ясно, – сказал Нэд, и лицо его вспыхнуло. – Но крайней мере постороннему человеку. Мне, конечно, все ясно.
Все, что он потом сказал, поразило и ошеломило меня. Как бы мы ни знали человека, мы никогда не угадаем, какую странную обиду он может носить в себе, какие пытки терпит, терзаемый подозрением. Иногда трудно понять, что толкает человека на разрушения, пока все, что накопилось в нем, не прорвется наружу в неосторожных словах, выдавая его с головой и бесповоротно изменяя наше представление о нем. Нэд заявил мне, что отлично понимает, почему я уклоняюсь от близости с ним. Потому что няньке противна сама мысль о близких отношениях между мужчиной и женщиной, она ненавидит ее и всем своим существом восстает против нее. С присущей мне чрезмерной деликатностью – по отношению к другим, но не к нему – я не соглашусь быть ему женой, пока нянька в доме. Он уверен в этом и читает это по моим глазам.
– Но не прошло еще и пяти недель! – запротестовала я. Я не знала, как еще оградить себя от этих чудовищных обвинений.








