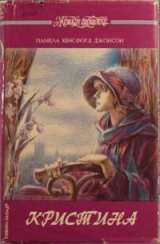
Текст книги "Кристина"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
– Где бы я мог позавтракать? – спросил он.
Это был пустячный вопрос. Я назвала ему три-четыре шикарных ресторана, посещаемых американцами его круга.
– А где завтракаете вы?
– О, где придется, – ответила я.
– А не мог бы я составить вам компанию?
Это был мой первый миллионер, и он приглашал меня завтракать.
И меня вдруг обуяла совершенно неприличная жадность. Если я буду завтракать с миллионером, я смогу заказать себе все, что захочу. Я не пойду с ним туда, куда хожу обычно, а обязательно туда, куда ходят такие, как он.
– О, вам там не понравится.
– Понимаю. А почему?
– Это кафетерии для бедных девушек из контор.
– Которые называются?..
Я не поняла его.
– Я спрашиваю, как называются эти кафетерии? – пояснил он.
– Они вам все равно не понравятся, – упрямо твердила я, а сама поглядывала на дверь: каждую минуту мог войти мистер Фосетт или Хэттон.
– Так вы не откажетесь позавтракать со мной?
Я не знала, что ему ответить.
– Я не опасен. Ну так как же?
– Собственно, я не возражаю, но…
– В таком случае, куда мы пойдем?
– На Джермин-стрит есть ресторан «Монсиньор», – выпалила я с бьющимся сердцем.
– Что ж, пусть будет «Монсиньор». Когда вы сможете освободиться?
– Только в час дня.
– Мне зайти за вами?
Нет, сказала я, лучше, если мы с ним где-нибудь встретимся.
Я не боялась, что мистер Фосетт запретит мне это; мы должны были в пределах разумного удовлетворять капризы клиентов класса А. Но мистер Фосетт заставил бы Хэттона следовать за мной как тень, постоянно маячить перед моими глазами (как некая граница дозволенного) и доставить меня затем обратно в контору. А мне хотелось без свидетелей насладиться этим необычайным приключением.
Но мистер Дьюи едва ли поймет это, ибо не знает наших порядков.
Однако он понял.
– Итак, я жду вас у «Монсиньора» после часу дня.
В это время в контору вошел Хэттон в фуражке, плотно надвинутой на ярко-рыжую шевелюру; губы его были сложены в беззвучном свисте. Мистер Дьюи поспешил откланяться.
Хэттон бросил мне пачку «Голдфлейк», в которой было ровно десять сигарет, и протянул руку ладонью вверх. Это означало, что он снова выиграл их в дротик в Пассаже на Ковентри-стрит. Сигареты обошлись ему в три пенса, а он охотно уступал мне их за пять. Так мне еженедельно удавалось сэкономить несколько пенсов, ибо Хэттон был чемпионом по метанию дротика в пригороде Лейтонстон, где жил.
– Кто это приходил?
Я сказала ему.
– Оплатила чек? Подсчитала правильно?
– О, это было совсем не трудно, – с достоинством ответила я.
– Привыкаешь? – Он взглянул на пол. – Кто устроил эту свалку?
Я с горечью рассказала ему, как мистер Бэйнард решил занять мое время.
– Этот сопливый… – В моем присутствии Хэттон не позволял себе вслух более сильных ругательств, однако его губы безмолвно произносили слова, в значении которых едва ли можно было ошибиться. – А ну-ка отойди, я помогу.
Мы с Хэттоном были друзья.
Он был не глуп, не хуже мистера Бэйнарда знал дела в конторе, считал на арифмометре (которого не имел права даже касаться) быстрее всех и обладал таким же даром, как я и мисс Розоман, по виду распознавать клиентов и направлять их в соответствующие отели.
Зайдя за барьер, он окинул быстрым взглядом те ящики, которые случайно остались в шкафу. В десять минут все карточки уже были на месте, расставленные в безукоризненном порядке от А до Я – зеленью для наших постоянных клиентов, розовые для новичков, синие для клиентов, о прибытии которых нас известили, но которых мы пока еще не видели.
– А если он снова вздумает проделать это, я не побоюсь дать ему здоровенного пинка в зад. – Эти слова Хэттон бросил на ходу, отправляясь в свои владения. Конечно, он знал, что никогда не сделает этого, но ему доставляло удовольствие думать, что он на это способен. Затем я услышала, как он возится в своей каморке со щетками и пылесосом и напевает свою любимую песенку:
Рано утром поднимайся,
За работу принимайся…
Глава X
Время приближалось к часу, и я уже начала жалеть, что так безрассудно согласилась пойти с мистером Дьюи в ресторан «Монсиньор».
Прежде всего я просто трусила. А что, если он дурной человек? Он может сделать мне гнусное предложение. Поскольку мне еще никогда никто не делал гнусных предложений, я не знала, как мне вести себя в подобных случаях. Я была достаточно взрослой и, конечно, не думала, что он подсыплет мне снотворного в стакан в таком знаменитом и фешенебельном ресторане, как «Монсиньор» (по мнению тети Эмили, именно так поступают все дурные люди); однако я боялась, что могу оказаться настолько безвольной, что соглашусь зайти потом в его номер, если он вдруг попросит меня об этом. Простая добросовестность заставит меня сделать это, если я вдруг пообещаю.
Но гораздо больше, чем эти смутные и неясные страхи, меня мучила мысль о том, что я могу оскандалиться перед мистером Дьюи в присутствии официантов. Дело в том, что в течение двух недель я как-то все забывала зашить огромную прореху на подкладке моего пальто, и теперь она протянулась от проймы до самого подола. Удастся ли мне не снимать пальто, как бы жарко в ресторане ни было? Я могу сказать, что просто ненормально чувствительна к холоду. Это покажется интересным, даже оригинальным, в зависимости от того, конечно, какая будет температура в ресторане. Во всяком случае, ни за что на свете мистер Дьюи не должен догадаться об истинной причине. Я даже содрогнулась, представив, как на позолоченной спинке стула, у всех на виду, лежит мое пальто с длинной и извилистой, как змея, прорехой на подкладке. Я уже видела, как прячут улыбки официанты, прикрывая рот тонкими ухоженными руками. Я видела лицо мистера Дьюи, пытающегося скрыть презрительную усмешку. Что бы ни случилось, я не должна снимать пальто.
Без десяти минут час я была уже в таком состоянии, что у меня дрожали ноги. А тут еще как назло мистер Бэйнард не возвращался. Наконец, в десять минут второго он вошел в контору и небрежно извинился. Я торопливо доложила ему о том, что произошло в его отсутствие. Затем, поспешно напудрив нос, я кое-как нахлобучила шляпку и, сунув руки в рукава своего злополучного пальто, побежала по Нижней Риджент-стрит к «Монсиньору».
Он ждал меня (как я молила бога, чтобы, отчаявшись, он ушел!), спокойный и приветливый, словно мы с ним были давние друзья и я пришла ровно в назначенный час.
Он даже не стал слушать моих извинений.
– Вы пришли, и это главное, – успокоил он меня.
Я не знала, что обеденный зал ресторана находится в подвале. Когда он ввел меня в маленькую кабину лифта, спрятанную за решеткой из позолоченных чугунных гирлянд, мне показалось, что я спускаюсь в преисподнюю. Я не могла вымолвить ни слова, и колени у меня подкашивались.
– Как вас зовут, кроме Джексон? – спросил он, когда мы шли сквозь жаркое золотистое марево зала, лавируя между столиками, украшенными букетами роз, гвоздик, лилий.
Я сказала.
– Какое красивое имя! – воскликнул он. – Такое красивое, что мне, пожалуй, совсем не надо звать вас Энди, что я непременно бы сделал, если бы вас вдруг звали мисс Ефимия Джексон.
Я была слишком парализована страхом, чтобы понимать даже простые шутки. Я сообразила, что он шутит, однако это лишь усугубило мое замешательство, ибо теперь я боялась, что, поскольку я лишь слабо хихикнула в ответ, он сочтет, что я совсем лишена чувства юмора.
Вдруг я увидела узкое византийское лицо и две худые руки, сложенные словно для молитвы. Они ясно возникли передо мной из застилавшего все тумана: они чего-то хотели.
– Ваше пальто, мадам? – пробормотало лицо.
Четким голосом, обращаясь к мистеру Дьюи, я сказала:
– Я не буду снимать пальто. Я ужасно боюсь холода.
Воцарилось довольно продолжительное молчание, во время которого я вдруг ощутила, что температура в зале не уступает температуре турецких бань.
– Вы уверены, что не хотите снять пальто? – спросил мистер Дьюи тоном неподдельного изумления.
– Я так привыкла, – ответила я. – Даже дома я часто не снимаю его.
– Понимаю, – сказал он.
Он заказал все сам; да я и не смогла бы помочь ему в этом. Я не знала и десятой доли тех блюд, что были указаны в огромной карте меню. Для меня он заказал сухое мартини, которого я никогда прежде не пробовала. Я сразу же почувствовала себя гораздо лучше и вместе с тем намного хуже. Теперь я могла говорить, и я говорила, но мне было так невыносимо жарко, что я с ужасом думала: сейчас откроется мой обман, ибо мое лицо будет сверкать от пота.
– Вы уверены, что вам не жарко? – снова заботливо спросил мистер Дьюи.
– Что вы! Только сейчас я начинаю отогреваться. Я чувствую себя превосходно.
Я отпила большой глоток от второго бокала мартини, который был заказан без моего ведома, и тут же почувствовала, что на лице выступают капли пота, щеки покрываются влажным глянцем, а из-под шляпки вот-вот побегут ручейки.
– Я не знаю, в чем тут дело, но, мне кажется, абсолютно необходимо сейчас же освободить вас от этой штуки, – решительным тоном вдруг заявил мой спутник, и не успела я опомниться, как мое пальто уже лежало на спинке стула. Я вскочила как ужаленная и поспешно перевернула пальто подкладкой вниз; затем, усевшись, я как можно плотнее прижала его к спинке стула.
– Так в чем же дело? – спросил мистер Дьюи.
– Подкладка разорвана! – выпалила я и посмотрела ему прямо в глаза.
Он тоже смотрел на меня.
– О Кристина! – воскликнул он. – Какой вы еще ребенок!
После этого все было чудесно; а когда наконец он сделал мне предложение, которого я так боялась, я совсем не испугалась, а, наоборот, была польщена. Ибо оно как нельзя лучше отвечало моим самым смелым, самым романтическим мечтам. Он собирался провести конец недели в Париже и хотел, чтобы я поехала с ним. Ему кажется, мы чудесно проведем время.
Очень вежливо я ответила, что с удовольствием поехала бы с ним, если бы была уверена, что мой отец одобрит это.
– Вы хотите сказать, – заметил мистер Дьюи, – что это не совсем в ваших правилах?
– Боюсь, что да.
– В таком случае, вы еще успеете побывать в Париже. Я же многое потерял, – сказал он с милой улыбкой и накрыл ладонью мою руку. – Прошу простить меня.
Больше он ничего не предлагал мне (чем несколько разочаровал меня), однако, когда мы снова вошли в лифт, чтобы вернуться в мир реального, на глазах у мальчишки-лифтера он обнял и поцеловал меня, сначала в обе щеки, а потом в губы.
– Завтра я покидаю Лондон, – сказал он, когда мы медленно шли по Пикадилли. – Потом – на «Иль де Франс»[15] и домой. А там видно будет. Хотите, я куплю вам цветы?
Я просто не знала, что ответить. Мне казалось, он и без того сделал для меня много, даже слишком много. Я не привыкла к спиртным напиткам и знала, что перед мистером Бэйнардом придется двигаться с осторожностью.
Мистер Дьюи остановился перед старой цветочницей с лотком гардений, лепестки которых напоминали белую лайковую кожу, а листья были зелеными, как изумруд.
– Мне кажется, я должен купить вам эти цветы, – сказал он и добавил, обращаясь к цветочнице: – Я возьму дюжину.
Дюжину по полкроны за штуку!
Он сунул мне в руки охапку цветов.
– Я не могу взять их, – запротестовала я.
– Но они уже ваши. Проводить вас?
Я попросила его не делать этого.
– Мне было хорошо с вами, Кристина. Благодарю вас.
И он дружески подтолкнул меня вперед по тротуару.
Захмелевшая от счастья и выпитого вина, все еще со стыдом вспоминая инцидент с пальто, подавленная мыслью о резком контрасте между чудесным, несколько пугающим раем, в котором я только что побывала (и откуда с облегчением вырвалась), и неприглядной пустотой, которая ждет меня в конторе, я медленно брела по площади Ватерлоо, огибая памятник героям Крымской войны, который сзади напоминал неопрятную постоялицу меблированных комнат в папильотках и ночном капоте. Я смотрела на букет у меня в руках. Как я объясню это мистеру Бэйнарду? Что он подумает? Что подумает мистер Фосетт?
Я просто не знала, что делать. Как мне избавиться от этих цветов? Одна гардения уже пожелтела по краям, словно опаленная огнем. Я не могла бросить их в водосточную канаву, на это сразу же обратят внимание. Отдать их какому-нибудь прохожему, или нищему, или ребенку? Но подходящие люди не попадались мне навстречу, а часы уже показывали двадцать пять минут третьего.
Оставался лишь один выход. В душе молясь, чтобы прохожие подумали, будто мой прадед погиб под Инкерманом, я почтительно приблизилась к памятнику, на мгновение склонила голову и, церемонно опустившись на колено, положила букет у подножия, а затем, словно за мной гналась стая волков, пустилась бежать в контору.
Мистер Бэйнард холодно встретил меня.
– Вам известно, что вы опоздали на десять минут? Младшим служащим полагается завтракать час, но не больше. Да, вас кто-то спрашивал по телефону. Какой-то мистер Скелтон. Не будете ли вы любезны впредь предупреждать наших друзей, чтобы они не звонили вам в контору по личным делам?
Глава XI
– Он будет еще звонить?
– Не знаю, не спрашивал, – буркнул мистер Бэйнард. Он уже чувствовал приближение очередного насморка. – Не интересовался! – злобно рявкнул он, за секунду до того как мучительно расчихался.
Я тихонько села за свой стол, не желая вызывать еще больший гнев на свою голову, – я мечтала, чтобы из нее как можно скорее выветрился хмель. Я попыталась разобраться в том, что произошло со мной сегодня. С замиранием сердца я думала о Нэде Скелтоне, хотя это не было возвращением моего первого бурного чувства. Я с трудом могла вспомнить, как он выглядит, – восемь месяцев немалый срок. Время после обеда тянулось медленно, и вскоре я устала вздрагивать от каждого телефонного звонка. День клонился к вечеру. Длинной полосой опустился туман, оставив различимыми лишь первые ряды деревьев в Сент-Джеймском парке. На фоне желтой ваты тумана они стояли неподвижные и словно отлитые из чугуна.
В четверть шестого раздался его звонок. К счастью, я была одна в комнате, заканчивая письма, которые в последнюю минуту продиктовал мне мистер Фосетт. Мистер Бэйнард, ища спасения от насморка, ровно в пять нахлобучил шляпу и поплелся сквозь туман домой.
– Я не уверен, помните ли вы меня, – услышала я голос, который никогда бы не узнала, если бы не была предупреждена. – Мы познакомились на танцах. Вчера, играя в клубе в скуош[16], я встретил вашего приятеля Виктора. Он сказал мне, где вы работаете. – Голос умолк, словно ждал ответа.
Наконец я пролепетала в трубку, что очень рада.
– Не согласитесь ли вы покататься со мной на машине. Не сегодня, конечно, учитывая погоду.
– С удовольствием.
– В таком случае я еще позвоню вам.
– Это не совсем удобно.
– Понимаю. Тогда дайте мне ваш адрес. У вас дома есть телефон?
Узнав, что нет, он небрежно выразил свое сожаление. Обычно он лишь в последнюю минуту знает, будет ли свободен. Диктуя ему адрес, я почувствовала, как задета моя гордость. Почему он говорит со мной таким уверенным, таким деловым и странным тоном? Он напомнил мне мистера Бэйнарда, разговаривающего с младшими служащими. Поэтому я сказала:
– Я тоже не всегда располагаю своим временем и не всегда знаю, когда буду свободна.
– Вы освободитесь для меня, – сказал Нэд Скелтон, – я позабочусь об этом.
Он повесил трубку. Разговор этот оставил чувство беспокойства и неудовлетворенности. Меня охватила тревога, зашевелились забытые надежды. Мне же совсем не хотелось, чтобы они снова подняли голову.
Я становилась взрослой и твердо решила покончить с глупыми мечтами. Зачем он беспокоит меня своими звонками, да еще так, словно бы уверен, что я сижу и жду их? У меня только что было свидание с миллионером. Точно в сказке, я получила в подарок букет из двенадцати гардений. Жаль, что он не знает этого, не понимает, что именно со мной это может случиться.
Я сложила аккуратной стопкой письма, положив на каждое конверт, и понесла их мистеру Фосетту на подпись.
Мистер Фосетт шумно вздохнул.
– Я задержал вас, мисс Джексон. Бегите-ка домой, а то будет трудно добираться. О-хо-хо!
Я действительно с трудом добралась домой, ибо туман сгустился и автобусы двигались по Пикадилли не быстрее пешеходов. Уличные фонари едва пробивали густую мглу, и в словно разделенных на отдельные нити полосах света клубился и полз туман. Тускло светились витрины, и даже сверкающие огни за окнами уютных клубов казались горстью круглых, без блеска рубинов. Густой удушливый воздух и выпитые бокалы мартини вызвали одну из тех жестоких головных болей, которые волей-неволей заставляют оценивать все лишь с точки зрения трезвого разума. Я знала, что мой миллионер уже забыл меня, и каким бы ярким воспоминанием он ни остался в моей жизни, в его я пройду лишь бледной тенью. Я знала, что мне не хочется видеть Нэда Скелтона, что он груб и наверняка недобр.
Мне было все равно, позвонит ли он еще или нет; мне даже не хотелось, чтобы он мне писал.
По крайней мере мне не хотелось этого тогда. Но в последующие недели, когда дни шли, а вестей от него не было, беспокойство снова овладело мною, вернулось прежнее лихорадочное состояние. Словно в тревожном, полном галлюцинаций сне мне виделось мое будущее, и я с тоской тянулась к нему. Я была неспокойна и несчастна.
Когда же наконец пришло его письмо, я была вынуждена отказаться от встречи, ибо умер мой отец.
Однажды ночью за неделю до рождества, очнувшись от странного тревожного сна, он тронул Эмили за плечо и сказал каким-то чужим голосом:
– Я спущусь вниз, старина.
Эмили устала за день, и он прервал ее крепкий сон. Сквозь дремоту она подумала, что голос у него какой-то странный, да и разбудил он ее в сущности из-за такого пустяка. Она снова уснула. Спустя какое-то время, проснувшись и решив, что уже рассвет, она протянула руку и вдруг обнаружила, что отца нет рядом. Сон мгновенно оставил ее. Вскочив с постели, она накинула халат и, полная тревожных предчувствий, выбежала на лестницу. Ее часы показывали всего половину второго. Ей казалось, что, когда отец разбудил ее, был час ночи: возможно, она слышала бой часов на соседней церкви. Но даже полчаса было слишком много для его отсутствия. Спускаясь по лестнице, она начала дрожать.
Затем она увидела его в конце коридора: он шел, шатаясь, словно пьяный. Она увидела его потому, что свет уличного фонаря падал в круглое лестничное окно. Посмотрев на нее, отец спросил:
– Зачем ты здесь, старина? – А затем перед нею уже был чужой человек, ибо страшная гримаса исказила его лицо так, словно он решил в шутку напугать ее. – Старина… – снова промолвил он и упал к ее ногам.
Она закричала. Я спала так крепко, что не слышала ее крика. Она опустилась возле него, положила его голову к себе на колени, гладила его мокрый от испарины лоб, звала его по имени, целовала, кричала на него в гневе и безумном страхе. Она лихорадочно пыталась нащупать пульс, но пульса не было.
Все это она потом рассказала мне.
Я помню лишь, как увидела ее у своей постели, как даже в такую минуту она осторожно, шепотом, чтобы не напугать, будила меня:
– Кристина, твой отец… Ему плохо.
В памяти остались кошмарные минуты, как вслед за нею я спустилась в ярко освещенный холл и впервые увидела смерть; как, наспех накинув пальто, бежала по морозным улицам в поисках врача. А потом было то, о чем трудно писать, ибо в этом нет ничего нового, что бывает всегда, когда в дом нежданно входит смерть, – обычный ритуал, но для близких тягостный, невыносимый.
Больное сердце, заставившее отца покинуть Африку, сердце, которое в последние годы было постоянным предметом его забот, отказало – оно взбунтовалось, рванулось в последний раз и остановилось.
Два дня Эмили была словно окаменевшей. Этой простодушной, недалекой маленькой женщине плохо шла трагическая роль; но она любила с неистовым упорством и самоотречением – вся ее жизнь была в моем отце. Она хотела бы умереть вместе с ним. Несколько раз я заставала ее в каком-нибудь темном уголке в странной позе, с аккуратно сложенными на коленях руками. Она, очевидно, старалась задержать дыхание; грудь ее не вздымалась, глаза были широко открыты, и взгляд их устремлен в пустоту. Лицо ее покрывалось густой краской, пока щеки не начинали напоминать увядшие лепестки темно-красной розы. Затем, не выдержав, она с шумом выдыхала воздух. Мне кажется, она тешила себя нелепой надеждой, что так ей удастся умереть.
Она спокойно перенесла формальности и необходимые хлопоты. Но когда пришло время выносить гроб, она вцепилась в него своими крохотными сухими ручками, так что они побелели от напряжения, закрыла глаза и сложила губы в обиженную детскую гримасу. Я пыталась уговорить ее; но она ничего не слышала. Она только один раз сказала:
– Если я буду держать его, они не отнимут его у меня. Он не уйдет от нас. Я не отпущу его.
Все были в отчаянии. Время шло. Эмили своим телом прикрывала гроб, крепко обхватив его руками, и молчала. Наконец она широко открыла глаза, оглянулась вокруг, разжала руки и поднялась. С недоумением поглядев на свои руки с красными полосами там, где в них врезались острые края гроба, она пролепетала что-то похожее на извинения и вышла из комнаты.
Глава XII
Прошли похороны. На окнах снова были подняты шторы. Погода была мягкой для декабря, и весь день неярко светило солнце. Эмили бесшумно двигалась по дому, хлопоча по хозяйству. Как-то сам собой установился распорядок нашей жизни. Эмили предложила мне снова приглашать друзей на прежние вечеринки; однако дни танцев прошли. Мы вели натянутые беседы за чашкой чая, и мои друзья каждый раз вдруг вспоминали, что им надо пораньше вернуться домой.
Неожиданно Эмили придумала для нас игру. И хотя, мне кажется, мы все понимали, что эта игра была недостойной и глупой, она невольно увлекла нас и мы уже не смогли вырваться из ее плена. С этой игрой было связано сознание чего-то недозволенного. Мне казалось, что мои друзья входят в мой дом крадучись, волнуясь и в известной степени стыдясь.
В эту игру играют перевернутым низким бокалом без ножки, установив его в круге вырезанных из картона букв. Играющие касаются кончиками пальцев дна бокала и пытаются заставить его отвечать на вопросы. И если они достаточно терпеливы, бокал начинает легонько скользить по кругу, от буквы к букве, слагая слова.
Есть две категории играющих (собственно, даже три, если считать и шарлатанов, которых я лично не принимаю в расчет): те, кто не может удержаться от того, чтобы не давить на бокал и таким образом более или менее бессознательно не заставлять его подчиняться их воле; и те, кто пассивен во время игры и кому вследствие этого любой результат кажется неожиданностью, подтверждающей веру в сверхъестественное. Моя тетя Эмили относилась к первой категории, хотя ни за что бы не поверила этому, если бы ей сказали, и отрицала бы это с искренним негодованием, ибо в конце концов бокал всегда делал то, что она хотела.
Она, я и человека три моих друзой (Дики Флинт, иногда Айрис и очень редко помолвленная и несчастная Каролина Фармер) усаживались в освещенной камином столовой, где отблески пламени, взлетая и падая, играли на выцветших моррисовских обоях и отражались в полированных створках буфета. Эмили зажигала свечу, чтобы мы могли видеть буквы, когда бокал начнет сдвигать их с места.
Она восседала на почетном месте за столом, напоминая маленькую деревенскую гадалку, и, вытянув вперед руки, короткими, терпеливыми, легкими, как дыхание, пальцами касалась утолщенного дна всезнающего бокала. Мои друзья (все, за исключением суеверной Айрис) находили ее смешной, но зловещее очарование игры крепко держало их в плену. Иногда бокал двигался, подчиняясь их собственной воле, отвечая каждому на его сокровенные вопросы.
– Кто здесь?
Неуверенное движение бокала по кругу: «ПХАВИ». Воля слишком многих людей давила на бокал одновременно, и это обычно бывало причиной нелепых ответов. Дики несколько хриплым от волнения голосом:
– А-ну, давай, давай, не стесняйся. Кто здесь?
Долгая пауза.
«ОДРИ».
Так звали новую подругу Дики. Айрис с испуганным смехом:
– Одри, ты действительно любишь его?
Бокал: «ЧУТЬ-ЧУТЬ».
Дики:
– Не больше?
Бокал: «ЧУТЬ-ЧУТЬ, ДИКИ ПЛОХОЙ».
И все в таком духе.
Но обычно бокал передавал Эмили странно торжественные и совсем непохожие на моего отца послания от него. Ему хорошо в стране цветов. Жаркое солнце. Птички.
– Африка, – шептала Эмили, и слезы блестели на ее щеках.
– Ты в Африке, милый? «ДА».
– Ты думаешь обо мне и Кристине?
Бокал неожиданно (должно быть, под воздействием моего невольного протеста): «НЕТ».
– О, ты думаешь, я знаю… Дики, дорогой, ты очень сильно нажимаешь. Попробуем еще раз. Ты думаешь обо мне?
Бокал послушно: «ДА». А затем, напугав меня: «ТОЛЬКО НЕ НЭД».
Но в этом тоже, должно быть, была я повинна.
Эти собрания поначалу казались достаточно безобидными – утешение для бедной Эмили и несколько сомнительное развлечение для меня и моих друзей теперь, когда граммофон был заброшен. Но вскоре они начали беспокоить и раздражать меня. Я представила, как иронически и неодобрительно отнесся бы к ним мой отец, будь он жив, как решительно отказался бы участвовать в них.
Для Эмили эти вечера становились чем-то большим, чем утешение, они превратились в навязчивую идею. Весь день она двигалась по дому, словно во сне, смахивая пыль, стряпая, убирая постели, обслуживая тихих и наконец приличных жильцов верхнего этажа; но с наступлением вечера она покрывалась румянцем, напрягалась как струна и становилась беспокойной и говорливой; глаза ее загорались фанатичным огнем.
Был вечер первого января, холодный, мокрый вечер нового года. Мы сидели вокруг стола – Эмили, Каролина и я.
Бокал сразу же начал прыгать с какой-то жуткой резвостью. Это было так заметно, что мне пришлось снова напомнить себе, что я не верю во все это.
– Кто здесь? – Шепот Эмили повис в воздухе, словно дымок от сигареты. Ответ последовал сразу же, продиктованный ее волей: «ГОРАС».
– Горас! Ты хочешь мне что-то сказать?
Бокал споткнулся, замер.
Каролина шепнула мне на ухо (ей не удалось сказать мне этого раньше, ибо не успела она войти в дом, как Эмили сразу же усадила ее за эту ужасную игру):
– Выхожу замуж через месяц. Все будет очень тихо.
– Горас! Ты что-то хочешь сказать мне, дорогой?
И вдруг бокал задвигался, уверенно, как прежде, подталкиваемый мною, хотя я и не сознавала, что мои пальцы нажимают на него.
«ПРЕКРАТИ ЭТУ ЧЕРТОВЩИНУ».
Эмили вскрикнула. Она была так потрясена, что, отпустив бокал, нечаянно задела его пальцем. Он вырвался из круга букв, перелетел через край стола, упал на ковер и, откатившись к каминной решетке, разбился вдребезги. Эмили истерически разрыдалась. Каролина вскочила и зажгла свет. Мы с ней стояли, щурясь от яркого света, чувствуя смущение, неловкость, странный стыд и огромное облегчение.
– Послушайте, миссис Джексон, – промолвила Каролина, – это случайность. Кроме того, это ведь игра. Право, всего лишь игра.
– Я никогда больше не буду играть в нее, – рыдала Эмили, – никогда.
Она оттолкнула нас и, шатаясь, вышла из комнаты. Мы слышали, как она возится на кухне, готовя чай. Стук чайной посуды не мог заглушить ее громкие судорожные всхлипывания. Мы с Каролиной переглянулись.
– Я бы не трогала ее, – сказала Каролина.
На следующий день Эмили была прежней, ровной и безразличной, как всегда.
Три дня спустя пришло письмо от Нэда Скелтона, в котором он выражал уверенность, что мне доставит удовольствие поездка за город в воскресенье. Он не спрашивал, согласна ли я; он просто уведомлял меня, что в половине третьего заедет за мной в машине.
Моя первая мысль была не о Нэде, а о том, что мне надеть. Она заглушила все остальное. Я снова обносилась: за это время мне удалось скопить ничтожно мало. Потратить все на новое платье или на новую шляпку и сумочку? Черный цвет подойдет ко всему, а у меня есть все основания носить черное. (Серого пальто, в котором я ходила на службу, по мнению Эмили, было вполне достаточно для траура. Она не забыла шутливую угрозу отца – если после его смерти она оденется в черное и станет похожей на ворону, его призрак будет преследовать ее. Сознавая, что гораздо лучше чувствовала бы себя в настоящем трауре, Эмили, однако, скрепя сердце, носила коричневый свитер, чтобы умилостивить тень отца.) Что же надеть? У Каролины есть меховая горжетка; если бы она согласилась дать ее мне.
Я показала письмо Эмили, которая прочла его без особого интереса, однако сказала:
– Да, да, поезжай, милая. Ты молода. Ты не должна хоронить себя в этом мертвом доме.
– Да нельзя же все время думать об этом! – запротестовала я, чувствуя, как к сердцу подкрадывается холодок.
– Ну, конечно, дорогая. Это так глупо с моей стороны. Бедный Горас всегда был таким жизнерадостным, не правда ли? Тебе будет полезно проветриться.
Глава XIII
В воскресенье выпал снег. Он лег твердой корочкой из черных и серебряных бисеринок вдоль изгородей из бирючины, прилип белыми лишаями к крышам домов, слежался, твердый как сталь в сточных канавах. Небо было белым и холодным; за ним где-то пряталось солнце, которому так и не суждено было проглянуть.
Убрав со стола обеденную посуду, я поднялась в свою комнату, чтобы переодеться. Каролина дала мне меховую горжетку. У меня была новая черная шляпка. Я чувствовала себя уверенной и взрослой, пока не увидела в окно маленькую, яркую, как божья коровка, спортивную машину, остановившуюся у подъезда. Тут я вдруг растерялась и испугалась. Сердце торопливо застучало. Я знала, что покраснела до неприличия и не смогу теперь поздороваться с Нэдом так, будто ничего не произошло.
Я видела, как он вышел из машины и, не спеша, с присущим ему птичьим изяществом, поднялся на крыльцо. На нем было пальто из верблюжьей шерсти и коричневая фетровая шляпа. У входной двери раздался звонок. «Пусть подождет!» – сказала я себе. Но отдавая себе это категорическое приказание, я уже бежала вниз открывать дверь. На площадке я остановилась, ибо Эмили опередила меня. Она открыла Нэду дверь и что-то сказала ему своим тихим невыразительным голосом. Непринужденно, с улыбкой в голосе он ответил ей и, подняв глаза, увидел меня.
– Хэлло! Кажется, я приехал вовремя. Вы уже готовы.
Мне стоило усилий встретиться с ним глазами. Я увидела, что под тяжелыми веками прячется доброжелательная улыбка, ободряющая, немного лукавая, словно он собирался поделиться со мной какой-то тайной.
– Мы с вашей тетушкой уже познакомились.
– Когда же? – От волнения я потеряла способность соображать.
Он показался мне таким немолодым; он был намного старше всех моих друзей, и честь, которую он мне оказывал, приглашая на прогулку, была слишком велика. Я почувствовала себя до того жалкой, что даже разозлилась на себя за это. И мне вдруг захотелось затеять с ним ссору.








