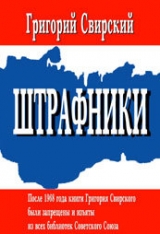
Текст книги "Штрафники"
Автор книги: Григорий Свирский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
Но это я постиг вечером. А днем, во дворе Пустыни, мое лицо по-прежнему выражало недоумение: нельзя водрузить памятные чугунные доски Гоголю и Достоевскому? Какая чушь!..
Конягин объяснил мне терпеливо, нервно похрустывая пальцами:
– Музейные работники, Григорий, вправе заказать таблички. А вот повесить на стену – ни-ни. Это – прерогатива Калужского обкома партии...
Я подумал вдруг, что калужская психушка, кажется, добралась уже до Гоголя с Достоевским. Неужели это может длиться бесконечно?
Конягин взмахнул рукой, сжатой в кулак.
– Оптину пытаются даже из памяти вытравить. Жители Козельска и те ничего толком не знают о ней. Видят за рекой монастырские развалины, в которых копаются какие-то специалисты... А сами гордятся чем, видели? Дурацким птичником из гипса, фламинго своими, как ранее бюстами Сталина. Из того же гипса, между прочим. Гордятся любыми времянками. А за рекой вечная культура России.
В Козельске стоит стрелковая дивизия. Может, корпус. От солдат Оптину прячут, как заразу. Никогда не приводят! Никогда! – воскликнул он с гневом и болью.
Перед нами был человек истово религиозный. Страдающий за мерзость запустения Оптиной Пустыни – духовного центра Руси, ее святая святых...
– Что вы сказали, извините? – Конягин яростно сверкнул желтоватыми белками глаз... – А, вы все свое. Про реставрацию... А что реставрировать, товарищи специалисты? Камни?!
Душу-то народную убили. Веру втоптали в грязь. Духовно Россия сейчас, как мой давний пикировщик, у которого на взлете обрезало моторы. – Он круто повернулся и пошел мимо облупленных, с сырыми подтеками монастырских зданий к реке Жиздре.
Я простился со спутниками и бросился вдогонку.
Как-то вдруг совсем иначе повернулось ко мне все, что я видел на Севере.
Помню, подходит к Кижам, на Онежском озере, теплоход с туристами. Гремят рупора: "Из-за острова на стрежень..." У каждого туриста своя музыка, свой магнитофон или приемник. Спускается человек по сходням, оглушенный. А на оставленном теплоходе, чтоб туристам не было скучно, запускают на полную громкость: "...Приходите свататься, я не стану прятаться..."
На Соловках в Святом озере стирают трусы, носки... Сбиваются компании, кто с кем выпьет, где костер зажечь, разложить закусь. Перекликаются дикими голосами. Кружевной Преображенский собор, вырезанный топором, – сказка XVI века – осматривается на бегу, между делом. Старина – стариной, главное успеть бы выпить и закусить.
Никакого раздумья возле соловецких стен, возле самых древних памятников. Никакого углубления в духовную жизнь...
Как не понять Конягина!
Он шел ходко, размахивая единственной рукой. Я долго не мог его догнать. А когда, запыхавшись, поравнялся с ним, спросил: что за народ я видел за окнами бывшей библиотеки? Реставраторы? Паломники?.. Кто там хозяйничает?
Он усмехнулся.
– Там хозяйничают... – он перечислил несколько часто встречающихся на Руси фамилий, вроде Иванов-Петров, и вдруг выплыло, как из давнего и страшного сна – Цыбулька!..
– Ка-акой Цыбулька?! "Перед кОм стоишь?!"
– Ты что, знал его?.. Энтузиаста?.. Ему и отдана Оптина Пустынь. Главный исполнитель. Старинные ветлы спиливает... Оптину библиотеку заняло его училище трактористов. Ремеслуха.
Я молчал подавленно. Конягин заговорил первым, мы уж к его дому подходили.
– Как людям жить без веры! Может, "подпольные паломники" когда-то и выйдут из подполья? Многие из них ведь на вершинах науки и техники, известные всему миру имена. Бог им в помощь! Я, сколько могу, читаю лекции по истории. Как понимаешь, даю больше, чем сказано в программе...
У двери он остановился, круто повернулся ко мне всем худощавым телом.
– Ты – веришь?.. Ты во что веришь?
– В тебя, Дмитрий Иванович. Ты – мой спаситель. Не ты – лежать бы мне в братской могиле...
–Та-ак!.. Ты правда ко мне приехал специально? Не проездом? Что так?
– Прощаться, Дмитрий Иванович.
– Проща-аться... Я что, прослушал ночью-то? Себя слушал... – Он ссутулился, желтоватые глаза потускнели.
– Понимаю тебя, Григорий. Конь леченый, жид крещеный, вор прощеный. Присловье наше, казацкое. Но живучее... Хоть навесь на себя не токмо что крест, но и вериги, все равно найдется уродина, которая заплюет с головы до ног: "Россию продали!" Я этих, с позволения сказать, христиан знаю. Не из-за них ли уезжаешь?
– Из-за них?! Государство их поддерживает изо всех видов оружия. "Правых – журят, левых – убивают", – говорят в Москве.
– Вот-вот, жидоморов поддерживают, а православных христиан – давят, по тюрьмам гноят, будто преступников каких... – Он открыл дверь, щелкнул выключателем – полыхнула огненным цветом по стенам бывшая новгородская вольница.
– Власть пока не трогает, Дмитрий Иванович, или опять на тебя "особист" нашелся?
Конягин вздохнул. Улыбнулся невесело.
– Мне мать, бывало, говорила в сердцах: "Ты, Дима, углом родился, чтоб о тебя свиньи чесались". А папаня, царство ему небесное, прибавлял неизменно: "Вроде жида какого!"... Большой интернационалист был. Буденновец... Сколько еще чесаться свиньям о нашего брата?!
Я молчал. Он спросил словно вскользь:
– Библиотеку распродаешь или как?
– С собой беру...
– Всю?! Сколько у тебя томов?
– Я от этой России не уезжаю, Дмитрий Иванович. Тем более что большинство ее авторов повесили, сдали в солдаты, прокляли во всех церквах по решению Святейшего Синода, застрелили, вытолкали за границу. Они-то и есть моя Россия. Наверное, не менее, чем ты...
Возле автобусной остановки мы обнялись. Затем он положил свою руку мне на плечо, мол, подожди, не торопись. Опустил руку, постоял несколько минут молча, закрыв глаза и шевеля губами, видно, в молитве.
Старенький автобус гремел издали. Остановился, высаживая кого-то.
Дмитрий Иванович взглянул на меня. Глаза сужены, жестки, и надежда в них, и боль, и тоска.
– Ты веришь в меня, Григорий?.. Говорю тебе, как брату: прорвется родник! Всегда на Руси был хоть глоток свободы. На Пасху, мать рассказывала, колокольни были открыты с самого утра. Первый день Пасхи каждый мог вызванивать, что душе угодно, – на весь город трезвонить, на всю округу. Душа поет, плачет – звони! Первый день Пасхи – свободный звон...
Прорвется!..
Москва – Торонто. 1972, 1986
Из автобиографи писателя Григория Свирского
Вернувшись с войны, попытался рассказать в своей первой книге правду о побоище над Баренцевым морем, на дне которого осталось 300% летных экипажей наших торпедоносцев (Горела во мне пушкинская строка: "Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке"). Когда затем позволил себе коснуться и других аспектов "гуманизма" и мудрости нашего государства, оно принялось за меня без промедления.
Это выглядело порой и так...
На заполярном аэродроме завершалась съемка фильма "Места тут тихие" о летчиках Баренцева моря, сгорающих один за другим в торпедных атаках по кораблям. По сценарию Григория Свирского и режиссера Юрия Щукина ("Искусство кино", 1966 г. N°2)
Но ко времени съемок я публично высказался в Союзе писателей СССР о том, что у всех нас наболело. А печатать не дозволялось...
Это было время крушения и воцарения "генеральных" вождей, "пересменка шила на мыло", как горьковато острили позднее. Еще тлела надежда на поворот к лучшему...
Однако стоило мне упомянуть о бесправии рабочего человека в государстве, назвавшего себя "рабочим", о травле и уничтожении талантов, посмевших коснуться "запретных тем", как было приказано стереть "взбесившегося писателя" в порошок.
Правда, нам дозволили завершить фильм о морской войне, поскольку на него уже истратили семь миллионов рублей...
Режиссер-постановщик тихий и вспыльчивый Юра Щукин, сын "Ленина", – во всех фильмах Михаила Ромма, снимал в те дни массовку – "проход штрафников". Матросов с кораблей переодели в зеленое тряпье и погнали по скалистому берегу. Они ежились от ледяных брызг бешеного прибоя, белая пена шуршала под солдатской "кирзой".
Режиссер вдруг окликнул автора сценария, предложил ему встать в колонну штрафников.
– Ты же, Григорий, как есть, штрафник, – пояснил Юра – В нашей группе единственный настоящий штрафник... Художник по костюмам! – окликнул он женщину костюмера. – Оденьте автора соответственно...
Это – кино. Но кино, за которым костолом. Разбой. Настоящий, не экранный. И потому властью засекреченный...
– Проход штрафников" – снять! – распорядился, посмотрев картину, министр кинематографии товарищ Романов, в войну начальник армейского КГБ "СМЕРШ" ( "Смерть шпионам"), "у нас штрафников не было!.."
Фильм так и не смог выйти на экраны страны, пока измученный режиссер не переписал звуковую дорожку, и герои стали произносить не "штрафбат" (штрафной батальон), а "стройбат" (строительный батальон)...
– ... А писателю, – сказал министр на прощанье, – надо бы понимать... вы допрыгаетесь! Бросить члену Политбюро ЦК в лицо, да еще публично, на весь мир, что Москва, по сути, стравила Кавказ, где ненавидят и нас, и друг друга Обозвать своих руководителей "черной десяткой"... "Родными погромщиками!.." А в своей прозе вы другой? Куда в издательствах смотрели?! Нет ни фразы без издевки: Силантий ваш, каменщик на Ленинском проспекте, темнота, деревня – по вечерам, для развлечения, ходит в суд. А как, по воле автора, дерзит: "В киношку – ни-ни! Кино за деньги, и все неправда, в суде бесплатно, и все правда..."
А ныне и того пуще. Тянете на общесоюзный экран в народные герои зека. Штурмана этого... На чью мельницу льете воду?!. Нет, с вами еще разберутся!.. Разберутся... да, по закону! Строго по закону!
Об этом и многом другом, о жизни в России и на Западе – в девяти моих автобиографических романах и повестях, написанных в изгнании и переведенных на главные европейские языки. Брежневская Москва отлавливала их на границе точно наркотики или оружие. Особо, истерически бдительно – парижское издание романа "ЗАЛОЖНИКИ", романа, можно сказать, "семейного", а затем лондонское – книгу о литературе сопротивления – "НА ЛОБНОМ МЕСТЕ", где, естественно, не мог обойти и кино (ч. V, глава "Разгром киноискусства"); отлавливала "крамолу", вызвавшую на Западе обвал статей и рецензий.
И советское КГБ, увы, достигло своей цели: для молодых поколений России писатель-диссидент Григорий СВИРСКИЙ стал невидимкой. Секретное постановление ЦК КПСС от января 1972 года рассекречено лишь в годы перестройки.
ИЗ ЗАПИСКИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР В ЦК КПСС:
(СЕКРЕТНО ЦК КПСС)
27 января 1972 года.
В Комитет Госбезопасности поступили материалы о провокационных националистических действиях бывшего члена Московской организации Союза писателей РСФСР Свирского Григория Цезаревича, 1921 года рождения.
В январе 1968 года Свирский выступил на партийном собрании Московской писательской организации с клеветническими нападками на политику партии в области литературы. Призывал к представлению полной свободы публиковать порочные и политически вредные произведения. Партийная организация МОСП за антипартийное поведение на собрании исключила его из членов КПСС.
После исключения из партии Свирский предпринимал попытки организовать серию подобных выступлений других писателей. Среди своего окружения высказывал резкую критику в адрес партийно-правительственного руководства СССР по поводу ввода советских войск в Чехословакию.
Учитывая изложенное, а также то, что Свирский продолжает оказывать вредное политическое и идеологическое влияние на свое окружение из числа интеллигенции и молодежи, считаем дальнейшее пребывание Свирского в Советском Союзе нецелесообразным, в связи с чем можно было бы не препятствовать его выезду в Израиль.
С МВД СССР (тов. Шумилин Б. Т.) согласовано.
Просим согласия.
Председатель КГБ: Ю. Андропов
По Секретариату ЦК.
Согласиться:
М. А. Суслов, А. П. Кириленко, П. Н. Демичев, И. В. Капитонов, А. Н. Шелепин, К. Ф. Катушев.
ЦХСД Ф.4. ОП.22.Д.1712.ЛЛ. 12-13.
Впервые опубликовано в журнале "Вопросы Литературы", N°4, 1994 год.
"ШТРАФНИК", Мосфильм, З-е объединение Михаила Ромма. Сценарий Григория Свирского и режиссера Юрия Щукина (Весь текст)
Предисловие автора
Государственная немилость началась с фильма. "Штрафники?!" Министр кинематографии генерал КГБ Романов, как известно, вскричал: – "Штрафников убрать! Штрафников у нас не было." ...Готовому , полностью отснятому фильму ломали руки и ноги. На "узком" – только для труппы – просмотре уже приговоренной, но еще не убитой ленты (просмотр так и назывался "Последнее прости") никогда не забыть, как плакали, обняшись, режиссер Юра Щукин и заслуженный артист Михаил Глузский, игравший штрафника Братнова. Юра не стыдился своих слез, Михаил Глузский, кусая губы, говорил мне: "Григорий, я сыграл десятки ролей, но артисту кино, чтобы остаться в его истории, надо сыграть своего Чапаева. Братнов был моим Чапаевым. А его – по нож..." По счастью, сценарий был уже напечатан в журнале "Искусство кино" (N°2 за 1966 г.). Рабочий заголовок фильма, как и его опасный вариант – "Штрафники", здесь еще ранее заменили названием "ДИКИЕ МЕСТА". На экранах фильм, естественно, был представлен еще более спокойно: "МЕСТА ТУТ ТИХИЕ". Тем не менее, режиссер фильма Юрий Щукин, создавший трагическую и, вместе с тем, глубоко поэтическую ленту, был немедленно от работы в кино отстранен. И заплеван угодливой "патриотической" шпаной, всегда клубившейся возле "легких денег". Не знал еще Юра Щукин мудрости Марины Цветаевой, глубоко запретной в те годы: "Каждый поэт – жид!" Не привык он чувствовать себя нежеланным, отбрасываемым отовсюду "Жидом". Не приготовлен он был к такой судьбе. И хотя позднее его почти простили, дали чем-то заняться: Юра Щукин был единственным сыном "Ленина" во всех фильмах Михаила Ромма, нельзя же его, в самом деле, росчерком пера – на помойку?! Тем не менее, он, подлинный талант и, как многие таланты, человек уязвимый, глума министерских чиновников-гебистов не вынес и – вскоре умер. Все детали и обстоятельства этого преступления чиновников от "ГБ-"искусства" подробно изложены в моей книге "НА ЛОБНОМ МЕСТЕ. Литература нравственного сопротивления 1946-86 г.г." Здесь мы остановимся только на самом "факте убийства", как говорят о подобном милицейские дознаватели. Убили?! За что?
Светлой памяти режиссера Юрия Щукина
Григорий СВИРСКИЙ
Юрий ЩУКИН
Флагштурман Александр Ильич, ШТРАФНИК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Летчикам Заполярья, воевавшим на колесных машинах
над ледяным Баренцовым морем,
которым так и не довелось узнать, что они
Герои Советского Союза:
СЫРОМЯТНИКОВУ Борису Павловичу,
ЛАПШЕНКОВУ Семену Васильевичу.
СКНАРЕВУ Александру Ильичу флаг-штурману.
И товарищам их, не вернувшимся на землю.
1
Заполярье.
Вдоль скалы идет человек. Его внимание не привлекают ни черные воды залива, ни розовые заросли иван-чая в расщелинах скал, ни даже гнездовья полярных птиц, выпархивающих прямо из-под его ног. Казалось, даже это странное ощущение края земли, с его прозрачными и бескрайними далями, ощущение "конца света", которое охватывает каждого попавшего в эти места, чуждо ему, хотя похоже, приехал он только что: он шел с чемоданчиком, опираясь на палку.
Вот он остановился, внимательно разглядывая что-то, только ему понятное; и вместе с ним и мы начинаем угадывать в розовых зарослях обомшелое и какое-то скрюченное железо, а затем и очертания разбитого дота...
Человек пошел дальше. Еще раз остановился на секунду – возле воронки, залитой бурой болотной водой...
Внезапно далекий гул самолета...
– "Ту-114"!.. – Это авторитетно, со знанием дела разъяснил приезжему мальчишка, собиравший на сопке грибы. Он глядел на небо: там, высоко над заливом, шел пассажирский самолет... – На Кубу идет!.. Самого Фиделя Кастро привез, теперь обратно...
– Что?.. – рассеянно спросил приезжий, мельком взглянув вслед самолету. Он свернул за скалу, перебрался через канаву и штабеля железобетонных мачт и наконец оказался на каменистом "пятачке", у какого-то заборчика... – Наконец. подошел к самодельному памятнику – сколько раскидано таких по России! Деревянный, выкрашенный почему-то синей краской обелиск, хоть и подновляли его, не выстоял перед временем, и ветрами покоробился, да и буквы поистерлись...
К ограде памятника, выкрашенной в тот же синий цвет, была кем-то привязана на длинной веревке коза. Она деловито пощипывала мох.
Приезжий чуть усмехнулся, минуту постоял возле обелиска, затем устало присел на валун, закурил. Задумался...
Еще видно на экране лицо приезжего, а мы уже как бы вместе с ним слышим дальний звон, точно звон деревенского набата, и... популярный довоенный мотивчик.Его выводит издалека, словно из глубин России, гармоника. Слов мы не слышим. Но многие помнят эти слова: "Если завтра война, если завтра в поход..."
Бодрится гармоника.
А на экране – торжествующая немецкая кинохроника.
Черные кресты на крыльях немецких бомбардировщиков. Командующий германским подводным флотом гросс-адмирал Дениц у карты. Адмиральский карандаш жирно перерубает на карте океанские пути в Мурманск.
Гитлеровские подводные лодки, одна за другой, выходят в море. Бородатый немец– капитан у перископа подлодки. Следы торпед на воде...
Английские транспорты раскалываются, горят, погружаются в воду. Тонет английский военно-морской флаг.
Бьет "Большой Бен". Звуки его тоже туманны, неторопливы.
Черчиллю докладывают, видимо, о чем-то чрезвычайном. Черчилль пишет быстро, нервно... Хроника запечатлела и это.
...Москва. Главы кремлевских соборов. Их тоже коснулась война. Пятна камуфляжа на стенах, как раны. И опять, словно из глубин России, из глубин истории, доносится все тот же далекий набат. В ворота Кремля въезжает закамуфлированная "эмка". По коридорам идет адмирал флота Арсений Головко. Вот он в кабинете Верховного Главнокомандующего, стоит навытяжку. К нему обращены негромкие, протяжные слова:
– ...Задача ясна?... Да, и с Черноморья снимаем ...К вам летит все, что можно... Положение чрезвычайное.
Огромное, на весь экран, небо. И в глубине его – две маленькие точки. Всего две. Они приближаются. Это самолеты.
Пошли титры. А под титрами, сквозь облака и дым пожарищ, по-прежнему летят два самолета: над руинами какого-то южного города, над эшелонами с артиллерией, над неубранными хлебами..
Кончились титры. Самолеты уже над тундрой.
Круглое самолетное окошко. Он очень молод, этот смотрящий в окошко паренек и натянутой на уши синей пилотке.
Мы узнаем в нем увиденного только что человека с палочкой, каким он был лет двадцать назад, и слышим его голос:
– Куда летим? Дикие места... – Он отодвинулся от окна, устроился на своем месте поудобнее. – Куда... – Усмехнулся над собой. – Командир-то, конечно, знает, ну, а мне не доложили, сунули в бомболюк, и лети-помалкивай... Я человек в экипаже самый последний. Моторяга. Наземный персонал. Подай – прими! Потому и место мое самое почетное.
Тимофей (так зовут парня) сидит в немыслимой позе: боком, ноги чуть ли не выше головы. Уму непостижимо, как его засунули в эту щель между чемоданами, арбузом и железной стремянкой.
Самолет тряхнуло. Арбуз свалился. Тимофей ударился обо что-то. Голос Тимофея.
– Вот всегда так... Приложишься ко всем этим чертовым бомбодержателям, а потом майор Кабаров удивляется, почему у меня вся морда в кровоподтеках...
Снизу, видимо, дуло. Тимофей приподнялся, поеживаясь, и, подложив под себя шинель, бросил сердитый взгляд в окошко. Внизу стало еще суровее – ни деревца. Тимофей поежился:
– Вот уж точно, широка страна моя родная. Третьи сутки все "Давай–давай! Не задерживайся!" А куда "не задерживайся"?.. Чья-то рука протянула Тимофею шлемофон.
– Ну, как там? – слышим мы в наушниках голос Кабарова. – Жив?
– Порядок, товарищ майор, – едва выдавил из себя окоченевший Тимофей.
– Потерпи, Тимофей. Скоро губа Ваенга. Слышал про такую? Самый северный аэродром, места тут тихие..
И сразу: вой, грохот, вздыбленная земля... Нет, это не земля. Опадает гигантский столб воды. Тысячи птиц взметнулись к небу. И тут же – длинная океанская волна выносит на отлогий пустынный берег сотни убитых чаек...
Снова грохот. И снова все взметнулось вверх: столбы воды, трассы пуль, жерла зениток. Летят в воздух обломки валунов, аэродромных построек, куски автомашин. Черный дым застилает аэродром.
...Опадающая земля накрыла в щели офицеров.
Генерал (стряхнув с фуражки землю). – Где группа Кабарова?
Радист: на подходе! Генерал: – Угораздило их!..
Снова опадающая земля.
Радист. – Кабаров просит посадку!
Генерал: – Что он, с ума сошел?!
...Кабина самолета. Лицо Кабарова.
Кабаров.: – Иду на посадку!.
...Самолет с ласточкой на хвосте входит в густой нефтяной дым и, пробивая его толщу, трудно, на ощупь касается земли, и тут же новый взрыв чуть не перевернул его. Идущего следом ведомого тряхнуло, и он круто ушел вверх.
Генерал (сняв на секунду фуражку). В рубашке родился Кабаров! (Высунулся из щели.) Давайте их сюда!..
Из самолета с ласточкой выпрыгивают Кабаров, Тимофей и остальные члены экипажа, бегут, пригибаясь, по полю, прыгают в щель. Опадающие комья земли накрывает их, вжавшихся в землю...
Генерал: – Почему нарушили приказ? Садились под бомбы?
Кабаров: Кончилось горючее, товарищ генерал!.. Принимайте ведомого.
Неподалеку от Кабарова лежит полузасыпанный Тимофей.
Солдат-радист взглянул на плечо Тимофея, покрытое чем-то красным, и встревоженно:
– Что с тобой, парень? Ранен?
Тимофей, испуганно хватаясь за плечо: – Фу, черт! Арбуз проклятый!.. С самого Новороссийска берег...
Снова взрывы. Взлетная полоса. На глазах от нее не остается ничего: бомбы перепахивают поле. Горит полотно посадочного "Т".
Генерал. – Эх, угораздило вас... Впрочем, когда вы ни прилети, все одно – под бомбы. Тут у нас этот майн либер августин круглые сутки...
Генерал (помедлив и не отрывая взгляда от беспомощно кружащегося самолета), пехотному капитану с расстегнутой кобурой). – Капитан! Ничего не поделаешь, давайте ваших! Только быстрей. Успеете до второго налета?
Капитан пускает ракету и, выскакивая из щели, дает тревожный свисток.
Тимофей выглянул из щели. И вдруг с изумлением увидел: из дымящейся земли, полузасыпанных на краю аэродрома щелей поднялись люди в измятых пехотных шинелях и обмотках. Пригибаясь, кинулись с лопатами туда, к посадочной полосе. Капитан уже метался около гранитного валуна, размахивая руками и крича что-то. Из-за валуна выползли два трактора с вагонетками, груженными камнями, гравием.
Тимофей (матросу с радиостанцией). – Что за пехота?
Тот выглянул из щели, ответил равнодушно: – Штрафники... Грехи замаливают, до первой крови...
– Как так – до первой крови?
– Я же сказал: штрафники. Ну, из тюрем которые. Срок отбывают: кто месяц, кто все три. А зацепит осколком – чист, кровью смыл. Тут им что... лафа! Отсрочка вышла.
С транспорта их сняли... полроты, подсобить, воронки засыпать... А вот через две недели погонят их на Кисловку. Там они нахлебаются, не дай бог...
Вой пикировщика. Фонтанчики пуль по взлетной полосе. Солдаты бросились прочь. Одного из них как срезало.
Прямо на Тимофея бежали двое. Пожилой солдат с лопатой упал возле машины груженной мешками с известью. Его накрыло землей. Тимофей рванулся на помощь. Подбежал, пригибаясь, к засыпанному солдату, взвалил на себя, потащил к щели. Солдата приняло сразу несколько рук.
В щели ему поднесли к губам фляжку, он, отхлебнув, медленно вытер губы. Взглянул на Тимофея, который сидел с закрытыми глазами. Парня отпаивали.
Нарастающий вой бомбы; щель содрогнуласъ. Стало темно: это опадала земля... Отряхиваясь, люди выглянули из щели. Пожилой солдат увидел: на том месте, где он только что лежал, присыпанный землей, зияла черная воронка, а вокруг белым-бело. Это оседала известь из разметанных мешков...
Солдат перевел взгляд иа Тимофея, который начал приходить в себя. Печально улыбнувшись, щелкнул парнишку по носу. Послышался рев моторов.
Голос Кабарова: -Что делаешь, Гонтарь, левее бери! Левее!
Кабаров выскочил из щели навстречу своему ведомому, стараясь показать:
– Левее! – хотя тот, скорее всего, ничего этого не видел.– Ну, чуть... Гонтарь, чуть! Так... порядок! Ну, товарищ генерал, – крикнул он, оглядываясь, – теперь, можно считать, прибыли...
Прозвучал тровожныи свисток. Надев измятую пилотку, пожилой солдат вылез из щели пошел вдоль поля. Неожиданно вслед ему:
– Братнов?!
Это спросил Кабаров. Oн смотрел на пожилого солдата с изумлением и растерянностью.
Солдат оглянулся настороженно:
– Братнов...
– Послушайте, как вы здесь?..
Кабаров шагнул к нему, но подбежал капитан, подтолкнул Братнова в спину: – Давай-давай, родненький, домой-домой. Родненький, домой, все!.. Ушли..
Кабаров смотрит вслед.
И вдруг издали:
– Зацепило! – Молодой солдатик, лицо сияет. Из-под его пилотки кровь. – Зацепило! – солдат словно несет свое окровавленное ухо в руке. Пробежал мимо. Показал ухо. Радостно: – Зацепило! – Исчез.
Кабаров шагнул следом: – Братнов! Подожди! Стой!..
...Дождь. Ветер на стоянке бьет мокрым брезентом по ящикам. Продрогший Тимофей закидывает в люк самолета вещи.
К самолету подходят двое. Кабаров и его ведомый – Гонтарь, в летном комбинезоне.
Кабаров: – Игорь, возьми солдата. – Он показал в сторону, там виднелся кто-то. Ну, до завтра!
Кабаров Тимофею: – Поместитесь вдвоем?
Тичофей оглянулся на подходившего и узнал в нем штрафника Братнова.
Кабаров показал жестом: – Быстрее!
Тимофей и за ним штафник нырнули в бомболюк.
Самолет Гонтаря уходит в ночь. Скрывется над морем. Грохот волн. Ветер...
Голос Тимофея. Странная это была тревога, уходил один самолет. A на стоянке полно штабных... И опять на север. Куда же дальше? Ведь губа Ваенга – самый северный аэродром на всем фронте. У черта на куличках...
Оказывается, последняя точка была здесь...
И сразу – тишина. Утреннее сквозь дымку солнце. Едва слышны шорохи моря.
Маленькая чайка-"солдатик" проверещала, взлетела с гранитного валуна, села у самой воды. Но вдруг, испугавшись чего-то, метнулась в сторону. По каменистому острову от самолета шла группа летчиков. Впереди Гонтарь с походным чемоданчиком, щурясь на солнце и расстегивая на ходу комбинезон. Еще двое офицеров. Позади Тимофей и Братнов, навьюченные поклажей.
Гонтарь (оглядываясь): -Ну, пассажиры, как я вас доставил? Островишко-то... куча камней, окруженная неприятностями. А ни одного синяка!.. Учитесь у Гонтаря сажать машину...
Тимофей. – А интересно, сколько отсюда до материка?
Гонтарь: Tш! Тут, брат, все военная тайна... Где мы? Зачем мы? И как взлететь отсюда – одному богу известно...
Он оглянулся А кругом действительно было таинственно и тихо-тихо. Даже шагов не было слышно: они шли по щиколотку во мху. Казалось, здесь нет ничего. Ни войны. Ни людей. Только блеклые цветы, валуны с прилепившимися грибами. И ленивые шорохи моря...
Издалека к группе бежали вымазанные в масле мотористы.
Гонтарь: – О! Таитяне! Бегут с дарами!..
Но мотористы даров не вручили, промчались мимо, к самолету, видно, закатывать его. Летчики продолжали идти. Тимофей (Братнову): – А вы к нам... насовсем?
Братнов: – Таити... Чайка-то, вон, по песку пошла...
– Что? – не понял Тимофей.
Братнов: – Ничего, родное Заполярье...
Тимофей взглянул на него и замолчал. Теперь они шли молча, утопая во мху и поглядывая на розоватые диковинные заросли иван-чая, на птичьи норы и гнезда. Но вот появилось нечто неожиданное. Бомба. Одна, другая, целый штабель. И вот – по первому плану – маскировочная сеть, а под ней – хвост самолета. Рядом портянки, выстиранные и развешанные на солнышке...
Гонтарь: Знакомый с детства пейзаж...
Навстречу им торопился лейтенант с красной повязкой.
– С прибытием, товарищи! Полковник Фисюк ждет вас.
Летчики свернули к штабной землянке. Внезапно – звук ударов по релыу. Дежурный остановился встревоженно.
Гонтарь: – Налет?
Дежурный: Штормовое предупреждение...
Гонтарь удивленно посмотрел на небо. Оно по-прежнему было чистым. Только вдали, низко над морем, росла темная полоса...
Отовсюду из-под земли-из землянок и капониров – выскакивали люди. Они бежали к своим обычным, по штормовому расписанию местам.
Из штабной землянки выскочил, надевая на бегу кожанку, офицер с седыми бровями, рыхловатый и, несмотря на свою полноту, мчавшийся стремглав, как спортсмен на дистанции. Дежурный шагнул к нему: – Товарищ полковник, вновь прибывшие...
Фисюк: – Потом! Успеем! (Оглядев бегущих.) Немедленно штопора! Прибывшие машины крепить!.. И он помчал к стоянкам самолетов...
Хлестнул ветер, и сразу же, как бывает только в Заполярье, налетели не то снег с градом, не то водяная крутоверть. Баренцово море, вздыбясь, ударило по островку. Стало темно.
– Кре-пи! – донесся сквозь грохот хриплый голос Фисюка.
Первым нашелся Гонтарь. Он швырнул свой чемодан на землю.
– Бегом! – И кинулся к самолетной стоянке, куда ветер нес клочья травы. оборванные цветы, землю. Его чуть не сбила прогрохотавшая мимо пустая бензиновая бочка. Гонтарь перепрыгнул через нее, навалился грудью на рычаг, которым механики, остервенело завинчивали в землю огромный металлический штопор. – Гуляй. ребята! – И надавил плечом на рычаг.
Самолет Гонтаря уже зачалили тросом, потащили к стоянке. Здесь докручивали штопора Братнов с Тимофеем. Ветер хлестал и дико выл. Гонтарь вдруг:
– А бабы тут есть?
– Сдуло!
– Как сдуло?
– Была одна. Зенитчица. В море сдуло...
– Эх, что же вы...
Сорванные сверху мокрые маскировочные сети облепили их. Люди пытались освободиться. К ним бросились помогать. Один из подбежавших, офицер с татарскими скулами, сорвал сеть с Гонтаря и, оказавшись с ним лицом к лицу:
– Игорь? Гонтарь!..
Услышав этот характерный, с акцентом голос, Гонтарь, бросив рычаг, обернулся остолбенело:
– Степа!.. Хант! Целый?.. Во черт! А мы тебя похоронили... Как ты здесь?
– Давай! – крикнул механик.
Гонтарь снова схватился за рычаг, и, навалясь на него: – Откуда ты здесь?
– Из-под Волхова. А ты?..
– Целый.. А? Степка, друг...
Сильнее рев трактора.. И вдруг крик:
– Стой! Стой мать вашу!
Канат, которым тянули самолет, оторвался. Люди упали, и самолет, подхваченный ветром, начал медленно катиться под уклон, к морю.
Тимофей еще издали увидел: какой-то человек вскочил на крыло и забрался в кабину. Это был полковник Фисюк. Подбежав к машине, люди пытались остановить самолет, но хвост его уже навис над обрывом... Летчиков окатило ледяной водой. Раз, другой..
– Выпрыгивай! – истошно крикнули Фисюку. Но Фисюк и головы не повернул. Все еще пытался завести мотор. Тогда Степан кинулся к хвосту самолета, но, поскользнувшись, покатился вниз, волна обдала его... Кто-то отвернулся: гибель самолета и Фисюка казалась неминуемой.
Но тут донесся вскрик Фисюка: – От винта!








