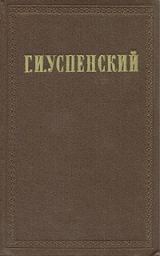
Текст книги "Том 2. Разоренье"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Так и пошла ее райская жизнь.
Избавленная от всяких забот и трудов, Софья Васильевна могла спать, просыпаться, обедать и опять спать: окаменение ее росло и делалось способным воспринять самые раздражающие брюзжания Павла Иваныча, делало их даже незаметными, несмотря на то, что, согласно с беспрестанным наплывом новых явлений, они делались как-то бестолковее и длиннее. Разоренный ум Павла Иваныча, ободренный сначала появлением Софьи Васильевны, с течением времени снова почувствовал потребность подкрепить себя чем-нибудь новым, помимо Софьи Васильевны. Загроможденная железными дорогами, новыми судами, нотариусами и проч., мысль Павла Иваныча выводила его то к необходимости лечиться, ставить банки, пиявки, то к необходимости усерднее прибегнуть к богу и, наконец, совершенно неожиданно для него самого, привела его к убеждению в необходимости построже смотреть за женой. Это было до того ново и до того во власти Павла Иваныча, что ему снова стало покойнее и легче, – если он, возвратившись из должности, шопотом спрашивал кухарку:
– Что моя жена… ничего?
Кухарка передавала об этом барыне; но ей было все равно. Точно так же ей было все равно после того, как Павел Иваныч, в видах нового ободрения самого себя, выказал намерение запирать ее снаружи, упирая дубинкой в дверь, и проч. Она продолжала прозябать, теряла человеческий лик и нрав, теряла с каждым днем даже потребность опрятности, и таким образом получились те результаты райской жизни, которые повергли Надю в величайшее изумление.
3
Раздумывая над положением Софьи Васильевны, Надя постепенно додумалась до того, что Сонечка достойна величайшей жалости. Под влиянием этой мысли она снова отправилась к ней, снова перенесла все эти преграды, слезы, объятия и добилась все-таки того, что увела Софью Васильевну с собою. Больших трудов ей стоило уговорить ее не трепетать и не вздрагивать от уличного шума, который весь и состоял только в том, что какой-то мужик вез куда-то песок; не бросаться в стороны от прохожих, не ахать, хватаясь за грудь, при крике лавочного сидельца и проч. Кое-как, наконец, Софья Васильевна была приведена в дом Черемухиных и обласкана; успокоить ее тревогу относительно того, «что скажет муж», – не было никакой возможности, несмотря на одинаковые старания Черемухиной, Нади и Михаила Иваныча.
– Да что ты, матушка? – уговаривала ее Черемухина: – велика беда – раз из дому в гости ушла!
– Что вы уж очень-то? – успокоивал Михаил Иваныч. – Велика фря!.. Да шут с ним! пущай-кось подумает, не чем кольями-то припирать!
Никакое из подобного рода увещаний не могло хоть на вершок поколебать страха, который вдруг стала чувствовать Софья Васильевна к мужу, не внушавшему ей до сих пор ничего, кроме полного равнодушия. Надя водила ее по саду, по двору, знакомила с хозяевами, показывала людей, спавших за заборами на перинах, и проч. Софья Васильевна как-то вдруг начинала радоваться всему, что ни показывала ей Надя, и тотчас же впадала в уныние.
К концу вечера эти старания сделали то, что вместе со страхом к мужу в сердце Софьи Васильевны воспиталось уже крошечное зерно упрямства; ей уже не хотелось домой; а когда Надя предложила ей остаться и ночевать, говоря насчет Павла Иваныча: «пусть его», то Софья Васильевна только залилась слезами, но в ужас не приходила.
Успокоивая ее, Надя шла с ней из саду и тоже несколько испугалась, встретив кухарку Печкиных, которая за минуту пред этим, запыхавшись, вбежала в ворота.
– Матушка, Софья Васильевна! Пожалуйте скорей домой! – испуганно говорила она. – Павел Иваныч такой сделали шум, такой шум!
И тут испуганным, как говорится, «насмерть» голосом она рассказала, что Павел Иваныч, не найдя дома жены и не зная, где она, распушил ее, кухарку, и хотел тотчас же объявить полиции о розыске сбежавшей с офицером жены. Кухарке нужно было много времени, чтобы убедить барина, что никакого офицера тут не было и в помине, а приходила «барышня». Павел Иваныч никого не слушал, кричал на весь дом: «Барышня, барышня? что мне с барышней? что такое? в чем дело?» и стал бегать по лавкам, рассказывать всем, что «пришел домой, а жены нету», расспрашивал всех: «не видали ли?», заглянул даже в некоторые кабаки и трактиры. Наконец кухарка, благодаря скуке и наблюдательности обитателей тех улиц, по которым Надя и Софья Васильевна достигли дома Черемухиных, отыскала их и требовала немедленного возвращения.
Досада охватила сердце Нади при этом рассказе и при виде убитой фигуры Софьи Васильевны, которую тащат в какую-то берлогу.
– Она не хочет! Она не пойдет! – сказала она кухарке довольно решительно.
– Как это можно не идти? Где это видано! – в ужасе отвечала кухарка. И ее слова были подтверждены хором нескольких зрителей, в числе которых были хозяин, хозяйка и солдат.
– Да она хочет быть здесь! – убеждала Надя публику.
– Мало чего нет? Она хочет тут, а муж хочет там!.. Нет, уж это что же?.. Нет, уж иди!.. Как жена может уйти?.. – говорила публика.
– Он, пожалуй, осерчает да прогонит еще! – прибавила кухарка. – Они вон, Павел Иваныч-то, чаю не пьют без них… Этого нельзя!
– Да он один напейся, разве не все равно? – отстаивала Надя Софью Васильевну.
– Супруг желает, чтобы вместе! Сударушка! – со всем усердием объясняла ей кухарка: – такое его желание, должна же супруга ему сделать по вкусу!
– А она здесь желает быть, должен он ей позволить!
– Матушка! – продолжала кухарка: – такое его желание, чтобы чай с нею… Он так желает… Должна она себя же приневолить!
Толпа подтверждала справедливость рассуждений кухарки. Старушка Черемухина, выглянувшая из комнаты, тоже не была против общего мнения, но высказала это довольно осторожно, сказав «вообще», что, мол, конечно, жаль, а все-таки… Но самое полное доказательство правды этих мнений было внезапное появление самого Павла Иваныча. Он торопливыми шагами направился к жене в самую середину толпы, и вслед за тем из разгневанных уст его полилась дребезжащая и крайне сердитая дичь и чушь.
– Это что такое?.. Что это такое?.. – захлебываясь от усталости и волнения, задребезжал он, глядя на Софью Васильевну: – я чаю не пил! Ведь это, ведь…
– Я с Надей! – едва внятно произнесла Софья Васильевна.
– «С Надей»? – почти вскрикнул Павел Иваныч, выпячивая грудь вперед и растопыривая руки. – Что такое: «с Надей»? Что мне «с Надей»? «С Надей», «с Надей», а я… я чаю не пил!
– Ваша кухарка… – начала было Надя…
– Кухарка! – еще громче вскрикнул Печкин и еще больше качнулся назад. – Что мне кухарка? позвольте вас спросить: что такое кухарка? а между тем… а-а… Ведь это невозможно!
Сердитая чушь, сыпавшаяся из уст Печкина и произносимая довольно громким и крикливым голосом, в соединении с шумными суждениями публики с каждой минутой привлекали все новых зрителей и праздных наблюдателей. Еще две или три минуты, и на дворе Черемухиных собралась бы толпа. Старушка Черемухина, знакомая с нравами захолустьев, поспешила предупредить образование формальной сцены и пригласила Печкиных в комнату. Здесь она объяснила Павлу Иванычу, в чем дело, уговорила его не беспокоиться и затем ласково проводила супругов за ворота. Надя с грустью рассталась с Софьей Васильевной и долго не могла успокоиться насчет того, что значит в руках супруга такое ничтожное обстоятельство, как «я не пил чаю»!
По уходе Печкиных захолустье, разбуженное супружеским вопросом, продолжало обсуждать его, и Надя принимала в этих рассуждениях живейшее участие. Желая уронить в общих глазах значение Павла Иваныча, она высчитала перед хозяйской кухаркой, с которой шли разговоры, все его злодеяния в виде кольев, ворчанья и заключила тем, что если бы ей пришлось с этим человеком пробыть один день, то она бы умерла или уж, по крайней мере, ушла бы прочь.
– И, матушка, – ответила ей кухарка: – ушла! Куды пойдешь-то, посуди сама? Ведь ты дня без супруга-то не продышишь! Повертишься, повертишься на крылечке, да и придешь опять! Кабы вы были простого звания, он бы, муж-то, так-то не привередничал… А то вы благородные: по этому случаю вам надыть исполнять его приказ.
– А простого звания? – спросила Надя: – а ты?
– Я-то? Мой муж этак-то не посмеет… ему не расчет надо мной потехи потешать. Потому он знает, что ежели ему рубь серебром занадобится, я ему дам, помогу из своих трудов, из своих достатков, а ежели он пьян напьется да придет ко мне шуметь, – так я его тоже могу и в часть посадить! Потому я сейчас взяла из своих денег гривенник, дала его будочнику, он его так-то ли прекрасно в часть запрет! Так-то-с!
– Да ведь и он тоже может будочнику дать гривенник?
– С чаво ж не даст? – даст: только ему же хуже… В чужих людях той помочи-добра не сыщешь, что в жене муж, а в муже жена… Мы не допущаем себя до этого… К примеру сказано… А у благородных-то этого нельзя; благородный-то хоть «что хошь» – мудри над женой, ей и будочник помочи не окажет, потому как он барина в часть потащит? Так она и должна себя потрафлять по мужу… Потому ей без мужа не с чем взяться!
Почти то же самое высказывали и другие лица, обсуждавшие этот вопрос: Михаил Иваныч, и солдат, и хозяин, и хозяйка, и во всех их речах непременно упоминалось о каком-то «своем труде», «своих деньгах» как единственных средствах, с помощью которых можно избежать всех этих безобразий.
Вечером Надя долго думала обо всем, что пришлось видеть, и решительно не могла прийти к иному выводу кроме того, что кухарке действительно лучше жить, нежели барыне или барышне.
VI. Все по-старому1
Как ни обстоятельно и ясно Павел Иваныч предъявил свои супружеские права и силу мужниной власти, однако же Надя и Софья Васильевна сошлись друг с другом ближе. Надю к этому побуждало сожаление о горькой участи подруги; Софья Васильевна стремилась к тому же почти буквально ради возможности «дохнуть свежим воздухом». Сближение это отчасти внесло некоторую долю разнообразия в скучную жизнь Нади, ибо благодаря ему против Павла Иваныча была открыта война, занятие, конечно, не особенно интересное; но в том мире, где умеют только покоряться, где не имеют другого дела, кроме подставления собственной спины под удары, и эту войну можно счесть делом. Обе наши подруги принадлежат к провинциальной «толпе», массе; они неразвиты, необразованны и испытывают самые первые, самые ранние симптомы сомнений; и если принять в расчет, что в этой толпе никто никогда не сомневался в том, в чем сомневается Надя, то и война против Павла Иваныча уже шаг вперед. Наперекор его брюзжанью, они стали все чаще и чаще пользоваться его отлучками в должность, послеобеденными снами, для того чтобы уйти из дому куда-нибудь, на что-нибудь посмотреть, посидеть и погулять в черемухинском саду или просто сказать друг другу: «экая скука!» и ждать, пока появится разбешенный Павел Иваныч. Появления его доставляли Наде некоторую долю удовольствия быть злой и чувствовать себя как будто бы самостоятельной, в степени весьма, впрочем, слабой, ибо вся эта самостоятельность состояла в том, что Надя с течением времени приучила себя без страха смотреть в разгневанные глаза Павла Иваныча и тоже без страха говорить ему, что Софья Васильевна не хочет идти домой, что она остается у ней ночевать.
– Вот и все! – с гневом прибавляла она.
– Ночевать! – восклицал Павел Иваныч. – Вот это великолепно! Ночевать, ночевать, – а что такое? в чем дело? Неизвестно!.. Ведь это… Авдотья Петровна! – обращался Печкин к старухе Черемухиной. – Вы мать… Я муж, разве возможно?.. Она ваша дочь… Ведь это!..
– Я, батюшка, человек старый!.. – отделывалась Черемухина, чувствуя, что и ее голова разоряется в последнее время. С одной стороны, ей кажется, что нету греха в дружбе и скитаниях ее дочери с женой Печкина, с другой, ей тоже кажется, что Софья Васильевна должна почему-то сидеть дома, ибо и сама Черемухина делала так в течение целой жизни.
И Надя чувствовала полное торжество, когда, несмотря на продолжительное оранье и брюзжанье Печкина, ей удавалось обделать такое дело, как оставить ночевать у себя Софью Васильевну и видеть, как разбешенный Павел Иваныч плюнет и убежит со двора. Павел Иваныч, голова которого, как уж нам известно, была разорена современностью до последней возможности, благодаря этой борьбе с Надей и с женой получил тоже достаточно определенную жизненную цель и имел возможность восставать против событий, ему совершенно ясных, и уже не враждовал против железной дороги, которая не сделала ему ровно никакого зла. Теперь было уже совершенно ясно, что во всем виновата жена, и о злодеяниях ее он трубил решительно повсюду.
– Вот как, брат, жены-то нынешние! – в гневе кричал он в окно соседу портному и показывал ему чайник. – Сам, брат, засыпь, сам раздуй самоварчик, а не хочешь – поди на улицу да издыхай в подворотне. Вот, брат! Голую взял, думал, что за мое благодеяние…
– Ишь шельма!.. – говорил портной и прибавил со вздохом: – не те ноне порядки, батюшка Павел Иваныч!.. Вы так думали, что за ваши ей благодеяния окажет она вам всякое удовольствие, например, – да! а она! например, задрала хвост в то же время… Так-то-с!
– Да-а, брат! Нонче порядки, брат, пошли совсем собачьи… Ты хочешь так, а тебе вот так!..
– Ты, например, эдак вот имеешь желание, а на место того тебе делают так-то вот! – прибавлял, поясняя, портной и в конце концов получал от Павла Иваныча рюмку водки, что и составляло тайную цель портного в течение всего разговора.
Но главным пристанищем Павла Иваныча во всех горестях последнего времени была все та же лавка Трифонова. Как ни сильна была у Трифонова привязанность исключительно к самому себе, к своей медицине и пению, но, когда дело касалось женщин или «баб», он не оставался хладнокровным слушателем и всегда готов был произнести суждение на этот счет, причем на суровом лице его мелькало нечто вроде улыбки.
– Что, брат, – говорил Печкин, входя в лавку и в изнеможении опускаясь на стул. – Ведь опять хвостом вильнула, ушла!
– А ты спи покрепче!.. – говорил Трифонов.
– Проснулся, хвать! – и след простыл!
– Про что ж я-то говорю? Храпи поздоровей; каши наешься, набей брюхо-то, а она в течение того времени будет тебе весьма благодарна… Дубина!.. – начинал Трифонов, принимая обыкновенный суровый тон: – л-ю-бовника ищи!.. Гнилая колода! любовников разыскивай… Чего храпишь-то?..
– Да нету любовников, брат, нету! – в унынии говорил Печкин.
– Да как нету любовников? – сердился Трифонов. – Какую это имеет возможность твое слово, ежели она бегает от тебя? Плетень! Уж ежели же она хвост треплет, следственно, уж где-нибудь да имеет она свой преступок? Как любовников нету?..
– Да именно я тебе говорю, что нету их! С девчонкой, с Надькой Черемухиной шатается.
– Да черепок ты этакой! Да и у девчонки-то, разгляди-кось хорошенько, уж они там, любовники-то, где-нибудь приуготовляют себя… Глупец! Разбери-ко девчонку-то с рассудком, так уж там, брат, они, любовники-то, в значительном благополучии состоят… Нету любовников! Экий нос табашный!.. А ежели нету любовника, как же не можешь ты жену свою вогнать в струну!.. И совершенная ты будешь пакля, ежели ты его не разыщешь, потому ежели ты его сцапаешь, то можешь ты ее, супругу, по закону раскритиковать всячески!.. А без этого тебе никак нельзя… Я, брат, учен ими… Они у меня, бабы-то, вот где сидят!
При этом Трифонов показывал на затылок, и именно этим можно объяснить то рвение, с которым он относился к делам Печкина. Дел этих, однако же, не поправляло участие, которое Печкин находил в лицах, ему сочувствовавших: любовников не находилось, и отлучки жены сделались еще чаще. Не проходило дня, чтобы Софья Васильевна не ночевала у Черемухиных или Надя не приходила ночевать к Печкиным, и с каждым днем в Софье Васильевне росло отвращение к Павлу Иванычу, к его скучному дому, глухому переулку, словом – ко всему, среди чего она до знакомства с Надей могла выработать способность спать по пятнадцать часов в сутки. Идти домой от Черемухиной для нее стало столь же противным, как гимназисту идти в пансион, когда на дворе еще воскресенье и когда дома братья и сестры еще бегают и играют в саду. Всякий раз эти возвращения сопровождались слезами, которые прекращались только тогда, когда Надя шла ночевать к ней. Действуя исключительно во имя жажды свежего воздуха, Софья Васильевна с каждым днем все больше и больше привязывалась к Наде и не отставала от нее ни на шаг, доставляя тем Павлу Иванычу множество неприятностей. Обезоруженный доводами Трифонова насчет любовников, Печкин решительно уже не мог возобновить прежних предосторожностей по части запирания жены в свое отсутствие и ограничивался только бесплодными воплями, иногда, впрочем, изменяя обычную форму выражения их.
– Позвольте узнать, – говорил он жене, когда та с Надей возвращалась вечером домой. – Позвольте мне узнать, неужели я какая-нибудь собака, что… Ведь это, наконец… трепать хвосты!..
– Мы не трепали, – отвечала Надя за Софью Васильевну. – Мы гуляли.
– Не трепали! вот это великолепно! Гуляли! Вот превосходно! Гуляли-гуляли, не трепали, не трепали, а что такое? Ведь не в подворотню же мне идти ночевать?
На это ему не отвечали.
Во время этих отлучек, прогулок, посещений родных, делавшихся большею частью в сопровождении Михаила Иваныча и воспитывавших в Софье Васильевне дух неповиновения, жизненные встречи и сцены наводили Надю все на новые и новые сомнения и все больше разоряли ее неразвитый, необразованный ум. Война с Павлом Иванычем, в которой супружеские права его играли такую видную роль, невольно заставляла Надю с особенной впечатлительностью принимать только те жизненные факты, в которых виднелся тот же вопрос. Много было этих встреч, и из всех их все-таки можно было вывести то заключение, что самостоятельность, свои деньги, свой труд существуют только у простых людей. Случались, правда, встречи, которые озадачивали Надю, открывали ей совершенно новые стороны жизни, но и они в конце концов оказывались нулем.
2
Между прочим одна из таких встреч произошла в окружном суде, куда наших подруг затащил Михаил Иваныч, весьма интересовавшийся «новыми порядками». Не зная ни старых, ни новых порядков, Надя и Софья Васильевна были прежде всего испуганы обстановкой суда: налоем, священником, толпою людей (которых, в сущности, было очень немного), и затем впали в состояние полного непонимания того, что пред ними творится. В глубочайшем конфузе слушали они разбирательство какого-то неизвестного им дела и не могли даже прибегнуть за советом к Михаилу Иванычу, который почему-то уселся у самого входа.
– Действительно ли, – обращается председатель к купцу-свидетелю: – рука проходит в тот разрез в чемодане?
– С охотой пролезает, ваше высокоблагородие, с большим удовольствием! – отвечает свидетель. – Потому что он ее, дыру-то, васкбродие, ножичком распорол, эво ли какую! Икру, потому што, все он им резал, ножиком-то… Вы у него спросите, у шельмы!..
Председатель остановил купца на слове «шельма» и довольно строго объяснил ему, как тот должен относиться к подсудимому. Купец, все время отвечавший весьма храбро и подробно, вдруг испугался, замолк, побледнел.
– Потому что, который ножик у него, – лепетал он, спотыкаясь на каждом слове и обирая руками полы сюртука; – то он даже… васкбродие… может быть…
– Ишь путает! – говорили какие-то мещане позади Нади. – Того и гляди, «знать не знаю!»
– Настращен старинными пустяками! Думает: «как бы самого не упекли».
Надя и Софья Васильевна слушали и не понимали даже того, что понимают мещане.
– Подсудимый! Что вы можете сказать на это?
Молодой малый с плутоватыми глазами, обвиняемый в краже денег из чемодана купца, кашлянул, тряхнул волосами и довольно наивным голосом произнес:
– Ежели он меня упрекает насчет быдто икры, то даже совершенно это напрасно. Потому я ее с малых ден икру не потребляю…
– Действительно ли вы разрезали? – поясняет председатель свой вопрос.
– Действительно, что я ее, васкбродие, и по сие время не люблю икру… И что в ей скусу?
– Ишь оглобли-то поворотил! – рассуждают мещане.
Софья Васильевна и Надя понимали только одно, что подсудимый виноват в употреблении икры и за это окружен жандармами и штыками. Не к чести их относится также и то обстоятельство, что они засмеялись вместе с публикой, когда оказалось, что один из присяжных заседателей, пожилой мужик, заснул, свесив с ручки кресла в стиле «возрождения» лысую голову и руку с громадной шапкой. Несчастного разбудили, в кратких словах изобразили ему, что поклясться пред крестом и евангелием и захрапеть – поступок по меньшей мере не джентльменский. В свое оправдание глубоко огорченный мужик мог только сказать: «Сморило… гнал всю ночь… стомлен…» Наконец ему объявили: «вы больны» и посадили на его кресло в стиле «возрождения» другого мужика, который вытянулся с испугу, как палка, и с затаенным дыханием и вытаращенными глазами стал слушать, как обвинитель начал «мотивировать», «формулировать» и как защитник потом, в свою очередь, стал «объединять факты» вроде икры и дыры и проч. Не знаю, как мужик, но ни Софья Васильевна, ни Надя решительно не были бы в состоянии произнести о подсудимом надлежащего приговора, потому что неразвитое понимание их было забито и испугано всеми этими «da capo», «ab ovo», «ex abrupto», {«Сначала», «с самого начала», «неожиданно».} «умственный уровень», «декорум той среды, где подсудимый» и другими оборотами образованной речи защитников и обвинителей.
В глубоком унынии и сознании своей глупости сидели они и слушали, ничего не понимая.
И вдруг в залу суда вошла молодая, отлично одетая женщина, почти девушка. Все, начиная с походки и развязности, с которою она прошла и села около наших подруг, обличало в ней по малой мере полное знакомство со всем, что тут ни происходит. Но через минуту оказалось, что соседка знакома и не с такими вещами. В маленьких руках ее очутились судебные уставы в отличном переплете; перелистывая их с тою быстротой, с какою вообще перелистывают книги дети, не умеющие их читать, она придавала своему лицу значительную серьезность и шептала довольно громко:
– Боже, как они неправильно решают! Ах, как врут! Почему нет мужа? Где муж?.. Что та-акое?.. Икра-а?.. И в окружном!.. Вот мило!.. Да это просто тюремное заключение… Отчего не говорит муж?.. Я не понимаю!.. – Со взломом? – обратилась она к Наде. – Ах, вы недавно!.. Вы не слыхали!.. Ужас, что они делают! Где муж?..
Все это говорилось весело, свободно и невольно располагало к сближению, не говоря уже о познаниях молодой дамы во всевозможных судейских тайнах, что возбуждало и зависть и уважение. Под влиянием этих ощущений Надя не заметила, что в разговорах соседки о правильностях и неправильностях судоговорения главную роль играет муж, «который знает все это лучше всех», и не придала особенного значения тому восторгу соседки, когда из-за прокурорского кресла высунулась и кивнула ей весьма приличная фигура мужа, после чего зала суда; огласилась радостным восклицанием: «ах, вот он!», а судебные уставы упали на пол, и юридические разговоры заменились продолжительными киваньями мужу, посыланием поклонов и поцелуев. Надя не заметила этого; она видела только, что эта женщина все понимает, знает, где правильно и где неправильно, и завидовала ей. Случай познакомил их.
Фигура, выглядывавшая из-за прокурорского кресла, по-видимому, удовольствовалась излиянием супружеской любви, которую выказала соседка Нади: она качнула головой, насупила одну бровь и скрылась. Соседка Нади тотчас же притихла, уселась и снова было взялась за судебные уставы; но так как небольшие часики с музыкой, болтавшиеся у ней на груди, были занимательны ничуть не меньше, чем эти уставы, то она, как ребенок, принялась баловаться и играть ими, вследствие чего в зале суда запищала самая смешная музыка. Неуместность этого обстоятельства здесь, среди людей, занимающихся делом, была до того понятна всем, не исключая Нади и Софьи Васильевны, что все они как-то вдруг испугались, потом засмеялись украдкою, вдруг закрыли лица платками, переглянулись из-за них и подружились сразу.
Через четверть часа они уже о чем-то много и скоро говорили в коридоре, выйдя сюда вместе с публикой и называя друг друга «душечка»… В тот же день были приглашены «к нам с мужем», а спустя несколько дней Надя и Софья Васильевна были у Шапкиных уже несколько раз.
3
На этот раз Наде показалось, что она действительно попала в земной рай, не такой, какой сумел оборудовать Павел Иваныч Печкин. Прежде всего Шапкины жили в удобном, светлом и чистом доме; в комнатах было светло, красиво: столы, рояль, стулья, полы – все было новое, блестело и не носило на своей поверхности ни пылинки, которая клубами вылетала из всех углов и вещей, находившихся в доме Печкиных. Вместо запыленной и разрушенной фигуры Павла Иваныча здесь был статный молодой человек, с мягким, деликатным характером, с симпатичным, но и солидным лицом, на котором хотя и мелькала довольно часто весьма, милая улыбка, но в то же время особенно ярко выступал отпечаток серьезной думы, виднелись следы образованного ума, чему, кажется, способствовали и темные стекла очков. Как и Павел Иваныч, он говорил своей жене «ты»; но в таком братском обращении решительно не звучало желания припереть жену палкой или посадить ее на цепь; напротив: между супругами господствовали самое полное согласие, и любовь. Но что особенно сильно поразило Надю в их обществе, – это то, что жизнь их была наполнена множеством занятий, уничтожавших всякую возможность к существованию того одурения, которым так блистало райское семейство Печкиных. Возвращаясь домой, муж сообщал супруге, чем решили такое-то дело, кто хорошо или дурно говорил в суде. И жена была совершенно поглощена какими-то совершенно новыми для Нади интересами. С чувством огорчения за самое себя, за свое невежество и с чувством зависти смотрела она на Шапкину, когда та разговаривала об этих непонятных вещах с мужем или принимала участие в суждениях по тому же поводу с его знакомыми, все молодым и умным народом, употребляя в разговоре слова вроде «обжаловать», «кассация». Но этого мало. В первый же почти день знакомства с Шапкиными оказалось, что, помимо множества дел, которые занимают голову жены Шапкина, у ней есть и «свои деньги», чего Наде решительно не приходилось встречать до настоящего времени нигде. Она переписывает мужу бумаги и получает от него жалованье. Часы с музыкой куплены на собственные ее деньги; на свои же деньги приобретены ею зонтик и альбом и еще несколько вещей, которые и показывались Наде с особенным удовольствием. О взятках и о чем-нибудь злодейском, обезобразившем для нее, благодаря Михаилу Ивановичу, все – небо и землю, – здесь не было и помину. Напротив, был случай, когда Надя могла видеть страшнейший гнев и прилив негодования у обоих супругов по тому только обстоятельству, что какая-то мужицкая борода осмелилась высунуть голову из передней в залу и промычать: «Батюшка!..» По неразвитию своему Надя было сжалилась над человеком, который говорил таким жалким голосом и лицо которого носило следы великого горя; но ей тотчас же было разъяснено, что человек этот – не просто человек, а преступник, вор или даже убийца.
– Если бы у тебя или у твоего брата оторвали голову, что бы ты сказала?.. – возразила ей жена Шапкина. – Неужели ему прощать?..
Надя была побеждена.
Так как к этому времени война против Павла Иваныча утратила почти всякий интерес, ибо даже Софья Васильевна в эту пору могла говорить ему то, что прежде решалась делать только Надя, и так как вследствие этого снова настала скука, то знакомство с Шапкиными было приятно нашим подругам, несмотря на неприятное ощущение самоунижения, которое испытывали они в их обществе. Это был уголок света, и его нельзя было не любить, тем более что тот угол тьмы и разоренья, где жили наши подруги, надоел им до последней степени, не исключая из числа надоевших лиц и Михаила Иваныча, сделавшегося к этому времени воистину бешеной собакой.
Одно незначительное обстоятельство, однако, сильно поколебало эту любовь Нади к Шапкиным и увеличило ее скуку новыми тягостными размышлениями.
Дело было в мировом съезде. Однажды явилась к Наде жена Шапкина и с торжеством объявила, что сегодня муж ее, наконец, «говорит». Очень жаль, что ему придется мало разговаривать, что нет возможности вполне выказать талант, но все-таки слушать его – наслаждение. Михаил Иваныч тоже отправился вслед за дамами, поместился в задних рядах толпы, наполнявшей небольшую комнату съезда, до половины занятую столами господ судей. Дамы, в сопровождении жены Шапкина, пробрались вперед и поместились на первой лавке, в виду величественной и необыкновенно привлекательной фигуры самого Шапкина. Новенький, отлично сшитый мундир сидел на нем превосходно; золотой воротник как нельзя лучше и изящнее оттенял белые, выхоленные и выбритые щеки; белая рука небрежно поигрывала золотою цепочкою, и величественное лицо хранило печать тайны. Самоунижению Нади на этот раз решительно не было границ, ибо соседка ее, жена Шапкина, помощью продолжительных киваний, улыбок с мужем – доказала самым непреложным образом как трудовую, так и сердечную связь с этим величественным «мужем», который при одном ее появлении озарил свое лицо самою ясною улыбкой.
– Авдотья Тихонова! – раздался голос председателя.
– Слушай! – шепнула Наде Шапкина и притаилась.
– Тихонова… Авдотья?.. Здесь?
– Здеся! – послышалось в публике, и после некоторого волнения в толпе, расступавшейся, чтобы дать дорогу Тихоновой, на середину комнаты робко выступила пожилая худая деревенская женщина. На плечах ее, несмотря на летнюю пору, был надет старый и рваный тулуп; из-под полинялого, старенького платка выглядывало испитое и лихорадочно желтое лицо с ввалившимися глазами. В руках ее был темносиний набойчатый платок. Отделившись от толпы, она прежде всего стала искать глазами образа. «Где у вас бог-то?.. Ай его нету? Ай вон он!» – шептала она глухо, покашливая и прикрывая рот рукой. Окончив это, она подошла прямо к столу судей и поклонилась. Ее попросили отойти подальше, потом подойти поближе и таким образом установили на надлежащем месте. Приемы бабы не остались без улыбки со стороны публики. Под влиянием игривой улыбки Шапкиной Надя тоже было улыбнулась, но больное лицо бабы и ее нищенская, жалкая фигура уничтожили эту улыбку тем быстрее, что Тихонова, поместившись против судей, на надлежащем месте, почему-то глубоко вздохнула, сложив на груди руки с платком, и закашлялась.
Среди тишины, прерываемой только легким звяканьем цепей, которыми поигрывали некоторые из господ судей, секретарь прочитал следующее: «Такого-то числа и года, в таком-то мировом участке, такими-то сельскими начальниками было начато дело против вдовы Авдотьи Тихоновой, обвиняемой в неисполнении приказаний начальства. Имея в доме своем довольно злую собаку, она никак не соглашалась ее убить или посадить на цепь, что было необходимо, ибо оная собака дважды нападала на сельского старосту, а в последний раз укусила за ногу проходившего мимо дома Тихоновой писаря. Хотя на излечение от укушения Тихонова и выдала писарю, по требованию его, до трех рублей, тем не менее, принимая во внимание неисполнение приказаний сельского начальства, мировой судья постановил: оштрафовать Тихонову пятью рублями, а собаку застрелить. Тихонова объявила себя недовольной решением, собаки не застрелила и подала в съезд».








