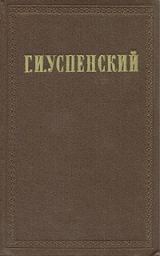
Текст книги "Том 2. Разоренье"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Я щупал.
– Я ни одного живого места в себе не имею, – а ничего! Душа только радовалась… А теперь что?.. в солдаты, что ли?.. Бывало, рад душой за своих постоять… «Выручай, Гаврюша…» У меня сердце-то вот-как-вот от этого, ровно молотом, стучит… Своих да не выручить?.. Чтобы дать деревенским мужикам ходу? – Извините! Вот как, бывало, – что праху не оставалось от всей их мужицкой стаи… Тут тебя несут в город-то на руках… да-а! А теперь что? Картошки с женой печь? мне теперича и в семью незачем показываться… Эх-ма…
Действительно, в подгородном селе, с которым Федотов когда-то «дирался», с которым у города были какие-то счеты, одушевлявшие драку и дававшие ей известного рода мысль, теперь царствовала только бедность: в пору было выпутаться из какого-то межевого дела, которое выпивало все деревенские деньжонки и уже давно уничтожало возможность досуга.
Федотов не имел любезного ему дела и тосковал. Иногда он в скуке приходил ко мне.
– Ты что это тут? – спрашивал он.
– Хочу скворца повесить.
– Скворца? Ты бы мне сказал, я б тебе шест принес.
– Принеси.
– Ей-богу, принесу. Мы вот как: пойдем-ко с тобой в осиновую рощу да хорошую жердь вытянем оттуда. Ладно, что ли?
– Ладно.
– Ну так живее надо… Нет ли шапки там где отцовской? домой бежать далече… Поищи поживей!
И полсуток хлопочет, устраивая шест около крыши и вешая скворца.
Но такие мирные занятия были не по его натуре. Ему надо было бушевать, побеждать, сокрушать врага, ничего этого теперь не было, и он безобразничал.
– Эй вы… мясники! – кричит он зычным голосом в темный зимний вечер, когда наши ребята катаются вдоль улиц на салазках и на ледянках.
– Э-эй, живо! Кто там у вас? выходите!
Никто не выходит.
– Так-то, по-вашему? Эх вы! Н-ну выходите, что ли!
Иногда он, заметив в числе играющих меня, тащил и меня с собой «шляться по городу».
Бывали в моей тогдашней жизни минуты неопределенной тоски, когда я вдруг становился как-то равнодушен к своим скворцам и чижам, в душе делалось сухо, неприятно, холодно. Даже к матери я придирался в это время, зачем у меня рваная шапка; зачем меня не учат. «Не на что тебе шапки купить», – говорила матушка. Но я подкапывался под ее доводы, доказывал, что есть на что, что купили же скатерть, когда их две. «Та для гостей». – «Для гостей! Для гостей можно пеструю». Иногда я положительно выводил матушку этими придирками из всякого терпения и в то же время сам хотел плакать.
В такие минуты я с удовольствием принимал предложение Федотова путешествовать с ним.
Нельзя сказать, чтобы ему не было компании в этих путешествиях. К нему всегда присоединялось два-три человека, жаждавшие тоже раззудить плечо, а навстречу этой, так оказать, «нашей» компании, глядишь, валит другая.
– Что за люди? – кричит в темноте Федотов.
– Ты что за человек? – вопрошает компания.
– Стой! – категорически говорит Федотов: – я – Федотов: слышал это слово?
– Был Федот, да теперь не тот.
– Не тот? Али тебе показать? становись-ко!
– Ты лучше приставай к нашей компании, вот что, брат Федотов! Эх, ты…
– Ежели ты мне угощение дашь, я к твоей компании пристану.
– Это за что же? Угощали тебя, будет.
– Будет вам, – раздается сострадательный голос. – Пойдем, угощу. Потом вместе тронем. Андрюшка, гармония здесь?
– При себе.
– Делай…
И что же делает эта ватага силачей целую почти ночь?
Вытаскивала она из земли тротуарные тумбы, неизвестно зачем. Неизвестно зачем, валяла на землю фонарные столбы, поворачивала крыши на гнилых нищенских избенках, мазала дегтем ворота, даже там, где вовсе этого не следовало делать. Разворотить забор и разметать по сторонам доски, «вломиться» туда, куда не пускают: – вот что делала эта несчастная ватага силачей, не знавшая, куда деть свою силу.
Пошатавшись с этой ватагой, я снова чувствовал удовольствие уйти в свой угол и просил у матушки прощения.
Не могу не вспомнить еще об одном существе, хотя воспоминания эти и не в пользу моего честолюбия. Это был больной, нервный мальчик, тоже из купеческого сословия, живший в варварской семье. В нем было много потребностей, много задатков; познакомившись со мной и узнав все мои развлечения и дела, он отнесся к ним с большим презрением. «Эко!» – говорил он с какою-то гордостью, словно бы он может что-то сделать в тысячу раз лучше и интересней, нежели я. И действительно, не могу забыть, как он однажды наизусть читал «Конька-горбунка». Он ходил в это время вдоль забора, как тень, не обращая на слушателей никакого внимания, и с такой верою и задушевностью передавал фантастические эпизоды полетов конька по воздуху, что даже я не мог не глядеть в это время на небо и на месяц и ждал, что вот-вот он пронесется с Иванушкой, рассыпая из ноздрей искры.
Разговаривать он не любил, все молчал и думал, а глаза у него были как у помешанного. Убежать! – вот что хотел он.
«Конек-горбунок» произвел на меня сильное впечатление, и я сам стал заглядывать к нему в дом. Но проклинавшая его как «дурака» семья стала объявлять мне, разумеется тоже с проклятиями, что «пострел» куда-то пропадает и что пора пришла отвязаться от него, отдать в солдаты. «По крайности царю будет слуга», – говорил его отец. Били его за эти отлучки и увечили; но он молчал и пропадал. Уходил иногда темной ночью и приходил на другой день вечером.
Я долго его не видал.
Вдруг однажды, когда мы с маменькой возились на огороде, как бешеный перескочил через плетень Андрюша и бросился бежать по грядам, по-видимому, куда глаза глядят. Он казался совершенно помешанным.
– Куда ты? – закричал я, догоняя его.
– К царю! – задыхаясь, крикнул он мне голосом, в котором, по-видимому, напряглись последние усилия измученного тела.
Тут только, когда пришлось ему перелезать через другой плетень, я увидел, что подмышкой у него был мешок, из которого торчала страшная звериная морда, и толстая лапа царапала плохо прикрытое одеждой бедро Андрюши. Это был необыкновенной величины дикий кот.
– Уйду! Погоди! – прохрипел он, перескочил плетень и, обхватив кота оцарапанными в кровь, сухими, как кости, руками, скрылся.
Оказалось, что по ночам он караулил этого кота, который жил в норе под хлебным амбаром и выходил только по временам. Андрюша вздумал поймать его, принесть прямо во дворец к царю и получить от него то, что в сказках сказывается.
Его долго искали – не нашли.
Через год он пришел с этапом. Где был его кот и что с ним случилось – неизвестно.
– Где ты, мошенник, пропадал? а?
Андрюша молчал.
– Отвечай, стервец этакой.
Но ни битье, ни угрозы не выколотили из него ни одного слова. Он был нем.
– Андрюша, где ты был? – спросил я его при свидании.
– Молчи! после расскажу, – прошептал немой. – Теперь я немой… Меня к угоднику повезут… Я исцелюсь. Молчи.
Я молчал. Андрюша прослыл за немого и даже со мной не говорил ни слова. Идея – быть немым – была для него удовольствием, задачей, которую он выполнял с полною любовью.
Действительно, устав колотить и ругаться, родители повезли его к угоднику. Прежде, нежели они воротились оттуда, по нашей стороне пронеслась следующая легенда: по приезде в монастырь Андрюша, кроме немоты, сделался недвижим. Целую неделю он лежал, не шевеля ни одним членом. Отец и мать молились на его глазах и рыдали, служили молебны, клали вклады и впали в уныние. Вдруг ночью, совершенно неожиданно, при первом ударе колокола к заутрене, он вскочил, встал на ноги и произнес: «Господи помилуй!»
Господь его помиловал. Чудо было явное, и Андрюша теперь на вершине свободы, возможной для святого человека.
Он ходит в рясе и уж сам думает, что он святой. Сколько выдумывает он пророчеств и как работает его голова! Давала ли и даст ли такую работу мысли, придумывающей небылицы, наша обыденная жизнь?
III
При столкновениях моих с так называемыми «благородными» подобных ударов моему самолюбию я почти не испытывал никогда. В слободу, засевшую в грязи и глуши, надзор и порядок еще не успел проникнуть в тех широких размерах, в каких он проник впоследствии, доказав, что кроме его, то есть «порядка», ничего не надо никому. За право «не даваться в обиду» тут еще бессознательно боролось много народу, конечно без всякого существенного результата, ибо все «мысли о правах» давно были подрублены в самый корень. Но все-таки были здесь люди по крайней мере погибавшие, как говорится, мастерски, сгоравшие, например, от водки, точно так, как сгорает свеча от огня. Были вообще натуры, желавшие плевать на мое спокойное существование с крошечными и пустяшными привязанностями. В обществе благородных было гораздо уж больше порядку. И тут я чувствовал себя хорошо.
С благородным обществом я познакомился посредством школы. Наука вообще ровно ничего и никогда не значила в моей жизни, в образовании моих взглядов; поэтому-то я до сих пор не говорил о ней ровно ни одного слова, хотя и учился. Сначала матушка отдавала меня к разным доморощенным учителям: старушкам, которые сами не знали ни аза в глаза, но были очень добры; к дьячкам, «набившим руку» в учении мальчуганов за целковый в год. Ученья тут не было никакого, а было усмирение бунтовавших мальчуганов, дранье и, как результат всего этого, – возможность учителю прокормиться. Таким образом, в первые годы моего детства воза, нагруженные редькой, капустой, свеклой, аккуратно доставлялись матушкой к тем или другим наставникам. Лучше всех из числа этих учителей был вдовый дьякон. Во хмелю он был тих (а хмелен был он часто) и в это время плакал, рыдал об умершей жене, сочинял грустные, слезные стихи в память ее и читал их нам. Во время этих рыданий была полная свобода, а главное – почти все мы любили этого дьякона. Случай заставил его прекратить школу. Напротив его дома жил с старухой матерью какой-то отставной гимназист лет двадцати, проводя время как бог пошлет и пробавляясь кое-как. Он однажды, в припадке той неопределенной и мучительной тоски, которая знакома только обывателям нашей стороны, когда не знаешь, куда деться, в воду или петлю, в такую-то минуту он однажды зарядил хорошим дробиным зарядом пистолет и выпалил им прямо в школу. Несколько книг было изодрано дробью, пробита аспидная доска, которую держал какой-то мальчуган, размозжены стекла в рамах и все перепуганы. Никто после этого не хотел отдавать сюда своих детей, и школа закрылась. Я некоторое время ни о каких науках не думал; но потом матушка, верная завету моего отца – «вывести меня на настоящую дорогу», задумала продолжать учение и направила воза с овощью к начальству уездного училища. Но, одумавшись и разочтя, что овощь равно необходима и начальству средних и высших учебных заведений, как и начальству низших, направила воза в гимназию, куда я и поступил, выдержав экзамен, во время которого я чувствовал, что овощи действительно получены экзаминаторами в исправности и в почтенном количестве.
Уличный авторитет мой был в то время настолько велик, что, идя с матушкой в гимназию, я чувствовал, что делаю и ей и этому каменному желтому зданию большое одолжение и снисхождение. Я лишаю себя нескольких часов в день общества своих друзей, чтоб из деликатности, из доброты моей проскучать у вас там, в каменном доме, на задней лавке, часов пять-шесть. Задняя скамейка, или так называемая «Камчатка», была отведена мне с первых шагов моих на поприще науки. Учителя меня не беспокоили. Это самое лучшее, что они для меня могли сделать: иначе бы они воспитали во мне чувство злобы, какой я до сих пор не знал. Они, должно быть, видели, что лучше меня не трогать и не расшевеливать, ибо я был не ученик, а человек.
Как бы ни были пусты и ничтожны мои интересы, которыми я жил в слободке, но это были интересы человеческие, в которых играли роль любовь, совесть и честь. Если я сходился с кем, – я знал, почему. Если ненавидел кого, – тоже потому, что имел какие-нибудь этому основания. В школе тогдашнего времени я не заметил человеческих отношений. Лучший приятель, не задумываясь, драл, по приказанию начальства, своего приятеля за ухо. По воле начальства товарищ, назначенный «старшим», обязан был выдавать своих товарищей на заклание. Лучшая награда была за наушничество. «Это вот он сделал» – мог воскликнуть без просьб или приказания начальства не один из моих тогдашних соучеников. Были исключения; но я беру черту общую, существенную. Эта компания была мне не под пару. Человек, совершенно мне незнакомый, к каковым человекам принадлежало бесчисленное начальство, мог прийти, взять меня за ухо, за волосы, поставить в угол, – я возненавидел этих людей. Товарищество большею частью тоже было мне не под стать. Вот два мальчугана спорят о том, что «у моего отца есть и шляпа и шпага, а у твоего – нет». Пересчитывая все отцовские отличия, они доходят до слез и идут жаловаться надзирателю, решение которого совершенно их успокаивает. Тот, кто по этому решению прав, – делается навеки неразубедимым; тот, кто неправ, приучается навеки знать, что с начальством ничего не поделаешь. С этой мелюзгой, не знающей, что у человека есть на плечах голова, мне нечего было делать. Я мог бы только бить их, если бы умел быть злым, и гнать от себя прочь. Но я этого не делал. Я не лез сам почти ни к кому, но ко мне, напротив, лезли многие. От иных я сторонился, иных любил и большинству покровительствовал.
Это большинство, у которого по малой мере семь колен родословного древа, не знали никакой другой цели в жизни, кроме повиновения; были, однако же, не совсем умершие, иссушенные дети. У них было сердце, которое билось, которое хотело что-нибудь чувствовать, и рядом со мной им было хорошо. Не прийти в класс вследствие большой рыбной ловли или охоты – что часто делывал я – было многим и многим здесь в высшей степени интересно. Уйти от уроков за утками, – да это что-то необыкновенное! Посидеть со мной на лавке, послушать, что я говорю, – для многих было истинное удовольствие.
О тех, кого я сам любил, я говорить теперь не буду; а из покровительствуемых мною скажу несколько слов об одном мальчике, который впоследствии, в качестве петербургского гостя, присутствовал у меня в обществе Лукьяна и деревенского ходока.
Я познакомился с ним в гимназии. Звали его Павлуша Хлебников. Это был слабенький, бледненький мальчик, одетый всегда с иголочки, снабженный всеми принадлежностями науки: перьями, карандашами в количестве более, нежели полном. Из-за этих карандашей и резинок к нему лезло много народу; но, по-видимому, он не мог похвалиться любовью товарищей, потому что, как только у него иссякали письменные материалы, на него действительно мало обращали внимания, и даже иной из товарищей, кто понаглей, без церемонии бросал ему в глаза ябедника или труса. Слезами этот мальчик обливался почти постоянно, особливо когда не мог делать подарков. На меня он давно поглядывал с своей первой скамейки, но как будто боялся.
Наконец однажды я увидел, что он робко перебирается ко мне с парты на парту.
– Хотите, я вам подарю чернильницу? – робко говорит он, держась от меня вдали и держа в руке зелененькую складную чернильницу.
– Нет, – сказал я. – Не надо.
– Возьмите!
Мальчик произнес это с дрожанием в голосе и готов был зарыдать.
– У меня дома есть своя, – сказал я.
Мальчик не решился сказать ничего, но слезы были в его глазах, а чернильницу он так и держал в руке, – ему было крайне обидно взять ее назад.
– Давай мне! – сказал один из начинавших ловкачей и ловких людей, Козлов.
– На! – радостно сказал мальчик и потянулся за Козловым; но тот уж был далеко и знать ничего не хотел.
Прошло пять минут; слышу, тот же мальчуган опять что-то кому-то дарит и плачет и потом скучный сидит один.
Не знаю, почему-то я почувствовал к нему большую жалость и как-то раз сам позвал его к себе «в Камчатку», а потом познакомился с его семьей. Семья эта была образцом семей, в которых нет ничего «настоящего», «подлинного». Тут все, с седьмого колена, шло против личных чувств, против личных желаний, убеждений и покорялось какой-то тягостнейшей необходимости. Отец Павлуши Хлебникова был чиновник, занимавший хорошую должность. Происходил он из духовного звания, где, по крайней мере пять поколений назад (точно таких, как и в других сословиях), люди женились не любя, занимались делами, почти всегда не соответствовавшими способностям, и были связаны с местом жизни, с женой, с людьми, каковы – прихожане, родственники и проч., только тем, что, развязавшись с ними, должны бы были умереть с голоду.Голод – вот была идея, связующая все это, готовое разбежаться врозь. Сколько тут было лжи, взаимной ненависти, притворства, низкопоклонства, соединенного с полным презрением!.. Человеческим, свободным отношениям здесь места не было. Отец Павлуши был человек не глупый, талантливый, а в молодости был мечтатель: так, будучи в семинарии, он думал идти непременно в священники; у него было призвание к этому делу, он обдумал его во всех подробностях, начиная от проповеди, которую он думал сказать не так, как говорят наши «балалайки», а по совести, с толком. Но личному чувству, личным симпатиям здесь нет ходу. На плечах его лежали целые поколения бедствующей родни, которая бы должна была умереть с голоду, если бы позволил он себе жить так, как хочется, – и он пошел в чиновники, чтобы помогать тем, кого не имел причины любить, и женился на той, которую не любил; ему, вступившему на путь необходимости, надо было покоряться всему, – жениться, поэтому, был полный расчет на дочери начальника, чтобы скорее добиться того, за чем пошел, то есть денег. Дочь начальника тоже, быть может, имела свои планы. Она была женщина умная и скромная и точно так же, подобно мужу, принуждена была обстоятельствами делать что-то такое, чего ей не хочется. Влюбись-ка она по собственному желанию вот в того молодца-красавца, мещанина! Разве она не знает, что в красавце воспитано побуждение иногда вооружиться против своей возлюбленной поленом и поучить. И вот образовалась семья, в которой ничего нет сделанного «по душе». Они помогают родне, которую терпеть не могут. Родня низкопоклонничает, а в душе называет их разбойниками. Отец думает о том, как бы он был священником; иногда он даже, раздумавшись, видит жену, стоящую в церкви, – жену, которая совершенно не походит на теперешнюю, тасовсем другая: волоса, глаза – все другое у той, а на клиросе видится ему маленький мальчик, поющий отличнейшим дискантом, – это сын. У него и теперь есть сын, который учится в гимназии; но это не «тот» сын, не «настоящий»; «настоящий», который на клиросе, нисколько не походит на гимназиста. В такой школе решительно не было возможности узнать, что такое человек, что права над ним даны любви, совести. «Разве бы я пошла за твоего отца, ежели бы не нужда?» – сказала бы мать сыну, решившись быть искренней. «Нешто я бы иссох так, кабы не связали меня вы все?» – сказал бы отец, если бы тоже намерен был поступить искренно. Вот корень семейной войны и той легкости, с которой сын может совершенно забыть свою семью, разлучившись с ней на месяц, а на другой месяц начинает ее ненавидеть. В семье Павлуши никто не давал себе воли; отец и мать сознавали, что делали, – и молчали. В доме вставали, ложились, пили чай, принимали гостей, словом – исполняли все, как следует, и, главным образом, молчали. Не освещала ли какая-нибудь светлая, широкая идея этого угла? Повторяю, что не было идей – ни у кого и никаких. Религиозны они были по форме, потому что принадлежали к приходу. Что такое «политика», они не знали; что такое общество, жизнь общественная, – тоже. Была здесь глубоко затаенная тоска и молчание. В этой-то обстановке и жил мальчик.
И вот он лезет дарить мне чернильницу с тем, чтобы испытать чувство благодарности. Он ждет, что я ему скажу: «Спасибо, Паша, какой ты добрый».
И будет некоторое время чувствовать себя хорошо.
Но вот приходит инспектор и приказывает этому Паше выдрать мне ухо.
И Паша выдерет его, потому что он поглощен новым удовольствием – быть предпочтенным пред другими. Он лучше других, а другой, кому он дерет ухо, хуже его! Ощущения, какие бы то ни было, до того новы, что совершенно поглощают его, и только опомнившись, он плачет.
– Свинья ты этакая! – говорит ему будущий ловкач и адвокат Козлов: – стал драть за ухо товарища, подлец!
Паша плачет и говорит:
– На тебе чернильницу. Я не буду никогда.
– Не будешь ты, свинья этакая, – говорит Козлов, пряча чернильницу к себе. – Дрянь!
– Возьми еще хрестоматию. Я не буду!
– Давай, свинья этакая, и хрестоматию!
Козлов обирает мальчика отлично! И, наконец, Козлов гладит его по голове, и они расстаются друзьями. Павлуша возвращается домой, к отцу. Отец, в знак любви, приготовил сыну подарок (потому что ни из чего другого семейные привязанности здесь не делаются).
– А где твоя чернильница?
– Козлов взял.
– Как взял?.
– Просто говорит: «отдай!»
– Какая шельма!
Павлуша врет; но врет именно потому, что приятно чувствовать, как «заступается отец», давно желающий на какой-нибудь манер показать любовь к сыну. Павлуша не желает терять благоприятной минуты ни для себя, ни для отца. Да и «чувствовать себя несчастным», в виду такой непоколебимой защиты, как отец, тоже приятно.
И врет. Козлов представлен чистым разбойником.
– Я его, каналью! – говорит отец.
На другой день, по жалобе отца, Козлова секут.
– Свинья ты подлая! – говорит Козлов; но потом мирится на подарках.
Я взял этого обездушенного мальчика под свое покровительство; но из этого не вышло ничего. Бросался он на все, по-видимому, с азартом; но это только по-видимому.
Впоследствии из него явно стала выходить фигурка, которой бы нужно было что-нибудь поновей, да по возможности приятно, да чтобы и ненадолго.
IV
Я бы никогда не кончил, если бы стал обстоятельно перечислять сотни виденных мною людей, тщетно жаждавших осветить свое горестное существование какою-нибудь мыслью. Исполняя виды высшей воли, они чахли в собственной пустоте, почти не зная, что они люди. Единственный раз в моей жизни я видел, как зашевелилась общественная душа и когда почти до краев было полно существование каждого из этих мучеников. Это было во время войны. В общественной душе еще уцелел каким-то образом какой-то «турок» с неумытым рылом, град и гроб Христовы, Христовы страдания. Все эти вещи были воспитаны крепко и почему-то не были тронуты порядком. Как они, пробудившись, оживили всех и всё!
Чиновник, который вчера в пьяном виде еще не знал, за что подраться на свадьбе у приятеля, и выдумывал предлогом для драки обстоятельство, которое сам считал пустяками, например начинал придираться к хозяевам с криком: «а обещали подать малиновое мороженое! где оно?» – чиновник этот в настоящую пору требует к суду Викторию, кричит: «подайте мне ее!» и искренен в этом крике, хотя и глуп. Мещанин, который вчера еще, ободрав падаль и продав шкуру, не знал, за что приняться, воротившись домой, – колотить ли семью, пойти ругаться к соседу, лечь ли спать или ударить поленом свинью, – знал теперь, что ему делать: сколько он жене принес секретных известий с театра войны! И у жены тоже они есть; да и ребенок, который прежде не мог рассчитывать ни на что, кроме подзатыльника, теперь нес с улицы также какое-то новейшее известие и внимательно выслушивался, да и сам знал, во что играть: вчера он просто лез головой в заборную щель и кричал от боли на всю улицу, а теперь он играет «в войну». Богач купец, который ездил к Акульке и сорил деньгами перед всей ее солдатской родней, с просьбою успокоить его; который, не будучи успокоен, напивался до чортиков в своих обширных палатах и лез, к стыду своему, на крышу гонять голубей, – и тот вспомнил турка и бога, и тому пришло на память, что, кроме медалей, есть еще душа. И вот он, вместо Акульки на площади, – уже перед воинами и даже говорит речь.
– Воины! – говорит он и плачет. – Не попустите ево, к примеру… турка… пытаму… (он рыдает)… пытаму, што… (он рыдает еще более)… от-течиство… (Рыдания заставляют его безмолвствовать минут пять.) По полуштофа на брата!.. Ур-ра!
– Ур-ра!..
– Ловко! – гремят зрители, видящие хоть какое-нибудь деяние, которое и они тоже понимать могут. – Мещанам бы тоже ты, Иван Естафич, поднес по… отечеству… для веры… по случаю… по престолу…
– По косушке жер-ртвую! – подняв руку кверху, вопиет Евстафич и падает на колени.
На площади идет молебствие, и протодьякон, раздирая горло в многолетии воинству, знает на этот раз, что дерет горло за дело, которое ему известно, а не просто по приглашению соскучившегося купца, которого он в душе называл разбойником, и если все-таки гремел ему многолетие, то единственно из-за желания получить красную и купить ногу баранины. Он знает, что на него смотрит вся толпа, понимающая причину его воодушевления. А старушки, которые в былое время не знали, какую бы еще придумать сплетню, чтобы попить благодаря ей чайку в хорошем доме, – и у тех теперь полны карманы новостей, и они тоже теперь чувствуют потребность потолкаться в толпе, потолковать с ней на площади.
– А анпиратор и говорит… – шепчет одна другой.
– Полегче вы, старенькие! – тоже шепчет им древний старец, которому теперь только представился случай объяснить, почему у него не ходит правая нога, еще во времена герцога Бирона отдавленная в застенке колодкой. – Полегче об эфтом!
– Мы худова не говорим, батюшка.
– То-то, потише бы: у меня до сих пор нога-то не ходит. Так-то! Ну что такое амператор сказал?
– А сказал, говорит, не давать им овса…
– Кому?
– Не знаю я, друг ты мой.
– А говоришь! Из портов не велено отпущать овса, – кому, знаешь ли?
– То-то не знаю…
– А мелешь. Попадешь вот в хорошее место, пропотеешь полгодика, узнаешь… Кому овса не велено?.. Австриаку! Тараторки! Овса, овса… Ты лучше бы богу молилась.
– Ты-то дюже строг ноне. Полегче бы маленько…
– Нет, вот как засадят в ямку, в темненькую…
– Урррр-а!.. – бушует на площади, заглушая шушуканья толпы и об овсе, и о птице, сидящей на московской колокольне, и о свече у Иверской, которую турки начинили порохом и поставили перед иконою ночью. Хорошо, что митрополиту приснился сон и он успел выхватить свечу, которую разорвало тут же на улице, и т. д. Все эти толки заглушены криком «ур-ра».
Молодцы Ивана Евстафича, запрягшись в телеги вместо коней, вытащили на площадь не один десяток сороковых бочек. Выехав на середину площади, молодцы становятся каждый на колесо своей бочки, имея в руках по черпаку; черпаком этим предполагается вливать водку в манерки солдат и прямо в рты обыкновенных обывателей, ежели они не могут представить посуды.
– Православные! – возглашают молодцы с черпаками.
Масса шевелится, и скоро закипает драка. Дерутся какие-то «ефимовцы» с «андроньевскими», «васильевские» с «котельниковскими», словом – выступают какие-то партии, оттененные неизвестными или ненужными до настоящего времени названиями, скрывающими какую-то мысль. Это не простое разворачивание забора, как еще недавно производили Федотов с компаниею.
Словом, все одушевлено мыслью. Турок, завещанный в сказках, делал жизнь сколько-нибудь понятною! Нельзя сказать, чтобы все это было чересчур умно, но факты оживления отрицать нельзя.
Вот в это-то время один обыватель, торопившийся ночью к приятелю сообщить газетную новость, наткнулся впопыхах на камень и сломал ногу; из этого обстоятельства возник вопрос об освещении, явилась статья в газетах. Невозможность достать газетки и неуменье ее выписать, чтобы знать, что такое делается, были причиною появления другой статейки – о библиотеке и т. д. Словом, турок так толкнул общество, что индивидуумы, составлявшие его, подобно биллиардным шарам от удара кием, зашевелились, задвигались.
– Почему же это я все пьянствую? – влетает в голову талантливому чиновнику Змееву, давно чувствовавшему, что ему нужно что-то…
До этого оживленного времени Змеев действительно занимался только пьянством, рисуя портреты с трактирных случайных знакомых. Он отлично рисовал карикатуры и типы из русской жизни. По натуре это был большой художник; но отец из статских генералов не дал ему никакого образования, художество называл чуть не преступлением и держал человека на какой-то должности с пятирублевым жалованьем. У Змеева была уже лысина на голове, а он все еще уходил из дому тайком, после того, как отец заснет: иначе ему могла быть гонка. Ропот против отца – вот что держало его на свете, подобно другим таким же субъектам, трактирным компаньонам, жившим – кто ненавистью к жене, кто ропотом на несправедливость начальства. Тысячу раз Змеев хотел бросить родительский дом, уйти. Иногда казалось, что он вполне готов привести свое намерение в исполнение, мечтая поехать в Петербург, показать там свой талант… Но ничего этого никогда не делал. За пределами страданий в отцовском доме не было ничего… Были какие-то темные улицы и душные кабаки, и среди этой тьмы терялась всякая вера в себя, в свой талант. Но в новое, оживленное время, когда носилось в воздухе так много славы, храбрости и других вещей, которые доставались какому-нибудь Федотову нипочем, Змеев увидал слишком ясно свое ужасное положение. Ропот на отца, который довел сына до лысины, не сделав ничего для того, чтобы из него вышел человек, дошел до крайних пределов. И вот он пьет и ругается.
– Ведь я человек, сволочь ты этакая! – кричал он в трактире собеседнику.
– Ты не ругайся, однако!
– Что «не ругайся»? Ну, чего «не ругайся»? Как вас не бить-то! Вот я чему удивляюсь! Нет, молодцы эти англичане, ей-богу! Перестрелять вас надо всех… до ед-ди-нова!..
– Когда ты перестанешь пьянствовать? – говорит ему отец. – Когда ты перестанешь по ночам шататься? а? Ведь я тебя в солдаты, каналью, отдам.
– А ты зачем мне жизнь загубил?
– Ка-ак?
– Зачем жизнь-то загубил? Ка-ак!..
– Это мне ты смеешь говорить – «ты»?
Раз сорвавшись на слове, с наболевшей душой, Змеев не удержался.
– Я! тебе! Погубил ты меня!
– Вон! Вон!
– Погубил! Злодей! Ты злодей!.. Я – человек! пойми! А что ты сделал?
Старый генерал падает в обморок, а разозленный сын не унимается.
– Уйду! Чорт с вами, разбойники!
На этот раз Змеев действительно переехал из отцовского дома в какую-то трущобу.
Подобных этому случаев было на моих глазах великое множество, и я уж не смел драть носа перед окружавшим меня обществом.
Оно необыкновенно посвежело и ободрилось. Мои почитатели, как силач Федотов, чудотворец Андрюша и т. д., уже не нуждались во мне и нашли свое дело. Один дрался со славою, другой имел готовую тему фантазировать и предсказывать. Моим компаньоном остался почти один только Павлуша Хлебников, который очень часто сопровождал меня в моих скитаниях по оживившемуся городу. Я в это время целые дни проводил на улице: встречал и провожал войска, толкался на площадях, где по грязным заборам были развешаны бесчисленные картинки о победах, и слушал толки. Разнообразия было очень много.








