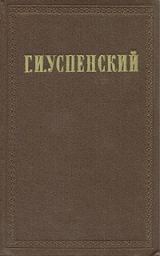
Текст книги "Том 2. Разоренье"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
– Холодненького! – добавил спутник.
– Да, кваску бы.
Живописец встал, тихо отворил дверь и тотчас же закрыл глаза от нестерпимого блеска.
При помощи Ивана и живописец и его спутник с жадностью напились холодного квасу и затем продолжали разговор. Речь рассказчика звучала как-то однообразно; он рассказывал словно вытверженную наизусть историю или же как будто репетировал прошение кому-то, где излагал формальным слогом свои беды.
– …Через два года был я рукоположен. Но несчастия мои не оставляли меня. В 1849 году шестого марта, как теперь помню, приезжает к нам в К. генерал-лейтенант Лампасов. Приходит к нам в церковь. Я стоял из хорах, владыки не было. Феофан, казначей, отлучился к Софье Осиповне Труницыной (бывало… ну это я вам после расскажу). Начинаю я петь обедню. Спрашивает меня тенористый: «Как вы, Егор Прохорыч, прикажете – стихиры петь или читать?» Отвечаю: «На девятый глас пойте». Все шло хорошо. Только, забывшись, я вдруг к запел: Свете тихий.Наш же поп, который теперь расстрижен, из южных дверей кричит: «Дурак! замолчи!» Разогорчен был этим генерал Лампасов и тотчас пообещался довести до сведения. И вдруг я внезапно узнаю: в консисторию спущена резолюция: «удалить Егора Смягина по нестерпимому его поведению, лишив ношения рясы».
– Вот те на! – протянул живописец.
Спутник его на это только крякнул и, помолчав, продолжал:
– Поехал я на дьячковскую вакансию в село Голенищи. Живу полгода, ограничил себя во всех похотствованиях своих, а потом являюсь в К. с просьбою к самому: «разрешить меня, оставляя на дьячковской вакансии по доходам». Спущает резолюцию: «Узнать, как он себя вел…» Но так как благочинный Зерцалов не рожден для добра, то и отвечает: «по дошедшим до меня слухам – не совершенно добропорядочно…» Спущает резолюцию: «воротить в Голенищи!» Падаю я в ноги и молю: «не терзайте меня или же уничтожьте». – «Ступай вон!» говорит…
Настало небольшое молчание. Спутник живописца поправился на своем ложе и снова, смотря в потолок, ровным форменным слогом продолжал:
– Сидя в Голенищах, по возвращении, за столом у крестьянина Никифора Степанова, не стал я водки пить… Тут же благочинный Зерцалов сидел, праздник какой-то был. «Что же, – сказал Зерцалов с ироническою улыбкою в лице, – или вы не хотите теперь водки пить?» – намекая тем, как меня поперли под его начало на смирение… Меня взорвало. Беру стакан и говорю хозяину: «Налей!» Взявши стакан в руки, говорю мучителю моему: «Неужели же ты думаешь, что я боюсь тебя? но твое безумие побудило меня, чтобы я пил!» Выпивши, говорю: «Ты кончил курс, а забыл, что не всякому слуху верь!» На это отвечал он: «По-нашему гнуть, так гнуть». Я же отвечал: «Ваше благочиние! ведь я знаю, как дуги гнуть. Их нужно распарить, а не вдруг… а не то ведь соскочит да в рожу…» С тех пор началась у нас вражда, доколе меня не порешили…
Тянулось долгое молчание. Живописец часто вздыхал, прибавляя: «Боже, боже…» Спутник его тоже вздыхал, но редко и глубоко.
– Ну, что же, – спросил, наконец, живописец. – Как это вас всего-то порешили?
– Через клевету… Оклеветали меня в убийстве жены.
– А-а-а!
– Да-с. Точно что, не запираюсь, в унынии и горести моей, бывало, бивал я ее жестоко. Не утаю ни от кого, колачивал. Но на сей раз, то есть насчет убийства, перед богом и перед людьми покаюсь – чист! Случилось дело через это подлое вино. Надо по совести сказать – оба мы с женой придерживались его. Она даже жесточе меня… Через это и случилось. Видите ли, я был у помещика, у господина Басова, и испросил у него десять рублей серебром, намереваясь купить якобы сруб. По дороге, проезжая мимо знакомого кабака, купил я винца полведра для рабочих плотников; штоф же отдельно для семейства – для себя и супруги моей. Дорогою я, признаться, из штофа примерно перстов на двенадцать отпил, да близ деревни еще немножечко глотнул, так что собственно штоф я выпил весь, ведро же доставил в целости. Время было осеннее, в избе холод и темно; под вечер жена моя лежит на постели и охает. Телосложение она имела тщедушное… Я с любовью подхожу к ней и вдруг чувствую спиртный запах. «Что с тобой?» В ответ на это спрашивает она меня: «Что это?» – «Вино». – «Дай, христа ради!» Дал я ей чайную чашечку и повел лошадь к дьячку. Возвращаюсь домой не более как чрез несколько минут и вижу: жена лежит без чувств на полу, чашка около нее валяется, и ведро это самое откупорено… Ужас объял меня! Стал я на нее со свечкой смотреть: рот раскрыла, губы черные, так и пышет вином, ровно бы пламенем. С жалостью перенес я ее без чувств на кровать. Спрашиваю у работницы: что с ней?.. «Они, говорит, десять чашек выпили». Тут я с горя, не утаю, пил целую ночь до бела света. Наутро открывает жена глаза – никак не может открыть. Боль. «Что ты?» Только рукой чуть-чуть. Сожалея о ней, послал я полштоф и поднес ей чашечку… С жадностью выпила она. «Еще.. .»Я еще; да никак штук семь!.. Упала она и посинела вся. Как теперь помню, тоже был полдень – ни в деревне, ни в избе ни души не было, жара стояла нестерпимая. Сижу я у окна и думаю: господи! что же это я всю жизнь мою страдаю! Ни кола у меня, ни двора, ни хозяйства, только буйство одно и пьянство. С горя подзываю я мальчика маленького и прошу его добежать в кабак, – он приносит; к этому времени очнулась жена. Посадил я ее к окну; на столе промежду нас – полштоф. «Дай!» говорит. Я дал. Отпила она каплю, толкает – не надо. Через минуту опять: дай… Потом вдруг: ах, ах, ах!.. жжет, ах, жжет, – и тут она чашки четыре полных выпила; у самой глаза как угли. Начала пятую да как вскрикнет – кровь горлом… Бряк со стула, и дух вон… – Боже, господи, владыко! – в ужасе произнес живописец…
– Умерла?
– Умерла…
– Царь небесный!
– Ну, а потом все обвинение через родственников… Обидно было им, как ее потрошили…
– Потрошили?
– Как же, резали… Увидали кой-какие, например, ушибы, вывихи – убил. Я говорил судьям: «ваше высокоблагородие, все эти синяки и увечья получены ею в течение десятилетнего замужества, во время ее жизни, а не в день преставления…» Но не верили мне и судили. Присудили – лишить всего и сослать в монастырь на покаяние…
– Были?
– Был в трех. Но по чистой совести сказать – изгоняли меня.
– За что же?
– За нетрезвое поведение. Ведь я запоем…
– А-а-а!
– Да-да. Вот теперь месяца два воздерживался, а уж чувствую – сосет. Как бы господь дал до города добраться – всё подымут на улице где… А то боюсь, ну-кось где-нибудь посередь дороги схватит – сгниешь в канаве.
Спутник живописца, помолчав, прибавил:
– Да, признаться, чует мое сердце, что околеть мне скоро… Расслабел… С двух рюмок остервеняюсь. Околею…
Тягостное молчание.
– Боже; господи! Защити меня! – с чувством произнес рассказчик.
Молчание воцарилось снова. У самых дверей амбара долго пищали цыплята, слонявшиеся толпою за наседкой. Слышался звук бубенчика; где-то вдали звенел колокольчик.
– Дья-ввал! – орал мещанин на лошадь и хлестал ее кнутом.
– Вот вы, – заговорил живописец, – про родственников-то упомянули; то есть про родню…
– Да,
– Я тоже нагляделся на нее. То есть, на вашу духовную-то. Боже, какое ослепление!
– Нагляделись?
– Нагляделся… страсть! Вот я вам расскажу эту историю…
– Милые, – раздался голос у дверей, – что ж щец-то похлебаете?
– Надо бы, голубушка, – отвечали прохожие.
– Ну, ступайте. Иван! где этот дьявол, Иван?
Ивану в это время грезилось, как с него идет взыскание за ветер, за быка и проч. Судьи решают его освободить; Иван хочет поклониться в ноги, в это время раздается толчок в плечо.
– Аль ты оглох? – говорит хозяин. – Беги живей – полштоф, да проворней.
– Ссию минуту!
Иван пускается в кабак.
II
– Одно время, – рассказывал живописец после обеда, по-прежнему лежа в амбаре, – одно время был я в большой тягости: работы никакой, супруга померла, на руках малый ребенок да теща старуха… Сами судите, куда деться? Пить-есть надо; стал я в эту пору всяческие работы принимать, как ни горько было унизить свое художество. Случалось, чиновник забежит с разбитым глазом, ну за гривенничек ему синяк-то и загрунтуешь, потому опасается к начальству идти – с увечьем таись; а иной – вот тебе, скажет, Гаврилыч, четвертачок, поднови ты мне конуру собачью по византийскому рисунку. Ну и расцветишь ее. Просто горе было неописанное. Жил я в эту пору в глуши – у одной мещанки уголок брал, и тут же полон дом семинаристов напущен. Гам, шум – сами знаете, чай. Старшой – первое удовольствие в трактир; мелкота – в драку. Боже избави! Опять эти возрастные, окромя трактиру, беспременно с мещанками любовь заведут, те жаловаться к начальству – комедия. Тут я и признал одного человека – богослова; тихий, красивый, белый, высокий, волоса черные, курчавые… Очень добродушный был юноша. Бывало, придет: «Ах, говорит, Виктор Гаврилыч, какую я книгу читал!» – «Какую же-с?» спросишь. «Дивную», говорит… И потом: «Голубчик Виктор Гаврилыч, нарисуйте мне этакую картинку: вода, ракита… да лучше я вам прочту». И начнет. Я, признаться, толком-то не понимал, в чем тут сила, однако же, бывало, до слез растрогивался, на него глядя. Вижу я, начал он через тоску свою – в кабачок. Замечаю ему: «Что же это, говорю, Коля, – так неловко». – «Теперь, говорит, не буду… Вчера был в театре, и теперь не буду». И действительно, перестал; но заместо того каждый день в театр, каждый день в театр. Кажется, только один тулуп на плечах остался – все спустил. Дяденька у него был, в палате служил в одной; узнал он про это, явился и препорядочно-таки его распатронил. Шло так долго. Все он в театре, бывало, как нищий какой, местечка вымаливает постоять и каждый день домой часу в первом приходил. «Что это, говорю, Коля, ты этак-то шатаешься по ночам?» Тут он маленько в конфуз вошел, однако же рассказал мне, что втемяшилась ему в башку одна ахтерка. И что же, друг мой, он делал? Сейчас эту ахтерку от самого тиатру до дому провожает. Сначала, говорит, гнала его прочь, потом сжалилась – только, говорит, у фонаря не становись, чтобы публика не видала твоего авчинного безобразия. «Я, – говорит Николай-то, – стану в сторонке на углу – дожидаюсь… Подъедет, остановится: „садись…“» Ну, он обыкновенно сейчас на козлы, и всю дорогу – разговоры… «Иной раз, рассказывал, сколько выездим по городу-то…» Ну, что же, спрашиваю, к себе-то припущает ли? – Нет, не подпушает: только что ручку дает поцеловать. Тут ахтерка эта стала ему давать билет в раек. И уж так же он рад бывал, коли она глазком туды в рай-то к нему замахнет! Вижу, колеет мой малый – похудел. В тую ж пору один из братьев его женился, взял благородную, дворянку. Тут на радостях-то его, Николая-то, кой-как обшили, вид ему дали какой ни на есть и спервоначала – не очень-то лаяли на него. Однова прибежал он ко мне: «Хватай, говорит, краски – пойдем». Собрались мы духом; притащил он меня к братнину тестю в сарай, сейчас это сани, дрожки, которые были, прочь – «грунтуй, говорит, – театр строится; рисуй дерево, хижину, воду». Принялся я за работу, расписал ему стену в лучшем виде, даже так, что сам удивился. Декорации, какие надобились, тоже приуготовил; на занавески, по его приказанию, голубой краской пустил и золотом звезды разбросал – дивно! Подходит этот самый день, надо уж представленью начинаться: сует мне Николай в руку записку – беги, говорит, отдай этой камедианке-то самой и скажи, чтоб беспременно приходила: ей пропуск будет. Отдал я… Что же ты думаешь, друг, – пришла ведь! То есть как он обрадовался! Совершенно как сумасшедший стал.
Хорошо. Сыграли это – и он играл: преотлично, надо сказать, сыграли. Народу навалило тьма-тьмущая, семинаристы это, бабы разные, чиновники, то есть вся улица как есть привалила. Христа ради просят: позвольте в щелочку заглянуть. Уж и надорвали животики! Этакого смеху, кажется, в жизнь свою никто не видал. И любезная его тоже хохочет и в ладоши бьет. Много что-то они тут представляли – уж я теперь и не помню. Опосле того представления – к тестю, пить. Наш Коля пообгляделся маленько, видит: компания зачумела, – сейчас за шапку да к ней… да целую ночь и не бывал… Тут малый к этой бабе совсем присосался – и все ученье навыворот пошло.
Дальше да больше, дальше да больше – ан и подошло ему время семинарию кончать… Тогда стали ему родные говорить: «Ты, мол, Коля, теперича понапри в науку-то; старайся как можно…» Брат женатый говорит ему окромя того: «Ты знай, что быть тебе в монашеском звании, ибо за прежние успехи выхлопочем тебя в академию. Дослужишься, бог даст, у начальства получишь мнение и в архимандриты выйдешь».
– Братец! – говорит Николай-то, – я совсем по этому званию идти не могу, потому против души моей будет. Я желаю в ахтеры.
– А мы желаем в монахи.
Тут малый и сел! Сами посудите, какое же это соответствие? Стали его на две части рвать – стал малый убиваться и винцом маленько того… Подходит это самое последнее время – «ах, говорит, брошу я все эти книжки, авось, говорит, выгонят в шею»… Совсем бросил учиться, махнул рукой и в той надежде был, что исключат его или по третьему разряду выпустят; но, однако же, такого он ума обширного был, что все же и при нерадении в первых вышел… Весьма его это убило! Запивал он в ту пору уж препорядочно. А от бабы этой, любимицы-то, и не оторвешь его. Часто я туда ходил за ним, и, бывало, видишь, как она хлопочет – например, сейчас его на кровать, окно завесит, на цыпочках ходит… цссс… «почивают…» Бывало, станет мне говорить: «я, говорит, на своем веку видела мусской пол, не утаю; ну, только Колю мне пуще всех жаль – прост он и, окромя того, душу в себе имеет высокую. Да уж и любит же он меня! Куда ему в монахи!» Оно так по-настоящему и выходило. Между прочим съезжаются из деревень родственники за детьми, чтобы то есть на вакацию домой взять. Помню я один денек. Даже теперь страшно вспомнить, какую человек лютость в себе иметь может…
Собрались, помню, родственники Николая у женатого брата в комнате. Страсть народу! Все это в кураже, бурлит… Собралась вся эта компания провожать Колю в Москву, в академию. Все это орет, кричит; песни, ругательства, водка. Коля целый день как шальной ходил. Побледнел, похудел, словно год в лазарете вылежал. Назначено было ему ехать с капитаном Зверевым. Помню: капитан этот молодой, плотный, приземистый, рожа красная, усы черные и лысинка небольшая. Ходил нараспашку; панталоны широкие со складками и манишки черные носил. Сейчас пришел, шапку бросил в угол, подошел под благословение, честь-честью, потом водки дернул и начал рассказывать; поднялся хохот, опять закипели самовары, водка, песни, пошел в доме содом еще пуще… Жена Колина брата просит мужа: «Федор Лукич, побойся бога, когда все это кончится?» – «Поди прочь, не твое дело!» – «Который, говорит, день пьянство идет, господи!» А муж ей: «Дай ты мне, ради самого бога, хоть раз вздохнуть свободно!» Сидим мы с Колей. «Ну, прощай», говорю ему. «Я не поеду». – «Как?» – «Да так и не поеду совсем: я убегу». – «Нет, ты, говорю, этого не смей! потому от родных да бродягой в острог попадешь – хуже того». – «Нет, все же я не поеду; что хотят, то пусть и делают». А гости пируют по-прежнему. Тары да бары, хохот да водочка – настегались ребята в лучшем вкусе… У каждого в голове засеяно было здорово. А ямщик капитанский ждал-ждал: «что же, говорит, господа, надо ехать; этак до ночи в Марьино не попадем». Дадут ему водочки – ждет. Наконец даже и капитан вспомнил: «Пора, говорит, теперь помолиться с теплотою богу – и в путь! Где мой попутчик?» Отыскали Николая, привели в горницу. Стали молиться; иной поклонится в землю, потом вдруг и на бок и лежит, встать не может… Удивление!.. Начали прощаться… «Ну, Николай, – говорит старший брат, – целуй мою руку, потому я тебе второй отец. Ты меня должен в благодетелях считать. Целуй!» – «Я, – говорит Николай, – не поеду!..» – «Ка-ак??» Так все и заржали… «Вот мило! – говорит капитан… – Я, быть может, ста попутчикам отказал. Н-нет-с, я не позволю… Да как же ты это смел подумать?» Обступили малого со всех сторон, ругать всячески начали… Вижу, позеленел мой приятель да как гаркнет:
– Не хочу! Изверги! – и вон из комнаты…
Все за ним шарахнули, этакое ополчение! «Ка-ак, орут, нет, ты, брат, погоди!..» Забился бедняга от них в кухню: вижу я в дверь, бегает он около стола, кружит, а старший брат за ним с голиком, да все так в лицо-то ему этими корешками и тычет. Задохнулся малый, прижался в угол, лицо бледное, исцарапанное. «Убью!» говорит. А брат пуще того – по голове, по груди, по чем ни попади… Хотел было я за него вступиться, потому, истинно скажу тебе, друг, сердце на части разрывалось, но чиновник, брат Николаев, прикрикнул на меня и острогом погрозился. К старшему брату подоспела еще роденька, начали малого полыскать! Наконец он вырвался от них, в окно да опрометью в сад, в баню под полок забился. Опять же все за ним с дубинами, с метлами, с кочергами.
Стоим мы на крыльце: женщины, которые были, плачут; особливо, помню, тужила тетка его, жена брата чиновника, очень убивалась. Но капитан Зверев ее утешал и говорил: «Вы, сударыня, не извольте беспокоиться. Это дело совсем пустое». В бане, же между прочим только стон стоит… И слышу я, взвизгнул Николай, Ах, думаю, добили!..
И действительно вижу – ведут его под руки. Совсем малый без чувств. «Извозчик, кричат, подавай!» Подкатила телега, стали они его, словно куль с мукой, туда валить, «О-ох», стонет, а глаза открыть не может. Посмотрел я на него – боже мой! все лицо в синяках, из носу кровь… Сел потом капитан – «с богом!» Уехали. «Ну слава богу, – заговорили родственники, – по крайности выпроводили!» И стали опять винцо попивать.
Пошел я домой; иду по двору, и всё-то капли кровяные на камнях. И, кажется, сколько лет прошло, а я каждый камушек и теперича помню!..»
– Это что? – сказал спутник живописца таким тоном, в котором слышалось: «такие ли еще дела делаются». – Ну, что же потом с нею-то?..
– А с нею, друг мой, видишь ли что… Как уехал Николай-то в Москву, стала она об нем тосковать. Письма он ей писал всё грустные: утоплюсь, удавлюсь – эдакое все. Слухи прошли, бытто совсем потерялся он; иной раз сумасшествие на него находило. В Сухареву башню топиться ходил, всё этакие печали да горести до ей доходили. А тут, между прочим, есть нечего… ребенок… хлопоты, стеснения. За болезнею за своею театры эти она оставила, да, признаться, ее и не требовали больше туды – из лица она спала, обрюзгла, и игры той уж не было… Стала она, друг мой, горе мыкать. Прошел год, прошел другой, дела в Москве всё хуже да хуже; прошли потом слухи, бытто там какая-то посадская девчонка его яблоком заговоренным к себе приманила и стал бытто он еще горче запивать. Даже родные про него слухов в то время не имели, жив ли?..
Тут у ее такие тяжкие дела подошли… да опять же и то горе, – что покинул… такие, говорю, трудности, что сама она мне в ту пору говорила: «Право, говорит, я теперь на все готова… я, говорит, ей-богу, ни в одном месте не жалею себя». А тут к ней и подластился один человечек.
Был он какой-то советник, старичок; человек богатый, вдовый. Остался у него после смерти жены сын. Отец, кажется, всю жизнь свою положил в него, но вышел, заместо того, из этого сына как есть болван. Росту длинного, худой, шея журавлиная, язык заплетается… До двадцатого году достиг он от роду и только что умел домики рисовать… Как есть в полном комплекте олух. Отец же около него все старание прилагал, как бы люди на смех не подымали. Бывало – смех, ей-богу, – идут они по улице: сынок шею вытянет, руки как у мельницы ходят – умора; а отец глаз не спускает с этакой красоты. Идут-идут: «Стой!» Что такое? Пух на шляпе прилип… Сейчас обчищать. Или, случится, гуляют они по бульвару, народу видимо-невидимо; вдруг опять: «Стой!» – Начнет галстук сынку любезному перевязывать. Сам-то он росту маленького, а сын – эва, дылда; по этому случаю отец на цыпочки становится, а сын на коленки: уморушка, да и только. «По сторонам не глазеть, – шепчет ему отец. – Ты теперь в полном соку юноша, ты теперь должен стараться заслужить чью-нибудь любовь, то есть у женского пола, – это, говорит, даже и по медицине не грех в твои года». – «Слушаю-с, папенька», – это сынок-то. «Я в твои года, – продолжает отец, – был словно петушок… Так и следует! Только старайся отыскать к себе любовь истинную». – «Слушаю-с…»
Стал этот олух промежду женского полу увиваться, только хохот над ним раздается – никто на него и внимания обратить не хочет. Танцовать просит – никто не идет, потому одну барыню он так грохнул обземь – смерть просто. Попробовал на лошади зимой кататься – тоже не вышло, потому и так-то он с колокольню, а на лошади – это уж даже, если только посмотреть, и то опасно: высота беспредельная… Выехал на катанье – сколько ни было народу, все так со смеху покатились. Сконфузился малый; лошадь испужалась да в сторону, он брык, развел по воздуху ножищами словно рогатиной, да прямо так башкой и впился в снег… Ну уж с этого времени он и глаз не совал в публику. Между тем замечает отец, что сынок его еще пуще глупеть стал, еще пуще дурашней. Начал он думать, как бы это его с женским полом в знакомство ввесть, чтобы хоть к чему-нибудь он по крайней мере привязался. Тут и прослышал он про эту, про Глашу (камедианка-то), и начал он туда к ней с сыном похаживать. Девушка она была добрая, даже старику самому полюбилась. Начал он ей подарки делать, переселил в особую квартирку и просил ее усердно, чтобы она хоть малость внимания его сыну оказала, потому собственно, что тут из жалости дело шло. Глаша говорит: «Мне все равно теперь – что чорт, что дьявол». – «Согласны?» – «Согласна!» Поселил их старик вместе. В ту пору я часто к ней захаживал: сижу, бывало, в передней на оконнике и вижу его, этого олуха-то. Сидит он на диване, в полном костюме, расчесан, ручки сложил. «Что ж вы спать не ложитесь?» – скажет ему Глаша. «Спать? сейчас». И пойдет спать. А не скажи ему, сам не догадается. Останемся мы с ней вдвоем-то, а она все про Николая, только про него одного разговор у нас шел. Бывало, заплачет-заплачет, бедная!.. Ну да и что будешь делать-то? Каково в самом деле с сумасшедшим человеком-то жить! Жила она так с этим дураком никак с полгода места. На что уж трудны дела ее были, все-таки невмоготу ей стало себя продавать, отказалась она от него… «Не могу, хоть зарежьте!» – «Чем же вы, говорю, барышня, жить-то будете? они, господин советник, теперь вам помощь оказывают, а ведь тогда, поди-кось, своим-то трудом немного получите!..» – «Лучше я, говорит, издохну…» Так-таки и отпихнулась от него. Уж как же сам старик-то плакал, как убивался этим отказом, что и не пересказать мне вам. «Он, говорит, без вас, Глаша, совсем околеет…» Ну, Глаша обнаковенно ничего ему на это не могла присоветовать. Так и разошлись они. На прощанье старик всунул ей деньгами что-то много; она было не соглашалась, однако взяла.
Прошло так еще года с два. Подходит срок Николаю из академии выходить… Тут от него письмо получили – «еду», говорит… И приехал действительно вскорости, ну только совсем не тот. Горький пьяница!.. Дали ему в училище место; начал было сначала он туды ходить исправно, потом свихнул и запил. В эту пору он тоже уж запоем стегал. Только что приехал, Глашу отыскал. Она ему все подробно, что было… Ну Николай стал опять с ней жить, с родными рассорился, только уж прежнего-то не было!.. Н-нет! Не воротились развеселые деньки, слезовые времена наступили. Уж тут он даже и с любезной-то своей не ладил, случалось. Стал совсем другой человек, и горе-то другое у него было какое-то, только никто разобрать не мог – в чем оно?
Пил, пил, да с тем и ноги протянул… Всего, может, с год места пожил… Человек был!..»
Время между тем подходило к вечеру; после шести часов в воздухе начинала чувствоваться прохлада. Солнечные лучи потеряли свою полуденную жгучесть; но зато были необыкновенно светлы и ярки. Мещанин тихо съехал со двора, хриплым спросонок голосом распростившись с хозяйкой. Одинокий наездник с багровым от водки лицом сидел на крыльце, держась за столб, поддерживающий крылечную крышу; он иногда словно хотел встать, но тело его не слушалось. В ворота соседнего постоялого двора въезжала рогожная повозка, наполненная множеством женщин и детей. Хозяин постоялого двора шел за повозкой без шапки. Живописец и его спутник виднелись уже на конце поселка: они торопились засветло выбраться на большую дорогу. Жена наездника, несмотря на то, что муж ее был пьян мертвецки, с некоторым удовольствием смотрела на него.
«Ишь, – думала она, – муж-то; вот он».
Не с таким удовольствием взирал на наездника Иван; при виде фигуры хозяина он чувствовал некоторый страх, точно сознавал, что стоит над какой-то бездной, в которую полетит непременно; но что всего горше – Иван решительно не знал, когда он полетит туда и возможно ли избавиться от этой погибели?








