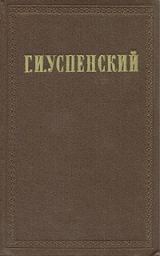
Текст книги "Том 2. Разоренье"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
И действительно случилось.
– Зарезал его учитель-то! – говорил его отец, чуть не плача, моей матушке, выходя в коридор.
– Что вы, родной?
– Именно зарезал! Не так! все не так!
– Да «дайте» вы ему… по силе, по мочи…
– Матушка моя, не имею! Семью оставил в деревне с рублем.
Иван Куприянов стоял при этом с опущенными в землю глазами, с дрожавшими, покрытыми мелом пальцами и с каплями пота на гладко выстриженной голове.
– Как же это ты, Ваня? – говорил отец. – Ведь знаешь ты… Как это ты?
Ваня глубоко-глубоко вздохнул.
– Возьми у меня, отец родной, – предложила моя мать: – не пропадут, – отдадите! Авось, не на веки вечные, ведь дети вместе будут…
– Благодетельница!..
– Бог вам поможет. Подите к учителю да спросите, как бы, мол, повидаться…
– Спасибо вам, мать родная! Как ваше имечко, матушка? – заливаясь слезами и едва слышным голосом говорил воин, знавший и черкесов, и поляков, и турок, и венгерцев.
Ивана Куприянова приняли в гимназию, и с этого дня он стал моим лучшим другом. Это был человек опытный в несчастиях, знавший, что жить на свете трудно и что слава богу, если не умрешь с голоду. Сидя в училище на лавке, в то время, как товарищи отвечали учителю выученный наизусть «Делибаш», он думал о том, что шинель, которую он носит теперь, можно к рождеству отдать маленькому братишке; считал, сколько будет стоить переделка, кому отдать подешевле, и когда очередь доходила до него, он поднимался и исправно читал наизусть «Делибаш». Окончив отцу письмо, в котором напрасно бы стали мы искать просьбы взять на праздник, беречь щенков, оставленных дома, и проч., в котором, напротив, все – дело и горе, в котором прилагается рубль, вырученный за уроки, извещается, что полтинник оставляется на пуговицы, которые оборвались и за которые начальство строго взыскивает, – окончив это полное забот письмо, Иван Куприянов принимался писать к следующему уроку сочинение на тему «О спящем младенце», причем необходимо было выразить невинность спящего младенца и перенестись к его будущему, которое должно быть прекрасно, и притом изобразить так, чтобы было поболее придаточных предложений. Необъятного труда стоило ему сочинять заданную ахинею – ему, знавшему сон младенца без придаточных предложений розового цвета; но он писал это, воротил, потел целые ночи, потому что это нужно, надо; без этого плохо и просто нельзя жить на свете.
Когда, случалось, он приходил к нам по воскресеньям, я не мог надивиться его познаниям разных жизненных подробностей, в которых он смело мог конкурировать с моей матушкой, имевшей на плечах сорок лет. Со мной, исправнейшим уличным мальчишкой, ему не о чем было толковать: – любимым собеседником его была матушка. В разговорах их постоянно слышались слова: «трудно», да «надо», да «нельзя», да вздохи.
– Теперь вот сестре уж четырнадцатый год пошел, а образования ей не дано, – говорит Ваня: – потому когда подавали прошение об определении ее, не вышло лет, нехватило два года и семь месяцев три дня, из Петербурга ответили отказом, а потом не с чем было ехать, потому – отцу не разрешено было перейти в – ский полк, который стоял в губернском городе.
– Да просили бы! – говорит матушка.
– Да уж просили. Отказано. Пропущен срок.
С этим семейным бременем на плечах, тяжесть которого в будущем должна была увеличиться во сто раз, ибо отец Вани Куприянова был плох, утомлен и страдал от ран, – с этими-то семейными заботами Ваня Куприянов родился, учился в гимназии, в университете, и везде, дорожа жизнью своей семьи, которая должна была остаться на его попечении, и не имея права подвергать несчастным случайностям жизнь родных ему людей, которые на своем веку вынесли слишком много, он должен был покоряться тому, что «можно», и учился знать, что то, что «нельзя», – нельзя. Поэтому-то в гимназии он учил аккуратно глупые и скучные учебники, отвечая на ни на что и никому не нужные вопросы учителей, хотя сам понимал жизнь больше всех учебников. В университете аккуратно держал экзамены, не имея силы отличаться и рассчитывая получить ровно столько баллов, чтобы аккуратно хватало для права более или менее свободно дышать на белом свете.
Я не видал этого мальчика с отъезда его в университет, куда он поехал на кровные деньги, добытые кровным трудом на уроках у купцов, плативших не больше трех рублей в месяц; денег этих было скоплено ровно столько, чтобы не умереть с голоду в дороге, а для продовольствия в столице необходимо было начать с первого же дня по приезде вновь трудиться, шагать из конца в конец за рублем. Жизнь эта была воистину мученическая. Но вот она кончилась, и Куприянов уже два года прокармливает семью скромным жалованьем судебного следователя; уже два года он, не зная ни сочувствия, ни несочувствия, вымеривает утопленников, засовывает пальцы в раскроенные мозги, обозначает глубину и силу нанесенного «прохожим молодцом» удара, спрашивает о вере, о количестве лет и сажает в тюрьмы и остроги и т. д. Словом, делает свое дело и прокармливает семью. Бесстрастие его в этих делах изумительно. Переведенный в наш город, он случайно встретил меня на улице, и я едва узнал его. Это был худой, сухой и совершенно скучный человек, с каким-то сухим надорванным голосом, ничему не удивляющийся, ничего не ожидающий. Обстановка моего жилища с клетью, курами и прочими атрибутами, весьма заинтересовавшая Павлушу Хлебникова, не произвела на него никакого впечатления; казалось, какие бы ему обстановки ни попадались, для него все равно, потому что над всеми обстановками висит что-то такое, чего ни я, ни он предвидеть не в состоянии. Визит его ко мне был очень странен: я не был чиновник, не знал, о чем говорить с ним; он тоже не знал, о чем завести речь со мной, так что мы преисправно помалчивали.
– Это у тебя не кассационные ли решения? – проговорил он, потягиваясь к толстому «Соннику», только что приобретенному матушкою.
– Нет, брат, – сказал я: – не кассационные.
– А! – произнес он и стал собираться домой.
Я его не удерживал. Но спустя некоторое время, как-то совершенно нечаянно, я зашел к нему сам. На каждом шагу лежали разные законы и вороха дел. Он объявил мне, что, быть может, скоро придется получить место товарища прокурора, и поэтому-то он набрал разных дел, чтобы практиковаться. По стенам были развешаны окровавленные обухи, которыми производились убийства, окровавленные дубины с прилипшими волосами, висела кровавая рубашка и т. д. На полу были разломанные сундуки, на столе замки с уголовными взломами, словом – весьма много оригинальных украшений. Заглавия дел, валявшихся на столе, были тоже крайне любопытны. Тут были дела о солдате Стратилатове, жаловавшемся на обвес егопри покупке свинины мещанином Уховостровым. Солдат дошел в искании правды до сената. Было тут дело: «Об обнаружении бутылки с малиновой наливкой на постоялом дворе крестьянина Бунтовщикова»; дело: «О бессрочно-отпускном рядовом Бесхвостове, обвиняемом в имении при кабаке другой комнаты» и т. д. Все это были «дела».
Я развернул дело о двух комнатах, которые дозволил себе шельмец-солдат и которые с дьявольскою проницательностью открыло акцизное управление, и увидел, что солдат навострился ловко надувать начальство.
– Признаете ли вы себя виновным? – спросил его председатель мирового съезда.
– Нет! – отвечал солдат без зазрения совести. – Эко беда какая, вашебродие, что две каморки я по грехам моим обладил.
– Вы потрудитесь не уклоняться от прямого ответа, – заметили ему.
– Я как пред богом! – говорил солдат. – Какая она комната? – каморка. Там всего и есть, что сундук стоит с дрянью со всякою. Перед истинным богом!
Но в одной из толстых книг, лежавших на столе съезда, был пунктик, который давно уже предвидел суетную солдатскую мысль, пунктик о соответственном наказании, каковому солдат и подвергся.
Солдат этот, как оказалось в конце дела, тоже пошел искать правды в сенате.
Крестьянин Бунтовщиков, у которого «обнаружена» была бутыль с наливкой, тоже, каналья, себя виновным не признавал и ударился за правдою в съезд, а потом тоже в сенат.
Разговоры между нами в этот визит были плохи. Иван Куприянов даже не смеялся тому, например, что крестьянин Бунтовщиков или солдат не признавали себя виновными и достигали сената из-за бутылки и из-за свинины.
Пришел какой-то гость, поздоровался и тоже стал рыться в законах, нет ли каких-нибудь кассационных решений.
– Сам никак не найду, – сказал хозяин.
– Эка жалость! А мне было надо.
– Что у вас дело, что ли, какое?
– Да есть маленькое… оскорбление… Один повар сдернул кучера с лавки за ногу.
– А!..
Будучи посторонним свидетелем этих разговоров, я испытывал необыкновенную скуку и наверное не посмел бы, ради ее, в другой раз посетить моего приятеля, если бы сам он не явился ко мне и не сделал предложения проехать с ним недалеко в одну подгородную деревню, где у него было дельце.
– Страшно надоело одному…
Я в первый раз видел, что он скучен, и, признаюсь, немало удивился. На предложение ехать я согласился. Чрез несколько часов приятель мой подъехал к моему домишку в тарантасе на тройке земских лошадей, и мы поехали. Со времени первого моего путешествия прошло несколько лет, в течение которых было достаточно времени образумиться возмечтавшему о себе мужичью и научиться «исполнять времена» без запинки. Думая так, я крайне интересовался, в какие формы могло выработаться его поведение, и в этом смысле мне удалось быть свидетелем одной истории, которую я теперь и расскажу так, как она обрисовалась мне вся целиком.
VI
В тот самый день, когда я и следователь приехали в село Стрешнево производить дознание по какому-то дельцу, священник этого села уезжал на некоторое время вместе с женой к соседу родственнику, тоже священнику, а ребенка своего, оставшегося дома, поручил старушке дьячихе. Старушка дьячиха, недавно выдавшая дочь за молодого дьячка, которому муж старушки, старый дьячок, сдал место при жизни, не решаясь объедать молодую семью, кормившую ее мужа, проживала то у священника, то у дьякона, то денек-два у господ, лишь бы только «им» было хорошо. Но «им» вовсе хорошо не было. Почти с самой свадьбы старый и молодой дьячки начали ссору, нередко переходившую в драку, причем совершенно неповинно страдала дочь старухи: на нее сыпались удары с обеих сторон – и от отца и от мужа, которые к тому же оба придерживались крепкого напитка. Сердце старушки давно болело за свое детище, и в голове ее тысячу раз рождалось намерение увезти свою дочь куда-нибудь подальше от этих извергов. В тот день, когда она осталась в доме священника нянчить ребенка, драка в ее семье достигала гигантских размеров. Замечательно при этом для характеристики нового времени: оба дьячка, нанося друг другу удары по головам скалками и горшками, кричали при этом: «Нет, не товремя!.. Нет, брат, теперь не то!..» Понимая сущность не тоговремени, очевидно, различно, они тем не менее находили в драке и поволочке общую исходную точку. Время было летнее, жара страшная; окна поповского дома были отворены, и драка и крики подгулявших дьячков, смешанные с воплями несчастной дочери, громом разбивающихся горшков, вылетающих стекол и т. п., были ясно слышны старушке, и она заливалась слезами, не знала, куда деться, как спасти детище. На этот раз ей нельзя было даже побежать к ней, потому что на руках ее был чужой ребенок. Намучившись, наплакавшись и не видя конца драке и воплям дочери, она почти в полном беспамятстве выхватила из шкафа священника пять целковых, положенные на ее глазах перед отъездом, и, оставив ребенка, бросилась к дочери с тем, чтобы непременно увезти в город и спасти хоть ее, не рассуждая о себе.
Пять рублей, предъявленные в дерущейся семье как явное доказательство того, что теперь с этими деньгами старушка непременно исполнит свое намерение увезти дочь в город, почти моментально прекратили драку, ибо хотя смысл возгласа «не то время», «теперь, брат, уж не то» – весьма таинственен с первого взгляда, но сущность его – бедность и голод и «есть нечего»… Поэтому-то пять рублей, как деньги, внезапно явившиеся среди старого и нового голода, которые потому можно употребить по благоусмотрению, и прекратили драку. Как только драка прекратилась, старушка опомнилась, пришла в себя, сообразила, что сделала худо, и вознамерилась тотчас же отнести деньги назад. Она бегом побежала в дом священника, который на ту пору воротился из гостей и не знал, что подумать: двери были росперты, ребенок сидел на полу и кричал во все горло; шкаф, в котором лежали деньги, отворен, и денег нет.
– Что ты это делаешь, Власьевна? Что это такое? – в изумлении и негодовании сказал священник старухе.
– Твоя во всем воля, виновата! Секите голову! – говорила старушка в изнеможении.
– Что ты с нами делаешь?
Поднялся шум, в котором принимала участие матушка и порядочное количество народу, сбежавшегося смотреть на драку.
– Не ждала я от тебя. Верь вот людям! – кричала она.
– Что такое, матушка? – спрашивали зрители.
– Да как же? оставили старуху, а она деньги вытащила из шкафа.
– Власьевна-то?
– Д-да-а! Власьевна! Ну-ка, думали ли, гадали ли?
– Ах-ах-ах!
– Секите, секите голову! – покорно твердила старушка, изнемогши от нравственной муки.
Когда дело о покраже разъяснилось, батюшка и матушка совершенно утихли, простили старушку, попросили даже у нее прощения; но весть о покраже уже разнеслась по селу. Все старушку знали давно за женщину добрую и честную, и при всем том вышло так, что жалость всеобщая ничего тут путного сделать не могла. Волостной старшина первый опомнился от обуревавших его душу сожаления и соболезнования к старушке и инстинктивно припоминал, что порядок что-то требует. Он знал, как намыливали шею за упущения, и дорожил жалованьем, ибо был мужик-чиновник – тип, нарождающийся по русским деревням.
– Как же быть, Иваныч? – сказал он писарю. – Надо как-нибудь…
– Надо-то надо, да жаль.
– Жаль, жаль. Да порядок-то, друг мой, требует. Что будешь делать!
– Что делать-то! Добрая старушка, нечего сказать, а во вред порядку – нельзя!
– Теперь мы ей помирволим, у нас пойдет и мужичье волочь что под руку попадется.
– Что тут делать? Надо!
– Что ж, бери бумаги-то. Пойдем к попу. Благо следователь здесь. Нам что? Свое сделал, а там пусть их что хотят… У нас спина-то одна.
– Надо идтить.
Несмотря на просьбы священника прекратить все это цело, старшина и писарь, почти со слезами на глазах, принялись писать протокол, а священник и его жена, тоже со слезами на глазах, принялись показывать против старухи.
– Секите, секите голову, отцы мои, виновна! – говорила старуха, рыдая.
– Виновна! Запиши, Пантелей, – говорил старшина писарю и прибавлял: – Матушка! душа у меня у самого разрывается на части! Али я тебя не знаю? Я еще тебе – как ты у меня второго ребенка принимала – не отплатил. Родная! Ничего не сделаешь. Пантелей, пиши – «со взломом».
– Боже мой! – восклицал писарь, настрачивая отличным почерком бумагу. – Что только делается… Со взломом! Да ведь это надо ее сажать в темную, боже!
– Боже мой! – восклицал старшина. – Посадишь! Посадишь! Ах ты, боже мой!
– Секите, рубите голову…
– Ах, боже мой! Собирайся, Власьевна! Кабы это я – это правило требует. И за что? О боже мой, боже мой…
Иван Куприянов приступил к этому делу с тем же сухим безразличием, которое составляет исключительную принадлежность людей, привыкших не разбирать своих личных симпатий.
– Неужели ты начнешь дело?.. – спросил я у Куприянова.
– Ни за что! – прервал он меня. – Пусть они (он указал на старшину и писаря) отнесутся формальной бумагой, иначе мне нет никакого дела.
Бумагу формальную написали, а Куприянов тотчас же составил «протокольчик», как он выразился. При всеобщих сожалениях к старухе и при точном и аккуратнейшем исполнении требований долга, ни в грош не ставящего этих сожалений, мы отбыли из села обратно в город, причем на вопросы мои, что будет со старухой, Куприянов отвечал:
– Уж там это дело прокурора. Я свое дело сделал, а там, что хотят, их дело.
Долго я не виделся с Куприяновым. Но мне хотелось знать кое-что о старухе, и через месяц я зашел кнему.
Куприянов встретил меня словами:
– Поздравь меня, я назначен товарищем прокурора.
Я поздравил. Объяснено было о количестве оклада, дальнейшей карьере и о прочем. Я выслушал все, но ничего не понимал.
– Ну, как старуха? – спросил я.
– Да! – вспомнил он. – Дело ее у меня.
– Послушай, брат, ведь жалко старуху-то?
– Да! ужасно жаль.
– Что же ты?
Куприянов пожал плечами и, помолчав, произнес:
– Надо будет написать «легонькое» обвиненьице.
– Обвиненьице?
– Да что же я могу? Посуди ты сам! Ведь со взломом!.. Что же я тут сделаю?.. Я и так избавил ее от ареста… Больше я не могу. Это уж будет дело присяжных…
Я слушал и молчал. Действительно, он ничего не мог сделать.
– Я и то стараюсь как можно легче. Вот что я написал. Слушай. – И, вынув лист, он прочел обвинительный акт старухи, в котором попадались слова: «преступное намерение, ясно обнаруживается, первое», «заранее обдуманное», «со взломом, а потому я полагал бы…»
– Ну? – сказал он, действительно в полной беспомощности и беззащитности относительно приведенных фраз, которых не писать он не мог, ибо других нет и нельзя.
Я не возражал.
Судить старуху, по расчету Куприянова, должны были не ранее, как через полгода.
Проведя эти полгода в уединении и обществе моих завалящих приятелей, я опять пошел к Куприянову.
– Поздравь меня! – сказал он: – теперь я бросил прокуратуру и поступил в присяжные поверенные.
– Поздравляю.
– Практика идет отличная. Недавно помирил двух помещиков и взял за это с них полторы тысячи.
– Хорошо, – сказал я.
– Теперь вон еще у меня есть дело…
– Погоди, – перебил я его. – А старуха?
– Теперь я ее защищаю…
– Вот как!
– Д-да! Теперь я ее защищаю…
– А обвиняет-то кто ж?
– Это уж не мое дело…
И точно, старуха была оправдана. Но смысл этой истории долго пугал меня и заставлял плотнее забиваться в свой угол. – Отчего? Не знаю я – хороши ли такие люди, не знаю я – нужны и важны ли такие дела…
Очерки и рассказы *
Будка
(Очерк)
I
На углу двух весьма глухих и бедных переулков уездного города стояла будка; физиономия ее походила на те беседки с колоннами и куполом, которые встречаются на лубочных изображениях иностранных вилл, причем обыкновенно впереди виллы, в воде, плавают два лебедя друг против друга, сзади видны деревья, а по дорожкам прогуливаются господа в шляпах набекрень, в черных фраках, дети с обручами и дамы с зонтиками на плече; походила она также на те храмы муз, которые обыкновенно изображают на занавесях провинциальных театров; такому сходству весьма способствовала старинная архитектура будки; она действительно была с колоннами и куполом, а каменные ободранные стены ее были круглы; но некоторые, по-видимому, весьма ничтожные вещи, как, например, измазанная дверь с клоками истерзанной рогожи и войлока, приземистая черная труба, венчавшая вершину купола, и в особенности жестяная алебарда, видневшаяся всегда у колонн, весьма красноречиво доказывали наблюдателю, что видимое им здание не есть храм муз, но есть кутузка или сибирка; тем более что громадные калоши будочника Мымрецова, набитые для тепла соломой и постоянно торчавшие перед будкой на улице, – ни в каком случае не могли напоминать лебедей, плавающих перед иностранною виллой.
На тоненьких почерневших колонках будки всегда трепетали по ветру какие-то писаные и печатные лоскутки, на которых значилось, что такого-то числа военные и гражданские чиновники приглашаются пожаловать в парадной форме… Что того же числа в мещанской управе будет происходить торг и переторжка на имущество мещанки Степаниды, состоящее из утюга и кровати, оцененных в тридцать копеек… Что в зале дворянского собрания имеет быть бал, почему благоволят надеть белые жилеты те, кои и т. д. Но страна, где стояла будка, не имела ни парадной формы, ни тридцати копеек, чтобы овладеть обольстительным имуществом Степаниды, ни, наконец, белых жилетов; и поэтому-то пропаганда будочника Мымрецова по исчисленным вопросам была совершенно ничтожна; закутавшись в казенную шубу, он, правда, постоянно торчал около той или другой колонки и, по-видимому, сторожил эти писаные и печатные лоскутки, но в сущности смысл и содержание их были ему известны ровно столько же, сколько и жестяной алебарде, которая тоже торчала рядом с Мымрецовым, только у другой колонки… Оба они пропагандировали нечто другое и, следовательно, недаром мерзли на ветру…
Будочник Мымрецов принадлежал к числу «неспособных», то есть людей, совершенно негодных в войске. Эти неспособные большею частию происходят или из обделенных природою белорусов, или из русачков северных бесхлебных и холодных губерний. Мачеха-природа и лебеда пополам с древесной корой, питающей их, загодя, со дня рождения, обрекает их быть илотами и богом убитыми людьми; она наделяет их непостижимою умственною неповоротливостию и все почти задавленные стремления человеческой природы сводит на жажду водки, которую они поглощают в громадных размерах; они умеют напиваться молча, не произнося ни единого слова; молча дерутся в кровь и, валяясь где-нибудь в глухом и безлюдном переулке, почти в беспамятстве умеют бормотать только одно: «виноват», ни на минуту не выпуская из скудного и запуганного воображения образ грозного начальства.
Начальство вообще панически действует на них; при виде его несчастные «неспособные» вытягиваются в струнку, замирают и задыхаются в воротнике, стянутом туго-натуго; виски, намазанные для праздника свиным салом, начинают потеть, а глаза получают способность пускать слезы. Кроме мачехи-природы, последние признаки человеческого существа из них выколачивает военная муштровка; в древние времена результаты ее отдавались у неспособных на скулах, под скулами, на спине и далее. «Муштра» комкала их, переламывала в нескольких направлениях, как какую-нибудь палку или доску, и, оставив в живых только косицы, намазанные свиным салом, сдавала в провинции на разные должности: в «хожалые», пожарные и проч. Воины эти, вступая на новый пост, непременно имели разные увечья и вывихи – разорванную в драке губу, выломанное ребро, ухабы и ямы в голове и спине; соединив эти приобретения с тем наследием природы, о котором уже упомянуто, они представлялись субъектами самого странного свойства; никто никогда не мог вдолбить им в голову чего-нибудь, не относящегося до их пожарной специальности, и, в свою очередь, тоже и от них нельзя было добиться чего-нибудь. Самый краткий разговор с таким существом всегда оканчивался тем, что начавший разговаривать прерывал речь, с ожесточением восклицая: – Да что ты? Ты оглох, что ли?..
Но субъект не оглох, он просто был «неспособный».
Будочник Мымрецов обладал всеми упомянутыми увечьями в полном объеме; все эти вывихи, переломы имелись у него даже в сверхкомплектном количестве, делая из него угрюмую, неповоротливую фигуру, весьма походившую на корень дерева, глубоко сидевший в земле и вывернутый оттуда силою бури; видно было, что тут происходило и упорство, с одной стороны, и сокрушительная сила, с другой; корень вывернут из земли, изувеченный и бездушный.
Несмотря на то, изувеченность и умственное оскудение были главною причиною того блистательного успеха, с которым Мымрецов занимал предназначенный ему пост, можно даже сказать наверное, что успех этот мог увеличиваться и возрастать по мере того, как течение времени и драк будет выхватывать у него новые ребра и делать новые ямы в голове Только при таких условиях раскраденный умственный капитал его, не развлекаясь никакими посторонними интересами, мог сосредоточиться и даже впиться в главные его обязанности; обязанности эти состояли в том, чтобы, во-первых, «тащить», а во-вторых, «не пущать»; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали. Словом, где только человек находился в положении, определяемом фразою «ни назад, ни вперед», там наверное Мымрецов принимал живейшее участие; говорят, что с течением времени Мымрецов до того въелся в это таскание, что в людях начал замечать только шивороты и этим отличал людей от бессловесных животных и неодушевленных предметов; поэтому-то Мымрецов и жестяная алебарда были представителями шиворотной пропаганды и, следовательно, недаром мерзли на ветру.
Забота о шиворотах поглотила все его существо, так что в ней, как в бездонной пропасти, почти бесследно исчезала последовательная нить его философии и свойства его как семьянина; о семейных отношениях его к супруге можно сказать, что он и жена жили не так, как живут кошка с собакой, потому что несходные качества этих животных совмещались в одной супруге, и Мымрецову осталась роль бесчувственного пня, на который могут брехать собаки и царапать лапами кошки, не надеясь получить в ответ ничего, кроме мертвого равнодушия и поплевываний в угол, и то вследствие приятного ощущения, доставляемого махоркой. Гробовое молчание и угрюмость решительно не давали возможности разглядеть в подробности все личные особенности Мымрецова; несокровенным было то, что он очень любил тютюн, услаждавший его в минуты отдыха, и что три денежки в сутки да ковриги казенного хлеба с нумерами на верхней корке, написанными мелом, поддерживали его изувеченное существование на славу множества шиворотов, и только; мрак угрюмости и молчания непроглядною пеленою покрывал тайну происхождения его других желаний и убеждений. Так, нам уже известно, что он умел, в качестве илота, напиваться молча; по праздничным дням он угрюмо шатался из двора во двор и везде лил в себя водку, не зная решительно границ этому литью и не подозревая, что желудок его не бездонная пропасть. Целые недели после этого он мучился грудью, поясницей, головой, но на следующий праздник история повторялась в том же порядке.
Такою же таинственностью покрыта его страсть копить серебряные пятачки. Почему он с лихорадочною жадностию завертывает тихомолком каждый пятачок в тысячу тряпок?
зачем так далеко прячет их в шерстяной чулок и засовывает потом под крыльцо? Неужели он думает нажить богатства и сокровища? Неужели об этих сокровищах он так усердно молит бога, оставшись вечерком один, не спускает с крошечного образочка своих глаз, падает на колени и так крепко, крепко бьет себя кулаком в грудь?..
Мымрецов объясняет эти молитвы и собирание пятачков тем, что скоро он пойдет в свою сторону: он дожидается только времени, когда перестанут у него ныть кости, руки и ноги…
Он ждет, пока у него отойдет хрипота в груди, мешающая ему свободно дышать, и тогда он непременно уйдет к своим…
II
Вообще таинственные свойства души Мымрецова совершенно необъяснимы, и мы, не имея права умозаключать о них, прямо переходим к его деятельности.
Деятельность эта, то есть таскание и хватание за шивороты, не прекращалась у Мымрецова ни на одну минуту: утром он обыкновенно отправлялся в часть и рапортовал начальству о своих успехах, излагая речь сообразно с своею изувеченностью и искалеченностью.
– Ну, – спрашивал его квартальный, перелистывая какие-то бумаги, – ты что же это там с бабами-то воюешь?
– Помилуйте, вашскобродие, я только что отпихнул ее от себя.
– Кого?
– Эту самую даму… Смоленскую..!
– Какую Смоленскую?
– Да которая, например, шельма самая… Гордеиха приказывает ее узять, а она говорит: «Я, говорит, с эстой дрянью не пойду». Она, вашскобродие, меня дрянью назвала…
– Ну?
– Ну, я ее отпихнул… говорю: «Ты мне не нужна!» А разодравши они были прежде… Я подбег, они уж разодравши были…
и уж глаз расшибли… в том числе…
– В каком числе?
– В числе драки-с.
– Черт тебя знает, что ты городишь! Посадил?
– Помилуйте!
– Ступай!
Обыкновенно дела шли таким образом, что Мымрецов не успевал возвратиться домой, как где-нибудь на пути к будке ему навертывалась практика; но иногда прямо из части он приходил в будку, расстегивал шинель и, сладостно поплевывая, курил тютюн. В эти минуты он не слыхал, как жена его, орудовавшая у печи, костила его по какому-то случаю и замахивалась на него ухватом: угрюмо и безмолвно наслаждался он махоркой; но когда махорка выгорала в трубке и Мымрецову предстояла необходимость ограничиться созерцанием возносимых над его головой ухватов, ему вдруг делалось скучно и тоскливо; выйдя на крыльцо, он тревожно поглядывал в одну и в другую сторону, ища поживы, снова возвращался в будку и начинал чувствовать, что у него болят руки, ноги, ноют кости… Ему непременно нужно было куда-нибудь торопиться, ловить что-нибудь или кого-нибудь. Судьба обыкновенно недолго держала его в таком томительном состоянии.
Вот отворилась дверь, в будку понесло холодом, и вслед за тем появилась фигура женщины в истертой синей шубейке, с лицом, облитым слезами и покрытым темными, словно чернильными, пятнами. Слез и пятен достаточно Мымрецову, чтобы увидеть под ними шиворот. Он начинает торопливо застегивать шинель и говорит:
– Где? – намекая тем на местопребывание шиворота.
Ему не нужно знать, почему и что? он давно убедился, что в этих слезах и синяках ничего не разберет сам черт.
– Ох, да недалечко, родной, – говорит старуха. – Туточко вот… к полю… Уж и наказал господь… О-ох!
– Потому, нам нельзя допущать дебошу, – торопливо говорит Мымрецов, надевая шапку. – Где тесак?
– Сократи ты его! Сделай твою милость…
– Палка где? Потому, мы не допущаем, коли ежели шум, например… Нам этого нельзя…
Палка найдена, и Мымрецов исчезает, куда призывает его долг, а будочница от нечего делать занимается исследованием причины синяков и слез; она знает все, что ни делается в окружности.
– Сынок аи нет? – спрашивает она старуху.
– Ох, нет, родная, не сын! Нету сыновьев-то! зять!
– Зя-ять?.. А то вот тоже у соседей поножовщина идет – ну, там сыновья!..
– Зять, зять, родная!.. Кровную детищу отдала – загубила. И ровно враг меня обошел, как отдавала-то я!.. За вдовца отдавала-то! конокрад, родная!.. Которые родные в то время случились, «что ты, говорят, делаешь? Что ты в гроб-то ее заживо кладешь?..» Дочку-то… Нет! Отдала… Прельщение от него уж очень большое было! «Век, говорит, кормить буду…
до смерти…» Искусилась, да вот и вою… Только что, господи благослови, повенчали их, ан гляжу – уж он ее…
При этом старуха сделала руками такой жест, как будто бы хотела представить, как полощут белье…
– Опосле этого-то он недолго ее помучил – в солдаты ушел, охотою… В те поры мы с дочкой-то всё бога молили, чтоб ему голову бы снесли прочь… Всё, бывало, черкесов да кизильбашей этих поминали в молитвах – не утаю, родимая! Остались мы с дочкой да ребенок – троечкою; дочка-то пошла по портомойней части, а я так, на старости, с ребенком… Сама знаешь, касатка, портомойную-то часть. Теперь возьми зимнее время – бесперечь на речке, у проруби, руки и ноги стынут, да опять целый божий день согнувшись – легко ли дело! Уж она, бывало, придет домой, в чем душа… в чем только душенька!..








