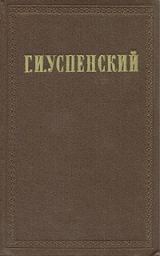
Текст книги "Том 2. Разоренье"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
Тяжкое обязательство *
…Дождь только что миновал; по небу беспрерывно неслись толпы обессилевших жидких туч, которые изредка на быстром бегу своем роняли несколько капель на землю, на гнилой подоконник моей каморки и проносились мимо. В открытое окно иногда врывались волны сырого вечернего ветра, шевелили какую-то бумажку на столе и поталкивали тоже гнилую с выболтавшимся замком дверь. Дело происходило на беднейшем постоялом дворе беднейшего уездного города; я сидел на жестком неудобном диване, слушал, как замирает ворчанье кособокого самовара, пошатывавшегося от ветру на кособоком железном подносе, курил и, кажется, ни о чем не думал. В окно виднелся плетень, за колья которого хватается какой-то солдат, намеревающийся пробраться сухой тропинкой и не попасть в грязь… За забором, где-то вдали, видна какая-то мокрая соломенная крыша, две промокшие вороны с глухим карканьем поднялись было над нею, но тотчас же и возвратились в свои норы… За мокрой соломенной крышей – тучи и тучи… Тяжесть какая-то, которую испытываешь именно только под влиянием этих крыш, ворон, грязи и разоренья, веющего от всякой русской глуши, наваливалась на меня вместе с темнотою, сумраком дождливого летнего вечера… Бесконечным каким-то одиночеством веял и этот сырой молчаливый ветер и полузаглохшая комната постоялого двора…
– Откушали чай, батюшка? – с кашлем спросила меня ветхая и грязная старуха, входя в комнату.
– Убирай! – сказал я.
Старуха стала осторожно подходить к самовару, стараясь как можно аккуратнее ступать своими большими мужичьими сапогами. Покашливая и тяжело дыша, причем в груди ее что-то хрипело, напоминая испорченные деревенские часы, стала она убирать чашки, собирать с окна и стола ложечки и блюдцы в одно место, и в это время я заметил, что она как будто плачет: несколько раз она касалась концом грязного фартука своих глаз и как будто бы слегка всхлипывала. Сначала мне показалось, что это с холоду; но когда старуха утерла фартуком нос, то я уже не сомневался, что она плачет, ибо она так обошлась со своим носом, как это делают только горько плачущие люди.
Слезы старухи, благодаря грустному расположению духа, навеянному вечером, погодой и обстановкой комнаты, тотчас же отдались во мне.
– Ты о чем плачешь? – спросил я.
Старуха всхлипывала и, не отвечая мне, перебирала блюдцы и ложечки… Я думал, что это сердитая, должно быть, старуха, что она не ответит мне, и не повторил моего вопроса; но она, помолчавши несколько секунд, как-то отрывисто, захлебнувшись слезами, сказала:
– Жалко!..
И тотчас же опять утерла нос.
– Кого же тебе жалко? – спросил я.
– Да барыню свою очень жаль!
Корявые пальцы старухи не позволяли ей сразу справиться с чайным прибором; она попробовала было взять чашки, и поднос, и самовар – все вместе, но с подноса и блюдечка вдруг полилась на пол и стол вода; старуха принуждена была снова поставить все на прежнее место и стараться принять посуду как-нибудь на другой манер, поудобнее…
– Погляди-кось, – бормотала она, – как заливается-то, головушка!.. Глянешь, глянешь на нее, да и сама в слезы… Головушка бедная!.. Чать, видел, недавишь повозка тутотко проехала?..
– Видел!
– Ну – барыня это… Я – ее крепостная бывшая, сорок пять годов у ее выжила… мне это известно, какая у нее ангельская душа… Как увижу – кажется бы, в гроб мне легче лечь, нежели чем муку ее видеть… Вон теперче в город едет – поди-кось, полюбуйся, каково сладко причитает!..
– Да что такое с ней случилось?
– Да вотто, вот, что погубили ее!.. Разбойник один, мошенник! Больше ему и звания нету – душегуб. Чтоб ему и с чугуном-то со своим – чугунную, вишь, дорогу вел, через барыню, через землю… Кто ж его знал, кровопийцу? Ему в душу не влезешь, тоже чиновник прозывается… «Кто вы такие будете?» – «Я, говорит, путей сообщения.. .»
– Кто?
– Путей, говорит, сообщения… «Какое ваше будет звание?» тоже как у доброго человека спрашиваем… А какое его звание? Чорт! Вот ему и чин его весь, прости господи.
Старуха, видимо, была рассержена. Она несколько раз обхватывала рукой самовар, чтобы унести; но негодование до тоге было сильно, что его требовалось разрешить не исполнением своих обязанностей, а чем-нибудь посторонним – обстоятельным разговором, чьим-нибудь участием…
– Что такое? обидел он ее в чем-нибудь? – спросил я.
Старуха как будто бы не слышала моего вопроса и с сердцем сказала:
– Кабы на вас, на мужчин, управа была, а то нету управы-то на вас!.. Вот из-за чего!.. С нами, с женщинами, – так нельзя! У нас от покойника, от барыниного мужа, бумага была особенная, гербовая… чтобы ни боже мой – замуж не выходить… «Хоша я и умираю, отхожу, ну чтобы супруга моя была зачислена за мной, за упокойником, но ежели, когда ежели она замуж посмеет… Чтобы вдовела бесприменно по честности своей… А то всего имущества, которое, например, имение, – то я ее всего лишу…» Видишь вот? Так нам нельзя было себя допущать… Нам это невозможно как-нибудь… У нас первое дело – контракт баринов, а второе дело – стыд; так мы с барыней-то ровно на цепях были привязаны, как собаки какие… И мой-то муж в отлучке в Бисарабии был… Так-то, родной!.. Так уж мы как старались!.. Барыня, молодая, я женщина в ту пору молодая была, – как беспокоились-то!.. У нас, бывало, все окна занавешены, все двери на запорах, на крюках железных, заборы эво какими гвоздищами оковали… Нам нельзя как-нибудь себя допускать, мы женщины… И что ж? Слава богу было!.. Запремся на крюки, на запоры, всего у нас довольно, сидим мы, чаек попиваем, сердце у нас веселое, потому думаем: «Вот мы, слава богу, по честности живем, закон супругов соблюдаем», и таково нам чудесно, легко… А чуть ежели – сейчас мы панихиду по покойнику… Часто у нас служение было… Жили мы честно, благородно и век бы свековали, коли бы этого путей сообщения не принесло… Ох, уж и накажет его бог!
– Да что же такое он сделал?
– Тьфу! вот что!.. Ну позвольте вас спросить, ну вот вы проезжающий господин, ну что же хорошо это, ежели прийти к человеку в дом, к женщине, да прямо этак-то вот и завалиться где ни попадя?.. Ну что это – порядок? Как же, сидим мы – осенью было дело; заперлись, заколотились наглухо; пьем чай, думаем о своей участи – вдруг в сенцах: стук, стук, грох-грох. – Господи-батюшка, кому быть об эту пору – время позднее, жили мы в деревне – ну-ко да лихой человек, бессовестный вор-разбойник? Как нам быть? Дрожим, молитвы творим; мало-мало погодя – грох-грох-грох! Что ты будешь делать? Как нам мужчину впустить?
– Почему ты узнала, что это мужчина стучится?
Старуха на минуту остановилась, но тотчас же с особенной явственностью проговорила:
– Потому мы кажинную минуту за свое женское благолепие опасались… Вот отчего, друг ты мой! Как почал он громыхать – громыхал, громыхал – вижу я, надыть пойти узнать… Пошла я, спрашиваю: «Кто вы такие? Что вы нас, женщин, смущаете? Как нам можно мужчину к себе, к женщинам, допущать, коли мы не можем… Нам это невозможно». – «Сделайте милость, Христа ради! Где угодно, хоть в сенцы, хоть в кухню…» Так упрашивал, так упрашивал, Христом богом молил… дрожали мы, дрожали, думали – «сем пустим?» Положили мы с барыней так, что запрем его на пять замков в кухню, – и пустили!.. Тут и спокою конец!
Рассказчица только руками развела и замолкла.
– Что же он – буян, пьяница?
– Ни-ни-ни! Этого нет, что греха таить – не было этого… Человек смирный, сырой, тихий – дитя малое… Как пришел – сюртук узенький, пуговицы светлые (в одном сюртучишке пришел), руки длинные, полный, настоящий медведь, и голова-то у него курчавая… Пришел он и осматривается: куда, мол, меня? «В кухню, говорю, пожалуйте, потому мы – женщины, нам нельзя себя допущать.. .»Ни слова не сказал, пришел в кухню, прямо на лавку – так во всем облачении и лег; и шапка в руках. Заперла я его здесь на два замка, все углы крестами осенила, окрестила – пошла к барыне, говорю: «наглухо заперла сообщения!!» Вот хорошо. Сидим мы с барыней – думаем, что это серый волк голосу нам не подает? Стало нам в голову все нехорошее приходить: – кабы не поджег, да не вор ли?.. Все такое. «Вот что, Арина, говорит барыня: мы – женщины, нам нельзя мужчину так оставлять… Бог его знает, что у него на уме? Надо нам его караулить. Лучше же мы его в горнице положим, по крайности он на глазах…» Пошла я к нему, разбудила, говорю: «Мы – женщины, нам невозможно вас без присмотру оставить, бог вас знает, что у вас на уме… Пожалуйте в горницу!..» Встал, пришел, молчит. Постлали мы ему на диване, сами целую ночь глаз сомкнуть не могли: одна – у одних дверей легла, другая – у других. Потому сам ты посуди! Хорошо это? Целехонькую ночь мы всё опасались… На утро, сударик ты мой, иду я к нему и говорю: «Извольте вставать. Кто придет, увидит мужчину, нам это невозможно, мы – женщины…» Лежит, с головой в одеяло завернулся, молчит… Молчал, молчал, высунул один глаз – шепчет: «Довольно я на своем веку на ветру да на морозе назябся, дозвольте мне кости мои успокоить… Я не молоденький… У меня кости ноют, нету мне приюта, назябся я…» Я говорю: «Нет, уж вы, говорю, сделайте милость; вы нас увольте… Мы женщины… Назябся, назябся, говорю; ну что же, ну пойду я да назябнусь; что ж, так мне и идти к мужчине в дом? Ну? Нешто хорошо это?» Молчал, молчал, высунул один глаз из-под одеяла, говорит: «Довольно я на своем веку земли ногами моими вымерил; довольно я с шестом по полям исходил. Дозвольте отдыху…» – «Ах, мои батюшки, говорю, с шестом, с шестом! Ну пойду я да возьму шест, ну что же, хорошо это будет?» Так и так стараюсь его урезонить, моченьки моей нету!.. А он-то, голубчик ты мой, все эдакими же самыми словами: «Я бедный, несчастный, до старости дожил, утехи не видал… видеть я не могу мою должность… сжальтесь вы надо мной, я вас не обопью, не объем. Нету у меня угла, приюта…» Смотрю на него – страсть мне его жалко стало. Пошла к барыне, а уж она вся в слезах: «Погубил он меня. Сжалось мое сердце от него!.. На, отнеси ему халат мужнин. Ах, какой стыд через это!» – «Матушка, говорю, сем мы мужиков позовем – уволим его от нас!..» – «Нет, говорит, стыд пойдет, срам, мужчина был у вдовы…» – «Ну сем он у нас жильцом будет, вроде жильца?..» – «И – нет, говорит, контракт покойников… без куска хлеба останусь…» – «Что ж нам делать с ним, красавица ты моя?..» Молчит да заливается! Ах, тяжело нам было… Помутились мы в умах своих… Пошла я к сообщению, говорю: «Что ты с нами, с женщинами, делаешь?.. За что ты нас мучаешь?» Высунул глаз, шепчет: «Нет ли покурить?» Я было ему хочу ответ дать – ан, слышу, барыня зовет: «На, говорит, отнеси ему трубку!» Сама горькими слезами заливается: «Ах, жалко, жалко мне его, жалко!..» Принесла трубку, говорю: «Как вы можете, господин, женщин утруждать? Путей вы сообщения, а завалились в чужие хоромы?» – «Нет ли водочки?» шепчет… Я было опять хотела, слышу, барыня: «На, отнеси!» Вся в слезах… Несу я водки – сама рыдаю… выпил он водки и сам зарыдал: «Не гоните меня… Я бога за вас буду молить… Дайте мне уголок…» И мы обливаемся: «Стыд… Срам… Контракт у нас… Мы – женщины…» Ах, большое рыдание у нас в ту пору было… Вот он чем нас погубил!..
– Чем же?
– Тем вот, что… Зачем он нас смутил?.. Зачем он пришел?
– Чем же он смутил-то?
– Чудак ты, купец! – сказала мне старуха. – Кажется, можем мы, женщины, человека полюбить? Ведь полюбили мы его, злодея! Зачем он, жалкий, пришел к нам!.. Сколько мы из-за него муки вынесли!.. Перво-наперво, как наплакались, стали мы за ним ходить: трубки ему набиваем, подаем чай, обед, ужин… Услуживаем, стараемся… Тихий, смирный: «покорно благодарю, дай бог вам» – это у него кажинное слово. Ну, сударик ты мой, помаленьку да помаленьку – привыкли к нему. Все молчит. Как мы к нему привыкли, в то время стало нам опять в голову этакое нехорошее вступать. Стали нам сны сниться. Ночью к барыне приходит покойник муж и говорит: «Ты намереваешься противу моего закона поступить? Так и тебя, голубушку…» Опять страх берет: ну-ко народ узнает – живет мужчина у вдовы… Страсть господня! Первое дело, сударик ты мой, – закон, второе дело – стыд… Что нам делать? Мучились, мучились мы, вот барыня раз и говорит: «Нет, говорит, Арина, – я свою совесть должна сохранить! Жалко, жалко мне его, голубчика – путей сообщения, но мы должны его уволить…» Тепериче как нам его уволить? Народ позвать стыдно. Как быть? Не вытерпела я, перекрестилась, думаю: «ну, буди воля господня!», пошла к нему и говорю: «Господин! Уходи ты от нас, бога ради! Ступай, бог с тобой! Оставь нас! Будь жалостлив!» – «Куда я пойду?» – «Иди, куда хочешь, нам нельзя!» И расписала ему все, и про покойника, и про бумагу, все ему доказала. «Иди, батюшка! Иди, оставь нас!..» Умоляю, а сама плачу; и он-то, сердечный, рыдает. Встал с дивана, надел шапку и пошел… Ни словечушка не говорит! Глядим мы в окно. Как был в своем сертучишке – так и пошел… И пошел прямо в лес… против дома у нас рощица была. Пошел в лес, и видно нам, как он постоял эдак недалечко от нас и лег. И не видать нам его! Лежит, сирота, на сырой земле… Плачем мы, а крепимся…. И обеды прошли, и вечерни, и уж смеркаться начало. Лежит!.. И тучи стали собираться – огонь пора зажигать… «Нет! говорит барыня, нету моих средствий! Он простудится; поди, приведи его!» Пошла я… То-то жалость-то! Лежит, бедняжечка, ручки сложил на грудке, глазушки закрыл – как бездыханен!.. «Ну, говорю, вставай, бессовестный! Растиранил ты нас! Вставай, поднимись хоть сам-то? Неужто мне, женщине, тебя на руках нести!» Поднялся, пошел… пришли. Он прямо барыне в ноги – ну, а та…. прямо ему на шею! Ну и мучаемся с тех пор…
– Чего ж мучиться-то?..
– А стыд-то? Ты думаешь, стыд-то ничего не стоит?..
– Так замуж выходила бы.
– Да ты, купец, – чудак! Ей-богу! Замуж!.. А пить-есть надо, по-твоему, али даром?.. Что ж я тебе говорила-то – бумагу упокойник оставил, гербовую. «Всего решу!. .»Ах ты какой, купец!.. Да разве что может женщина обязанная? Он – муж-то, во гробу лежит, а нам все одно, что он жив-живехонек… Мы уж и то к царю хотели просьбу подавать…
– О чем?
– Чтоб над нами запретили надсмешку… да опять жаловаться хотели…
– На кого жаловаться?
– На путей сообщения: зачем он нас помутил… Зачем он пришел, как боров растянулся, мы – женщины. Ну – рассоветовали. И ежели об эфтакой срамоте да в Петербург посылать, так это, друг ты мой, тогда и не оберешься стыду-то… Еще пуще зашутят… Так и оставили…
– Где же этот?
– Путей-то?
– Да…
– С ней, все с ней… Поди-кось, глянь на нее, как заливается-то… Полюбила, горькая… Э-х, упр-равы нету на вас!.. На мучителей женских!..
Старуха наговорила еще что-то в этом же роде и, наконец, ушла.
В комнате было совсем темно. Я закрыл окошко и, не зажигая свечи, улегся спать; но в воображении моем долго еще стоял странный образ мужа старухиной барыни, который, сходя в могилу, приготовляясь сделаться перстью земною, даже сделавшись уже этою перстью, все-таки имел дела с гражданской палатой, оставил на земле доселе действующие контракты и счел необходимым привязать к своему бренному праху несчастную, к великому горю – живую супругу свою…
На следующее утро, стоя на крыльце постоялого двора и утирая плачущие глаза фартуком, старуха провожала в дорогу свою барыню. К маленькому старомодному тарантасику дворник подводил какую-то приземистую и широкую женщину в куцем стареньком салопике; дворник был без шапки и оказывал этой женщине почтение, ибо это и была несчастная жертва путей сообщения. Широкое, слегка рябоватое лицо ее было орошено слезами; голова, украшенная большим чепцом с крупными и шевелившимися оборками, падала то на одно, то на другое плечо, как это бывает у женщин, идущих за покойником; и не мудрено – барыня влезала в тарантас, где уже сидел ее губитель и хищник. Это была массивная фигура, плотно закутавшаяся в довольно подержанную шинель. Воротник совершенно закрывал его лицо, обнаруживая только вершину его староватого картуза и часть козырька. По этим судорожною рукою натянутым складкам шинели у воротника, по его полуобороту к публике, стоявшей на крыльце, и вообще по всей его фигуре, видимо жавшейся в угол тарантаса, можно было видеть, что этот, по всей вероятности больной, тронувшийся человек хочет спрятаться от взоров, от глаз – не только публики постоялого двора, но и вообще людей…
Коротенькие ноги несчастной барыни, ослабленные, кроме того, трогательностью минуты, долго путались и не могли попасть на подножку, так что на помощь к дворнику должна была тронуться и старуха. Наконец дело уладилось при общей мертвой тишине зрителей и главных действующих лиц. Едва барыня поместилась рядом с любимым злодеем, как он еще более подался в угол, вытянулся так, что весьма напоминал собою длинный ящик, какие обыкновенно возят землемеры с астролябией.
– Вся в стыду! Вся-то, вся-то в стыду! – плакалась баба вслед уезжавшей барыне.
– Как-кая дама! – с соболезнованием говорил дворник, качая головой и возвращаясь из-за ворот. – Погубил разбойник ни за что, ни про что.
На постоялом дворе *
(Летние сцены)
I
Город О. как будто скучивался и словно оседал, по мере того как широкая лента шоссе спускалась на другую сторону пригородного холма. Исчезли два каменные старинной архитектуры столба с необыкновенно широкими основаниями и острыми вершинами, увенчанными местным гербом; по бокам шоссе тянулись еще загородные дворишки, лачуги, землянки… Близ дороги стояли маленькие столики, за которыми старые оборванные солдатки торговали квасом, калачами; с писком гнались эти бабы за проезжающими, вытягивая вперед руку с калачом; но тройки и перекладные пары стремглав проносились мимо их, и городские, проникнутые достаточным ухарством, ямщики, залихватски гуляя кнутом по ободранным спинам и бокам почтовых кляч, не упускали случая хлестнуть мимоходом и бабу с калачом.
Исчезла, наконец, последняя подгородная хибарка. От города виден только кончик соборного шпица – и целое море пыли повисло недвижимо в раскаленном полуденном воздухе. Исчез и шпиц. И пыль, висевшая над городом, исчезла…
Дорога. Идут богомольцы. Шоссе круто поворачивает налево, и тут же от самого изгиба его бежит старая столбовая дорога с ветлами в два ряда и с необыкновенно извилистым и узеньким проселком, извивающимся по всей ширине этой широкой зарастающей травою дороги. Проселок перебегает с одной стороны дороги на другую и чаще всего вьется под густыми ветвями ив; одинокие ивы разрослись и опустили чуть не до земли свои тревожно треплющиеся по ветру ветки; проезжий мужичонко нарочно прилег к телеге, чтобы не хлестнуло его; ветка не хлестнула, но тихо прошумела, пропуская между своими листьями и тощую клячу, и тощую телегу, и мужика. Кое-где густая сплошная масса зелени прорывается – видны попытки восстановить эти спасительные для пешеходов аллеи; но тощие и тонкие сучки, втиснутые в землю по приказанию начальства, в изнеможении попадали на землю, не имея возможности исполнить возложенной на них обязанности – давать путнику тень и прохладу. Кое-где валяется ветла, разбитая и опаленная молнией.
В полутора верстах от шоссейного поворота, по старой столбовой дороге, при начале довольно длинного леса расположился маленький поселок, состоящий из нескольких постоялых дворов, из которых иные очень зажиточны. По-видимому, в этой глуши на позабытой уже дороге не было никаких резонов существовать этому поселку – и притом еще существовать довольно весело (о чем свидетельствуют три кабака между шестью домами). Но оказывается, что резоны есть, и именно два: шлагбаум, или застава на шоссе, и непроходимый овраг на старой столбовой дороге. Шлагбаум тем содействовал процветанию поселка, что, пугая обозников разными взысканиями и пошлинами с лошади, с версты и проч., заставлял их объезжать лесом и старой дорогой; подгородные постоялые дворы поселка, не ломившие той цивилизованной цены за овес, сено и харчи, которую ломил город, привлекали сюда извозчиков, тем более что лошади, легко тащащие тяжелые возы по шоссе, смертельно уставали на мягкой дороге. Кроме обозников часто из прилеска ухарем выносилась почтовая тройка с офицером, тоже бежавшим узаконенной платы, – и в таких случаях все-таки поселку выпадала прибыль: празднуя свое избавление от шлагбаума, офицер и ямщик останавливались у кабака и подкреплялись. Такую же услугу оказывал поселку и овраг. Он пролегал по самой границе двух губерний, перерезывая собою большую столбовую дорогу, но моста через этот овраг, сколько запомнят столетние старики, не было никогда. Происходило это оттого, что мост нужно было строить натурою двум смежным деревням разных губерний. Дело всегда шло таким путем. Прежде нежели в чьей-нибудь голове рождалась мысль о необходимости моста, нужно было нескольким десяткам человек сломать себе шею и даже отдать богу душу. Результаты этих происшествий, путем разных инстанций, наконец доходили до центра той или другой губернии; центр убеждался в необходимости моста и сносился поэтому с другим губернским городом. Другой, смежный губернский город, не торопясь, делал дознание в местном волостном правлении: «действительно ли?» Местное волостное правление докладывало другому центру, что «действительно». Тогда оба губернские центры списывались и соглашались, что действительно мост необходим. После множества понуканий начиналось устройство моста натурою; но при этом случалось так, что одна губерния выводила свою половину тогда, когда первая этого не делала. Провалились еще несколько человек и повозок, и первый центр торопливо приступал к работам своей половины. Но в это время вторая уже сгнила и провалилась… Люди летели в бездну, следствия шли судебным порядком и т. д. Роковое место это было известно далеко, и скромные помещицы и, разные деревенские люди, проезжавшие в город по столбовой дороге, должны были делать большой конец, чтобы въехать на шоссе, и потом другой конец, чтобы избежать шлагбаума. Таким образом поселок процветал, и обыватели постоялых дворов его могли на досуге поддерживаться при существовании там кабака. Жизнь шла тихо, кое-как и не изобиловала ничем, выходящим из ряда вон. Такого же сорта будут и наши заметки об этом поселке.
* * *
Посреди поселка стоит дом русского мужика-барина, с такими признаками барства: железная крыша, а дыра в крыше заткнута соломой; комнаты большие с диванами красного дерева, но без подушек, с огромным барским зеркалом, в котором осталась только половина стекла; тут же «сляпанная» деревенским мужиком лавка, тут же и корыто с проросшим картофелем и с песком. На стене с лоскутками шпалер торчат лубочные картинки. Такое опустошение комнаты и вообще расстройство всего жилища, то есть раскрытые сараи, полное отсутствие замков там, где они необходимы, расколотые на дрова двери, сгнившие в две зимы рамы и проч., все это опустошение было произведено в самое короткое время «арендателем», которому настоящий хозяин сдал постоялый двор на два года. Хозяин, находившийся в это время в Петербурге в наездниках, был несказанно удивлен, увидав такое разорение.
Но он скоро успокоился, ибо столичная жизнь выучила его понимать всю силу выражения: «обвязался подпиской». Он был твердо уверен в силе воцарившейся законности, полагая, что законность эта непременно должна быть «против мужика», а к мужикам он теперь почему-то не причислял самого себя. Он служил наездником у какого-то графа, важные господа давали ему на чай, его рысаки получали призы, наконец чай и пиво он распивал не иначе, как с кучерами важных господ. Все это давало ему право думать, что он не мужик, а стало быть, и не может ни в чем проиграть по отношению к настоящему мужику-вахлаку. Вот почему он был совершенно спокоен, предоставляя себе право доказывать всему поселку, что петербургский человек целый день пьет и все-таки пьян не бывает; кроме этой способности, вынесенной из петербургской жизни, он в два года совершенно переродил свою внешность: клиновидная борода была тщательно подстрижена, почти под гребенку; лицо, обрюзгшее и отекшее от множества всякого рода чаев и питий, проглоченных им в столице, почернело, но сохраняло достоинство и гордость. На родине он не стеснялся костюмом: на голове был кожаный картуз, на плечах халат, ноги босиком. Глухая, под самое горло, жилетка и синие со складками штаны составляли весь его костюм. Немало также изменился он к жене. Пухлая баба в немецком платье не привлекала его взоров после столичных удовольствий; он даже был совершенно равнодушен к ее двухгодовому одиночеству, хотя и слышал, что что-то произошло этакое.
– Плевать! – говорил наездник.
Не торопясь взысканием с арендатора Ивана убытков, он целые дни только опохмеляется да посылает этого Ивана за водкой. То и дело слышится:
– Иван! Беги за полштофом! Марья! Давай деньги! Погоди, ребята, я вас разберу!.. Это отчего крыша разворочена?
– Крыша-то? – робко переспрашивает Иван, с испугу пред взысканием превратившийся в лакея. – Крыша, это, друг сердечный, – ветром. Ветром, братец мой.
– Я тебе не братец, а за ветер взыщу!
– За ветер-то?
– И за ветер и за каждую щепку!.. Ну да ладно! Беги в кабак-то! Живо!.. – И Иван, запыхавшись, бежал в кабак.
Приезжают к наезднику гости – старуха мать, какие-то развязные жилистые мещане – и опять раздается: «Иван! Беги! Марья! Давай деньги!..»
– Федор Кузьмич! – впопыхах беготни в кабак пытается спросить Иван у хозяина: – а вот насчет ворот как будет? Ведь гурт стоял, бык и высадил…
– Для меня и бык – все же ты! И ветер – ты, и бык – ты! Ну, живо! Не разговаривай!
– Ох ты, батюшки мои светы! – вздыхает Иван, пускаясь босиком с пустой бутылкой в руках.
А в «горнице» разоренного дома то и дело слышится:
– Кушайте, маменька! Будьте здоровы! Ну, будьте здоровы! Марья, налей! За ваше здоровье! С приездом! Еще по стаканчику!
И опять:
– Иван! Живо!
Полдень. Жара. К крыльцу постоялого двора подошли два прохожих. Один из них был длинный, сухощавый, с каким-то ящиком за спиной, поверх которого лежало свернутое узлом верхнее платье; прохожий был в одном расстегнутом жилете, широких шароварах и в калошах на босу ногу. Другой, видом походивший на монаха, или, вернее, на «расстригу», в каком-то подряснике и в ветхом военном картузе, был плотный ражий детина лет под пятьдесят, с толстым рябым лицом и черными как смоль волосами, загибавшимися кольцом за ухом. Он шел босиком с высокой палкой в руке.
– Нет ли где уголочка, друг? – заговорил сухощавый, обращаясь к Ивану. – Нам бы самое это полымя-то – жару передышать…
– С чаво ж, заходите.
– В холодок бы где…
– Я вас в амбар поселю.
– Пречудесно!
Иван неторопливо слез с крыльца и, шлепая сапожными опорками, повел их улицей в ворота.
– Вы откуда ж это идете-то?
– Я-то, – говорил сухощавый, – я недалеко… всего двадцать верст… У помещика, у господина Чекмарева, ежели слыхал…
– Чикмаря? знаю. Это в Богоявленском?
– Ну во!.. он самый. Ну, я у него в церкви там, по живописной части маленько потрудился.
– Стало быть, живописцы?
– Н-да-с… художники.
Иван привел прохожих в амбар, где было действительно свежо, хоть воздух был несколько неприятен.
– Ну вот, художники, вот бы вы тут как-нибудь.
– Мы с удовольствием. Мы подстелим что-нибудь… А ящик-то под голову.
– Это ящик что такое? живопись?
– Да, предметы к этому, тоись…
– Ну, а предметы под голову.
– Ладно, ладно. Спасибо, друг!.. Мы разберемся!
Прохожие начали укладываться. Иван постоял и неторопливо пошел к двери. Живописец и спутник его, разостлав по полу свои одежи, растянулись.
– Фу, батюшки, благодать какая… Уж и жара, – бормотал живописец…
– Парит! – сказал спутник.
– Смерть… Уф, боже мой!.. Ну, батюшка, что же вы мне не договорили, как вы это грешить винцом-то начали.
– Да так и начал-с, – серьезным и несколько грустным басом заговорил его спутник. – Из-за пустяков, дальше да больше… Наконец того… доходит в замету самому. Под Тихонов день, как теперь помню, призывает он меня и строго выговаривает за мое поведение. Я же, признаться, изучился тщательно во лжи и отвечал ему: «В. п.!.. простите меня. Семь лет с зятем и сестрой не видался. Проезжая из Москвы, попотчевали они меня. Как владыку, прошу простить меня или наказать»… На это они оказали: «Прощаю»… Я же полз на коленях, говоря: «Накажите!» – «Прощаю!» – Умоляю опять, повелел удалиться.
Иван высунул голову в дверь и произнес:
– Художники, господа! Вы будьте столь добры не курить!
– Нет, не бойся, – заговорил живописец.
– Уж сделайте милость. Время, сами знаете, какое! Чего боже избави – искра, и шабаш!
– На этом будьте покойны. Я тыщи рублей не возьму, чтоб его коснуться… Тьфу!
– То-то-с… Сушь! Порох!
– Боже избави!
– Уж будьте так добры!
Иван ушел, бормоча:
– Тут теперь за всякую малость взыск!
Жара и тишина между тем все более и более налегла отовсюду; протянувшийся на высоком холме лес засинел под косыми солнечными лучами; ветер вяло дышал в разгоревшееся лицо. Наседка с цыплятами чуть слышно ворчала под крыльцом. По дороге в холодке пробирались богомолки, надвинув на лицо головные платки и нагнув голову. Навстречу им шел пьяный мужик в расстегнутой свите.
– Откуда? – проговорил он.
– Киевские, батюшка, киевские.
– К-еивские! а-а за меня, чай, забыли помолиться.
– Как забыть? Мы про тебя всю дорогу вспоминали.
– То-то! На вас не закричи, вы и рады…
Мужик споткнулся и без шума повалился на бок; он приподнялся было на одной руке, подумал и лег опять, проговорив:
– Еще маленько сосну.
Посреди постоялого двора на солнце стояла телега с каким-то продуктом, тщательно закрытым кожами и увязанным веревками. На телеге спал хозяин ничком; отпряженная лошадь ела овес из мешка, привязанного между оглоблями. По временам она валилась на землю, звякая бубенцами.
– Дья-вал! – поднимая лохматую голову, кричал на нее мещанин.
Лошадь становилась на ноги, вся усеянная сухим навозом. Мещанин спросонок зверски хлестал ее кнутом, снова подгоняя к овсу.
Тишина стоит мертвая. Только в амбаре слышен бас прохожего.
– Терпел я четыре с половиною года, женившись уже, – рассказывал спутник живописца, – и в это время тысячекратно утруждал его о рукоположении меня. Но получал в ответ: «подумаю». Являюсь на четвертой неделе пред благовещением: «Я, Егор Смягин, подаю прошение: довольно я терпел четыре с половиною года, прошу всенижайше разрешить меня к рукоположению». Но он опять отвечает мне: «посмотрю». Горько мне, признаться, стало, повалился я в ноги, стал просить… говорю: «ежели достоин, то разрешите, ежели нет – изгоните». – «Ступай вон!» говорит…
– Погоди-кося, друг, сем-ко я испить чего-нибудь поищу, – сказал живописец.








