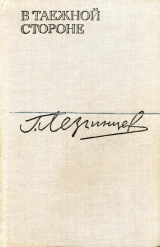
Текст книги "В таежной стороне"
Автор книги: Георгий Лезгинцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Павел Алексеевич слушал Рудакова, и ему становилось страшно. Рудник, которого он не знал и боялся, представлялся Пихтачеву чудовищем. Появится и неминуемо раздавит старательскую жизнь, лишит его любимой работы, уважения друзей, власти. Он видел: коммунисты пошли за Рудаковым и Степановым, за ними может пойти и большинство старателей. Эта мысль теперь терзала Пихтачева. Председатель мучительно искал ответа на роковой вопрос: что же делать?
– До общего артельного собрания нам нужно поговорить о руднике со всеми старателями. Я уверен, что члены артели нас поймут и поддержат, скорее чем председатель, – как во сне услышал Пихтачев.
Он резко повернулся на стуле, хотел что-то сказать, но махнул рукой. Ему стало жарко, он расстегнул пальто.
– Итак, поступило одно предложение: поставить на партийном собрании, а затем на общем собрании артели вопрос о немедленном строительстве опытного рудника. Если не будет других предложений… я ставлю этот вопрос на голосование.
Рудаков и все присутствующие выжидательно посмотрели на Пихтачева, но он и тут промолчал, думая о своем. Как в тумане, он видел, что люди подняли руки, и понял одно – случилось непоправимое.
Он встал, обвел комнату невидящими глазами, а потом, сгорбившись и пошатываясь, медленно поплелся к выходу, волоча по полу расстегнутый пояс кожаного пальто.
– Пошлем на Новый наших делегатов… – донеслись до него последние слова Рудакова, и Пихтачев со злостью хлопнул наружной дверью.
Не застегнув пальто, он сбежал по ступенькам крыльца и зашагал по улице.
Уже шел второй час ночи. У приисковой конторы и клуба горели фонари. Масляными пятнами расплывались огни в мелких дождевых брызгах.
Свежий воздух опахнул голову, но и это не принесло облегчения. Пихтачев шагал, не разбирая дороги, размахивая руками.
«За что, за что, спрашивается, так разделали? – думалось ему. – И вид нехорош, и в обстановке не разбираюсь… Это я-то, Пихтачев, который за войну артель на ноги поставил, вдвое добычу увеличил! С кем? С бабами да стариками! А теперь, вишь, не полюбился».
Пихтачев вспомнил все, что говорил Рудаков.
«Он человек новый, а я полжизни здесь. Понятно? И Степанов заодно… Не знают они, как я гидравлики строил, сколько тогда пережил! Чуть под суд не угодил ради артели. Кто больше всех сделал для старателей? А кого слушают? Дубравину, девчонку! Ивана Кравченко, у которого молоко на губах не обсохло! Ничего у вас не выйдет, товарищ Рудаков! Общее собрание вас не поддержит. Силком не заставите рудник строить. И деньги ишь приглянулись, забыли, видно, что труд в них, в этих артельных деньгах. Труд! И тратить их на разные фантазии не позволим!»
Разгневанный председатель не замечал дождя, налетевшего ветра. Оступившись, он угодил в лужу.
«Ну вот! Опять скажут – грязный! Хорошо им в конторе штаны просиживать да других поучать. Одно слово – служатня, ума палата…»
Пихтачеву захотелось закурить, он остановился и обшарил карманы. Только теперь в недоумении заметил впереди черную стену тайги и на отшибе одинокий огонек. «Дымовская изба», – догадался председатель и вспомнил, что его там ждут.
Зайти или не надо?
Горькая обида, желание облегчить душу, забыться толкнули Пихтачева на манящий огонек.
Глава девятая
ДРУЖКИ
В прокуренной избе Дымова гуляли – пропивали самородок. Клубы сизого дыма висели под низким потолком, медленно кружились вокруг беленой русской печи; дым затуманил и огромный, почерневший от времени киот с мерцающей лампадкой.
За столом, заставленным тарелками с едой и полными стаканами вина, сидели по-праздничному одетые Прохор Дымов, Захарыч, Михайла и завхоз артели Филипп Краснов.
Захарыч играл на баяне, склонив набок седую голову и покачиваясь в такт музыке. На нем белела гладкая косоворотка с вылезшей из-под рукавов матросской тельняшкой. Краснов, в черном жилете и широченных плисовых штанах, вытаращив злые глазки, энергично дирижировал руками и срывающимся голосом орал:
Звенит звонок ночной поверки,
Ланцов задумал убежать…
Краснову визгливо подтягивал Дымов:
Не стал он утра дожидаться,
Поспешно печку стал ломать…
Баян замолк, песня замерла. Дымов рыгнул и сказал:
– Завидки берут, как смотрю на твои сиреневые портки. Вторых таких на Южном не сыщешь. Одно слово – Пижон.
Краснов ухмыльнулся, он не забыл историю прозвища.
Давным-давно, пробираясь в южную тайгу, Краснов по дороге загулял, да так, что не смог расплатиться с целовальником. Тот, большой шутник, приказал: «Снимай рубаху и портки, сейчас лето – не замерзнешь. А чтобы девки не пугались, дарю тебе мешок, наряжайся и помни мою доброту». Краснову делать было нечего, разрезал по углам мучной мешок, просунул в дырки ноги, подвязался на животе веревочкой и в таком виде добрел до приисков. Какой-то конторский чиновник, увидя Краснова в этом живописном наряде, назвал его пижоном, непонятное слово понравилось приискателям, да так и осталось за ним…
Дымов красуется, самодовольно поглаживает себя по груди. Михайла в голубом апаше с широко расстегнутым воротом дышит тяжело. Осовелые глаза навыкате, струйки пота проложили темные следы на рубахе. Перед ним огромная деревянная чашка с дымящимися пельменями и «аршин водки» – полторы дюжины винных стопок, выстроенных по линейке у края стола. На коленях его лежит картуз. Михайла таскает ложкой пельмени и попеременно направляет их то в рот, то – украдкой – в картуз.
Дымов подошел к нему и, хлопнув по плечу, восхищенно сказал:
– Ох, ты и жрать силен, за уши тебя не оттащишь! Триста штук пельменей как корова языком слизала.
Михайла глупо улыбнулся и громко икнул.
Дымов осмотрел стопки – больше половины было уже опустошено – и обратился к Краснову:
– Пижон, однако, он выспорит у тебя. Две трети аршина уже выпил.
– Греховодник чертов, наказал меня на четверть: теперь вижу, что допьет свой аршин, – согласился Краснов.
Михайла пытался петь. Голос был у него писклявый, бабий.
Мне милашка подарила розовую гетру,
Надеваю я ее, как иду до ветру… —
тянул он, бессмысленно выпучив глаза.
Краснов качнул головой.
– Упился, раз до гетры дошел.
К Захарычу подсел Дымов и, обняв за плечи, прошептал:
– Мы теперь фортуну крепко за хвост уцепили, ураганное золото возьмем с нашего ключика.
– Это бы куда с добром, – ответил Захарыч и заиграл плясовую.
– Только ты, Захарыч, того… – улыбаясь, сказал Дымов, водя пальцем у самого носа баяниста, – больше самородку в ручей не скидывай. Хотел один наутро сцапать?
Захарыч прекратил игру и замахнулся на обидчика баяном.
– Связался я с вами, кулачьем, на свою голову. Так мне и надо, старому дураку! – И пошел к выходу.
Раскинув руки, Дымов преградил ему дорогу.
– Не обижай, Захарыч, хозяина, пошутил я. Погоди, подойдет Алексеич, выпьем.
К Захарычу со стаканом вина подскочил Краснов.
– Куда, старина? Чё вздыбился?
И пить будем, и гулять будем… —
фальшиво затянул он, но Захарыч резким движением руки отстранил его.
В эту минуту в избу вошел Пихтачев и, мрачно насупив брови, остановился у порога.
– Пьянствуете, щучьи дети! – вместо приветствия бросил он. Поняв, что его не слышат, с силой толкнул ногой табуретку.
– Ура! Наш Чапай пожаловал! Проходи, песни играть будем! – закричал Краснов и кинулся раздевать Пихтачева.
– Погоди, – Павел Алексеевич отвел его руку. – Зашел на огонек, рассчитывал – по делу зван, а тут у вас гулянка. Это по какому такому праву?
– День андела справляю, Павел Алексеевич. Раздевайся, дорогим гостем будешь, – упрашивал Дымов.
Пихтачев для виду немного покуражился. Потом подсел к столу, за которым, склонив тяжелую голову на локоть, дремал хмельной Михайла.
– Бражничать вздумали? Михайла аршин выпил? – строго спросил Пихтачев. – А там на артель замахнулись, меня и слушать не хотят, – с горькой обидой сообщил он. И вспылил: – Но в артели пока мы хозяева, посмотрим, чья возьмет!
– Золотые слова, Павел Алексеевич.
– Народ с тобой, как скажешь, так и будет.
– Завсегда поддёржим!
– За нашего боевого председателя, ура!
– Со свиданьицем, Алексеич. Дай бог не последнюю.
Пихтачев чокался, но пока не пил, сдерживался. Приятели наседали, и он лихо опрокинул стакан до дна. Крякнул, понюхал корочку черного хлеба и, ткнув вилкой шляпку гриба, весело скомандовал хозяину:
– Наливай! «Пить так пить», – сказал воробей и полетел к морю.
Пихтачев сразу стал центром внимания. Ему льстили, поддакивали, предупреждали малейшее желание. Все это нравилось председателю, ему было здесь хорошо. Павел Алексеевич то хвалился своей удалью, то жаловался на обиду и яростно грозил «им» – хмелея, отводил душу. Вскоре запели. Пихтачев выводил тенорком, приятели подпевали хором:
Мы по собственной охоте
Были в каторжной работе —
В северной тайге.
Там пески мы промывали,
Людям золото искали —
Себе не нашли.
Приисковые порядки
Для одних хозяев сладки,
А для нас беда!
Как исправник с ревизором
По тайге пойдут дозором,
Ну, тогда смотри!
Один спьяна, другой сдуру
Так облупят тебе шкуру,
Что только держись!
Там не любят шутить шутки,
Там работали мы сутки —
Двадцать два часа!
Щи хлебали с тухлым мясом,
Запивали жидким квасом —
Мутною водой.
А бывало, хлеба корка
Станет в горле, как распорка,
Ничем не пропихнешь!
Много денег нам сулили,
Только мало получили —
Вычет одолел.
Выпьем с горя на остатки,
Поберем мы все задатки —
И опять в тайгу!
Старая песня навеяла грустные воспоминания. Помолчали. Первым пришел в себя хозяин, предложил выпить под пельмени.
– Мне все нипочем, потому – я есть председатель. Ты, Краснов, готовь для собрания угощение, я жалую из неделимого фонда артели десять… нет, пятнадцать тысяч. И посмотрим, за кого народ. Эй, гармонист, играй подгорную! – шумел Павел Алексеевич.
Но Захарыч только похрапывал на лавке. Пихтачев лихо потопал на месте подкованными сапогами, да так, что заходили половицы, и, не зная, что еще предпринять, стал будить Захарыча. Однако вдруг почувствовал, что смертельно устал, притулился рядом и вскоре, привалившись спиной к стене, уснул.
Михайлу сильно мутило, и он, внезапно сорвавшись со скамьи, выбежал на улицу, топча развязавшийся пестрый опоясок.
За столом остались хозяин и Краснов.
Гость перекрестился на икону, втянул запах ладана и винного перегара.
– Люблю божественное, страсть как люблю.
– Будет тебе прикидываться, святой отец, – заржал хозяин. И, кивнув в сторону Пихтачева, добавил: – Тоже дозрел, дрыхнет.
– А кто еще есть в избе? – спросил Краснов, поглаживая ладонью толстый рубец шрама, рассекавший его висок.
– Никого. Старуху я отправил домовничать к соседке. Заболела тут у нас одна.
– Тогда слухай. Старатели могут пойти на рудник, нужно бередить народ, помогать Пихтачеву. Понятно? Делянку свою разрабатывай тайно, возьмите с Михайлой в артели отпуск, я пособлю. Следи за Захарычем, зря взяли его с собой, боюсь – проболтается своей Наташке. За разведкой на Медвежьей тоже следи.
Дымов молча кивал головой, он давно привык с полуслова понимать своего шефа.
Еще перед первой мировой войной, скитаясь по Сибири в поисках шалого золота, Прохор Дымов забрел в южную тайгу к своему дяде Митяю, такому же золотничнику-хищнику, как и он сам. Прохор занялся разведкой золота, в одиночку рыскал по горам и долам. Ему не повезло, он не нашел ни одной золотой россыпи. Доведенный голодом до отчаяния, Прохор вернулся полуживой к дяде, который познакомил его с Красновым, служившим десятником в золотопромышленной компании.
Краснов предложил Дымову аферу: выдавать компания пустые делянки за полноценные, и тот согласился.
Прохор застолбил на маленькой таежной речке старательскую делянку, пробил на ней несколько шурфов и, получив от Краснова немного россыпного золота на «подсолку», всыпал его в пустые шурфы. Явившись к управляющему компанейскими работами американцу Смиту, он рассказал о находке богатой россыпи и предложил ее компании за большую плату. Свозил управляющего на свою делянку, при нем промыл породу из шурфа и намыл золота. Сделка состоялась, и Прохор сразу разбогател, хотя половину денег пришлось отдать за хитрую выдумку Краснову. За первой делянкой последовала вторая, третья – и деньги полились рекой. Однако вскоре афера была раскрыта. Контрольные шурфы на Прохоровых делянках все как один оказались пустыми, а рыжего Прошку заподозрили в мошенничестве. Управляющий ночью вызвал его к себе.
«Подсолил?» – осклабясь, спросил он напуганного Прошку.
Тот молча кивнул головой.
«Я тебья, мошенник, каторга могу упечь. Я – тайга царь, бог и шериф. Понимайл?»
Но американец смекнул, что на этом деле можно самому погреть руки. Пугал он Прохора только для острастки. Взяв с Прошки клятву, что тот будет молчать, управляющий велел ему расписаться в какой-то ведомости и дал сотенную на пропой.
С этой ночи Прошка был оставлен при Краснове старшим разведчиком. Теперь он только тем и занимался, что столбил пустые участки да расписывался в ведомостях.
Однажды из Петербурга приехали ревизоры: в правление компании поступил донос, что управляющий списывает десятки тысяч рублей на разведку, которой не ведет, а деньги присваивает. Прошка с Красновым, подпоив ревизоров, возили их по делянкам, показывали одни и те же участки. Прохор промывал шурфы с подсыпанным золотом, а Краснов по указанию американца одаривал ревизоров золотыми самородками, «случайно» поднятыми из шурфов «на их счастье».
Ревизоры уехали. Пустые участки скупались теперь десятками. Прошка смекнул, что это может кончиться каторгой, и решил бежать. Но его опередили.
Однажды ночью мистер Смит срочно вызвал Прошку. У него уже сидел Краснов, чем-то напуганный.
– Повезешь управляющего и меня сейчас на станцию, – распорядился Краснов. – Вызывают в Петербург с отчетом. Но об этом молчок! – И, сунув Прошке деньги, велел грузить в сани бухгалтерские книги и несколько очень тяжелых ящиков. – Подмазать в Петербурге, – объяснил он.
На станции управляющий и Краснов соли в поезд, шедший к Владивостоку, и Прошка догадался, что они решили скрыться, и ему нет смысла возвращаться на прииск. Однако не успел он отъехать от станции, как был схвачен полицией. Вскоре Прохор вместе с другими, как и он, мелкими сошками был осужден на каторжные работы.
Вернулся Дымов в южную тайгу уже после революции. Прииски были мертвы, шахтенки затоплены, рабочие бараки пусты, в них хозяйничало таежное зверье. Проведал Прохор, что в войну эти прииски скупил у компании тот же самый мистер Смит, который так удачно обворовал компанию. Узнал Дымов и странную историю исчезновения своего дяди: ушел тот однажды на работу в новую штольню американца да так и пропал с тех пор, как в воду канул. Много разных толков было, но Дымов поверил одному: перед бегством в Америку в отместку за потерю всех богатств взорвал Смит свою штольню, чтобы не досталась Советам и сохранилась для него, – ведь Колчак обещал все вернуть назад. Расчет Смита не оправдался, но и штольню никто не мог указать Дымову, вместе с дядей исчезли люди, знавшие ее местонахождение. Потом нашли трупы этих людей, река прибила их в разных местах к берегу, изуродованных зверьем, а может, и человеком – одна тайга знала эту тайну. Среди убитых не оказалось лишь дымовского дяди Митяя… Целый год рыскал по тайге Прохор в поисках той штольни, да разве найдешь ее в глухой тайге! Потом махнул рукой.
Хмельной Дымов вспомнил эту историю и спросил Краснова:
– Филя, скажи мне: взорвал штольню мериканский мистер?
– Выпил, Прошка, и помалкивай.
– Дядя Митяй там мой. Небось слышал? – Прохор прослезился.
– Не спишь, а выспишь, – прошептал Краснов, оглядываясь на Пихтачева.
Дымов отрицательно покачал головой и, подманив к себе пальцем Краснова, тоже зашептал:
– Пижон, давно хочу спросить тебя: ты приезжал сюда в тридцать втором? Мне будто шаман про тебя сказывал.
– Зря свистишь, Граф. Я приехал только в тридцать шестом и сразу в артель вступил. В таком разе ступай спать и наперед язык заглатывай.
В стекло забарабанил дождь. Завхоз, недовольно поглядев на окно, начал собираться домой.
Глава десятая
В СУМЕРКАХ
Вечерело. Высоко в небе жалобно курлыкали журавли – они улетали в теплые края. Холодное солнце торопливо нырнуло за ближайшую гору, и в тайге стало сразу сумрачно, тоскливо. Серая тьма поглотила высокие горы и приземистые увалы, вертлявую речку и стройные кедры. Тайга отходила ко сну.
Рудаков прибавил шагу, но длинные ветки деревьев, обступившие таежную тропу, часто хлестали по лицу. «Как бы глаза на сучках не оставить», – подумал Сергей Иванович, защищая локтем поцарапанное в кровь лицо. Ветки цеплялись за кожаную тужурку, били по охотничьим сапогам. Ремни ягдташа и централки-переломки врезались в тело, как когда-то армейская портупея. Несмотря на усталость, настроение у Сергея Ивановича было бодрое. Выходной день он провел на охоте. Правда, добыча сегодня была не из богатых – удалось подстрелить за день четырех рябчиков и одного косача, – но удовольствие велико; даже ломота в натруженных мускулах была приятна.
Густой лес поредел, тропинка перешла в просеку, идти стало легче. Поднявшись на взлобок, Рудаков расстегнул тужурку, достал папиросы и закурил. Вдруг рядом послышался прерывистый топот, сопровождаемый фырканьем и звяканьем. На него вприпрыжку неслись серые тени. Он быстро отошел за дерево, схватил ружье и… громко рассмеялся: мимо неуклюже скакали стреноженные лошади.
– А ну, назад, назад! – Сергей Иванович преградил им путь и, махая руками, повернул коней.
Лошади заржали и, приглушенно звеня подвешенными на шеях боталами-колокольцами, мирно запрыгали к поселку.
Рудаков догадался, что это лошади старательской артели. Последние дни они в ночном часто терялись, по утрам начинались их розыски, а работа задерживалась. Степанов ругал Пихтачева, председатель распекал завхоза, завхоз кричал на пастухов, а те винили во всем бродяжий нрав коней, с которыми сладу нет.
Потянуло дымком, и вскоре на широком заливном лугу Сергей Иванович заметил дрожащий огонек. В тусклом свете костра виднелись едва различимые во мраке стреноженные кони. И справа и слова приглушенно звенели ботала. Коней никто не пас, они разбрелись по округе.
«Вот в чем дело», – подумал Рудаков, подгоняя блудливых лошадок длинной хворостиной.
У маленького стожка-одёнка Рудаков остановился и, вглядевшись, различил за густым дымом костра сидящего на земле человека, в котором узнал одноногого дядю Кузю, артельского плотника. Рудакову показалось, что с ним была какая-то женщина в белой кофте, но она вдруг исчезла за дымом костра.
– …Эко придумал: «пьян»! Ты, Яшка, напраслину на меня не возводи. Когда на бровях ходить буду, тогда возможно.
Дядя Кузя замолчал и громко икнул. Рудаков замедлил шаг и только теперь увидал лежащего на земле конопатого Якова, кучера начальника прииска.
– Так вот, я и говорю: коров пасть лучше. Она, корова, распроязви ее, подойдет к одёнку, обгложет его и стоит на месте. Так-то вот… – дядя Кузя опять громко икнул. – Испить бы, а то, вишь, икаю.
– Подь ты в пим дырявый с твоим понятием, – сипло пробубнил Яков и, налив из берестяного туеса темной влаги, единым духом опорожнил кружку. – Ну и медовушка, жжет, как соляная кислота! – оценил Яков.
– Ухажерка моя скус знает, – самодовольно заметил дядя Кузя. И громко продолжал: – Так я и говорю, овцу пасть лучше. Овца, она с понятием, говорю.
– Верно, а у тебя его нету, и тебе сподручнее деревяшки строгать, – язвил с сознанием своего превосходства захмелевший кучер.
– Раз согласен, давай чекалдыкнем! – кричал дядя Кузя.
– Это мы мигом, – согласился кучер.
Короткое молчание, стук кружек, одобрительное причмокивание.
– Нет, коров пасть лучше. Она, корова, распроязви ее, одёнок обгложет и стоит. За них и спросу меньше, не запрягать.
– Эй, нога-то горит, подбери, – перебил его Яков.
Дядя Кузя подтянул из огня деревянную культяпку, пристегнутую к правой ноге, и, ткнув ею несколько раз в землю, погасил огонь.
– Наплевать, новую сделаю, это уже девятая, восемь сносил… Про что это мы? Да! Овцу пасть лучше: она, распроязви ее, гуртом ходит, конечно, на ней крепежник не возят…
– Угу, – насмешливо буркнул кучер.
– Не перебивай, когда я беседываю, – степенно остановил его дядя Кузя и вдруг, увидав стоявшего в нескольких шагах Рудакова, замолк.
Яков нехотя поднялся с овчинного зипуна, уступая место.
Сергей Иванович снял с плеча ружье и охотничью сумку, сел на зипун, улыбнулся:
– Ясно, все дело в конских характерах.
Пастухи принужденно засмеялись, ожидая, что последует нагоняй от начальника. Но Рудаков хитро подмигнул им и предложил закурить. Сразу отрезвевший дядя Кузя взял из костра покрывшийся пеплом уголек и, перекатывая его на ладони, жадно прикурил.
– Ругай, Иваныч. Виноват, бобовина получилась, – прервал он неловкое молчание, глядя вверх, в черное яркозвездное небо.
Невдалеке затявкала собачонка, заржал конь, и вновь повсюду раскинулась тишина.
– Где потерял ногу? – участливо спросил Рудаков, с удовольствием вытягиваясь на зипуне.
– Под Волочаевкой… – Помолчав, дядя Кузя обиженно добавил: – На одной ноге не больно-то попасешь.
– А зачем же взялся за эту работу?
– Эх, Иваныч, обида-то какая! – Дядя Кузя покачал головой и поворошил культяпкой костер. – Отказался я задарма нашему завхозу хату перекрывать, так он, змея подколодная, на меня председателя натравил и в пастухи определил.
– Что же ты молчал? – строго спросил Рудаков.
– Тайга по своим законам живет. Медведь ее прокурор, – вмешался, лениво почесав затылок, Яков.
– Теперь вот и говорю, как пригляделся, что ты есть за человек, – лукавил дядя Кузя.
– Таежный закон – это беззаконие! – одернул его Рудаков.
Дядя Кузя утвердительно качнул головой.
– Надо беспощадно бороться с этим «законом».
Сергей Иванович, докурив папиросу, поднялся, взял ружье и сумку с торчащими из нее рябоватыми перьями и, приказав Якову собрать лошадей, пошел к поселку. Вначале он шел осторожно, на ощупь переставляя ноги, – во мраке глаза различали лишь звезды. Они висели совсем близко, и казалось – стоит только протянуть руку, чтобы схватиться за рукоятку ковша Большой Медведицы…
У костра запели. Дядя Кузя выводил:
По сибирский тайгам и долинам
Партизанский отряд проходил.
Рудаков остановился, прислушался. Он любил эту старую партизанскую песню. Пройдя вытоптанный луг, Сергей Иванович спустился к ворчливому ручейку и, зачерпнув ладонью воды, напился. Обтер руками мокрые усы, перебросил ружье на другое плечо и зашагал дальше по едва различимой тропе. Вскоре дорожка уперлась в ворота поскотины; на заимках их огораживали иногда на километры, чтобы скоту было вольготнее пастись без пастуха. Сергей Иванович не стал раскрывать ворота, а, сняв ружье, ловко перемахнул через прогнувшееся под рукой прясло поскотины. Узнал дымовскую заимку. Значит, скоро и Южный поселок. Изба Дымова стояла в стороне от дороги, на небольшом пригорке. В трех маленьких оконцах горел тусклый свет, по занавескам скользили людские тени. Гулко хлопнула дверь, надтреснутый голос затянул:
Иркутяне сено косят,
Иркутяночки гребут…
Пронзительный женский визг прервал песню. Ржавый голос тоскливо проговорил:
– Пьяная баба – чужая баба, – и выругался.
Впереди Рудакова промелькнула белая кофта и, словно наваждение, опять пропала в темной тайге. «Кто же это бегает от меня?» – подумал Рудаков, минуя дымовскую заимку.
В стороне затрынкала балалайка.
Сергей Иванович задумался. Он понимал, что вынужденное безделье старателей приводит к гулянкам, праздности, разлагает дисциплину. Рудник изменит их жизнь и сознание. Путь трудный, но другого нет.
Трест же плохо знает старателей, производственные неурядицы заслонили людей, оттого и нет внимания к их судьбам и не видит он того, что давно наступила пора круто менять жизнь золотничников. Вчера наконец пришел ответ на докладную Степанова о руднике: трест настаивает на том, чтобы штурмовать план добычи золота за счет любых работ, всех старателей перебросить только на добычу песков, а подготовительные работы на Медвежьей горе пока не проводить.
Степанов показал Рудакову личное письмо управляющего трестом. Тот предлагал не «блажить» с рудником, а любой ценой вытягивать программу добычи золота – годовой план по тресту под угрозой.
Мечты Сергея Ивановича о коренной переделке жизни и психологии старателей подошли к извечной проблеме горняков: чем заниматься – добычей или подготовкой? Проблему эту надо было решить правильно и на Южном.
Степанов на своем стоял твердо: подготовку к строительству рудника, несмотря на запрещение треста, следует начинать – в этом спасение Южного!
Рудаков и Степанов договорились, что будут проводить решение партийного бюро и на общем собрании старателей, и перед партийными органами, вплоть до Москвы.
Твердость Виталия Петровича нравилась Рудакову.
Сергей Иванович вышел на безлюдную улицу заснувшего поселка и вдруг совсем рядом услышал переливы баяна.
У темного высокого здания клуба кружком стояли парни и девушки.
Плясунья в белой кофте визгливо запела:
У меня миленка нет,
Что же я поделаю?
Возьму в руки я топор,
Из полена сделаю.
Ребята одобрительно засмеялись. Рудаков подошел ближе.
Послышался высокий девичий голос:
– Ксюша, и не стыдно тебе?
– Я, Наташка, теперь солдатка, мне все можно, – отрезала плясунья и уже назло крикнула: – Эй, гармонист, играй вальс «Коровьи слезы».
Девичий визг, новый взрыв хохота.
Рудаков громко поздоровался.
– Кто это? – с любопытством зашептались вокруг.
– Ой, начальство, Рудаков! – вскрикнула Ксюша, и белая кофта метнулась из круга.
К Сергею Ивановичу подошла Наташа и взволнованно заговорила:
– Клуб от овса со скандалом освободили, а теперь коммунальщики ремонтировать его месяц будут. Когда же придет конец нашим гулянкам в пыли и в темноте?
– А в темноте скусней целоваться! – задорно выкрикнула какая-то девушка.
– Верно, способней, – поддержал мужской голос, и вслед за этим раздался смачный поцелуй.
Ребята дружно захохотали.
Сергей Иванович поставил на землю ружье и, опершись на его ствол руками, сказал:
– Это у вас получается неплохо. А попробуйте, – он сделал паузу, – сами отремонтировать клуб, сила у вас великая.
– Ксюшка, пойдем в темно, поищемся, – как бы в ответ ему крикнул озорной голос.
Но никто не засмеялся, многих озадачило предложение Рудакова.
– Поможем, ребята? – несмело спросил кто-то.
– Попробуем.
– Себе небось.
– Поможем, чего там балакать.
На скамейке у мрачного здания клуба с черными провалами разбитых окон еще долго разгорались и гасли папиросные огоньки, и возбужденные голоса обсуждали, как лучше провести первый воскресник.








