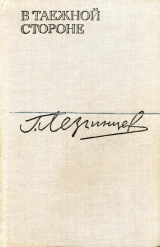
Текст книги "В таежной стороне"
Автор книги: Георгий Лезгинцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
За шурфом наблюдали и с вышки склада взрывчатых веществ. Но все было безрезультатно: ни одной живой души не появилось около дугообразной березки.
Глава тридцать четвертая
РАЗЛОМ
Егор Максимыч Турбин лежал в санях, на раскатах зимней дороги их заносило то в одну сторону, то в другую. Темнело. Он поминутно прикрывал рукой лицо от голых веток кустарника, торчавших вдоль дороги. Лошадь шла шагом, все время проваливаясь в мягкий, грязный снег, оттаявший за день под горячими лучами весеннего солнца. Позади саней шел кучер Яков и тихо напевал:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах…
– Садись в сани, Яков, – предложил ему Максимыч. – Хватит тебе шагать. Почти от самой иптешевской штольни идешь.
– Не сяду. Лошади и так тяжко. Глянь, как ее Краснов загнал. Ты же видишь, под полозьями один навоз. Отъездили в санях, готовь телеги и седла.
– Ты про седла, а я вон уши застудил, – ответил Турбин.
– Что ни говори, Максимыч, а на улице апрель, весна! Люблю таежную весну! Воздух голову пьянит, что тебе старая медовуха.
Замолчали. Изредка Максимыч покрикивал на коня:
– Но, лентяй, весь в хозяина! Уснул, что ли? Но! – и размахивал кнутом.
У поворота к дымовской заимке конь самовольно пошел вправо.
– Куда? – дергая левую вожжу, закричал Турбин.
Конь остановился и, вытянув шею, недоуменно оглянулся на седока.
– К Дымову, сам знает, куда сворачивать. Краснов приучил, – засмеялся Яков.
Турбин взял коня под уздцы, замахнулся на него кулаком и вывел на дорогу. Достал трубку, кисет и присел на сани.
– А с шурфом-то, Максимыч, прояснилось у дяди Кузи? – полюбопытствовал Яков.
Максимыч, раскуривая трубку, только мотнул головой и хлестнул кнутом по клочку сена, висевшему на обломанной ветке.
– Вот загадки!.. А как ты думаешь, все старатели перейдут на государственную добычу? – допытывался Яков.
– Ясно, перейдут! Может, только не сразу у всех на это ума хватит, – ответил Максимыч.
– Кажись, каждому разъяснили, что к чему.
– Эх, паря! Да старому приискателю тыщу раз объясняй, а он все будет про фарт бредить. Но, Бурка, пошевеливайся! Из-за тебя на последнее артельное собрание опоздаем! – покрикивал Максимыч.
Кустарник кончился, и они увидели перед собой огни поселка. Подъехали к освещенному клубу, и Турбин остановил коня.
– Яков! Отведи Бурку на конный, а я – прямо на собрание, – отряхивая с куртки сено, распорядился Максимыч. – Только не забудь коня на выстойку поставить, пусть подсохнет, а тогда можно напоить и овса засыпать. Сбрую в конюховке развесь, – по-хозяйски добавил он.
– Сказывай! Сам не знаю… – обиженно бросил Яков и тронул с места усталого коня.
У клуба толпился народ, и пройти дальше двери Максимыч не смог. По возбужденным, радостным лицам молодых парней и девушек Турбин понял: что-то произошло значительное. Люди в дверях потеснились, и на пороге вынырнул Вася с баяном и, лихо растянув мехи, заиграл туш. Девушки запели частушки, он стал им подыгрывать:
Вдоль ручья поутру шла,
Самородочек нашла,
Оснесла его я в кассу —
Государству помогла.
Поравнявшись с Турбиным, Вася с небрежным видом известил его:
– Это про меня народ слагает песни.
– Ты у нас знаменитость. Теперь жди еще частушку про историческое собрание, на котором ты председателем был, – напомнил, смеясь, Турбин и надвинул Васе на нос шапку.
– Демократия, Егор Максимыч. Все как по инструкции, – пожимая плечами, оправдывался Вася.
Неделю назад в горном цехе должно было состояться профсоюзное собрание. Его открыли, Васю выбрали председателем, но при обсуждении повестки дня разгорелся – по Васиной же инициативе – спор: провести или отложить собрание? Проспорив два часа, решили собрание отложить, а на следующий день Наташа провела его за пятнадцать минут…
Протискиваясь сквозь шумную толпу молодежи и на ходу застегивая полушубок, на улицу вышел Захарыч.
– Разлом, Максимыч, у нас произошел! Молодежь вся из артели уходит! – крикнул он. – Верно они делают? Верно! Молодежь – это наше будущее, не назад им смотреть, как нам, старикам, а вперед.
– Не все старики назад смотрят. Вам, плотникам, к примеру, невыгодно туда заглядывать, – ответил ему Турбин.
– Правильно, Максимыч! Если мы останемся в артели, какую нам работу дадут? Старательские лотки выдалбливать? Любишь или не любишь артель, а надо о работе думать. На государственных рудниках нам ее на всю жизнь хватит, верно? А вообще-то старички наши, распроязви их, блажат с артелью. Как кончится весна, остановятся гидравлики, и блажь эта с весенней водой уйдет. Против жизни не пойдешь, ну, а неволить никого не стали. Так и постановили: тех, кто подал заявление на рудник, из артели отпустить без задержки.
– А в артели народ остался?
– Видать, часть останется: на гидравликах весной старики хотят отработать, а сколько их – завтра узнаем. Прощевай, Максимыч! Я домой, старые кости покоя просят.
К Турбину подошли раскрасневшиеся, радостные Наташа, Иван, Петро и Маша.
– Поздравьте нас, Егор Максимыч! Теперь и мы государственные рабочие, а не добытчики! – сказала, улыбаясь, Наташа.
– Поздравляю, поздравляю без пуха и пера! – пожимал им руки Турбин.
Озорно и нежно поглядывая на Петра, Маша сказала:
– Пихтачев шибко рассердится на Наташу за деньги!
– А что такое? – полюбопытствовал Турбин.
– Наташа предложила половину артельных фондов, – пояснил Бушуев, – потратить на устройство нашего быта. Решили построить новую больницу и на ней мраморную доску повесить: «От старателей артели «Приискатель». Точно так же вот в войну было написано на нашем самолете, артель подарила его Советской Армии.
Последними, когда народ уже разошелся, вышли из клуба Краснов и Борис Робертович.
Оглядываясь по сторонам, маркшейдер вполголоса убеждал Краснова:
– Ты меня просто озадачил. Да и зачем тебе еще? Работайте пока в одном забое. Разве он плох?
– Показывай самую богатую жилу, у нас нет времени шариться по всей горе. Про шурф слыхал?
– Его нужно взорвать, пока из него не извлекли улик, – предупредил Плющ. Он побаивался разоблачения.
– Знаю, только это запросто не сделать: Кузя уши навострил. Показывай алтарь! – требовал Краснов.
– Не могу, опасно, да это государственная тайна, – возражал Борис Робертович.
– А ты не бойся. Все мы теперь государственные. Пойдем, нас ждут, есть к тебе дело.
Маркшейдер удивленно пожал плечами, но расспрашивать о подробностях не стал.
Краснов беспокойно оглядел пустынную улицу и направился к окраине поселка; за ним, как на ходулях, вышагивал Борис Робертович. Никем не замеченные в вечерней мгле, миновали они последние домишки, и когда очутились на раскатистой дороге, маркшейдер понял, что идут на дымовскую заимку. Борис Робертович чувствовал что-то недоброе. Пора бежать с Южного! Вовремя скрыться – большое искусство, он им до сих пор пользовался весьма умело. «Но как и когда?» – мучительно думал Борис Робертович. Пришли к темной дымовской избе.
В глубине двора, у покосившейся стайки-коровника залаяла собака. Краснов тихо подошел к крыльцу и посмотрел поверх двери.
– Проверь рукой, висит пучок калины? – попросил он маркшейдера.
Борис Робертович протянул над дверью руку, нащупал вязку веток и почувствовал на пальцах липкий сок раздавленной ягоды. Он утвердительно кивнул головой.
– Значит, можно, – прошептал Краснов и трижды постучал в окно.
Вскоре в сенях заскрипела дверь, брякнул железный засов, и на пороге показался хозяин в накинутом на плечи ватнике. Молча пропустил он гостей в хату, захлопнул за ними дверь.
В избе было темно и тихо, только огонек лампадки освещал божницу да где-то тикали ходики. Гости сняли шапки, не раздеваясь уселись на лавке. Дымов подошел к подполью и за железное кольцо поднял крышку.
В подполье замигала свеча. Оттуда вылез горбоносый оборванец. Не сводя пристального взгляда с Бориса Робертовича, как бы гипнотизируя его, он подсел к столу и, словно невзначай, переложил вороненый парабеллум из внутреннего кармана в брючный.
– На мой вид вы не обращайте внимания, это для безопасности передвижения. Нищий-сберун, – И, довольный, он загоготал.
Дымов плотнее подоткнул висящее на окне ватное одеяло и поправил пальцем свечной огарок. В комнате посветлело. Оборванец снял ветхий ватник, остался в заплатанной рубахе-косоворотке.
Прохор представил Плющу своего дядю Митяя, и тот попросил молчать об их встрече: по некоторым личным причинам он здесь должен быть подпольщиком. Плющ не стал расспрашивать о причинах, и они перешли к делу.
– Стесняться нам некого. Здесь все свои, – сказал Митяй. – Мне известно, Борис Робертович, о ваших хороших отношениях с Красновым, он помогал вам в трудную минуту – брал для вас из артели все, вплоть до золота, и теперь ему придется за это отвечать. Вы знаете, что ревизия установила неприятные факты? Мы не упрекаем вас, наоборот, поможем и еще, но просим помочь и нам в общем деле. – Оборванец сделал паузу, встал и подошел к бледному Борису Робертовичу. – Посмотрите запасы и срочно подскажите нам, где самое богатство, – закончил он и резким движением протянул маркшейдеру цепкую руку.
Борис Робертович зажмурил глаза и, отрицательно покачав головой, забормотал:
– Я заплачу за овес и сено, отдам обратно золото. Хищничать сейчас очень опасно, вы засыплетесь и я тоже.
Он был перепуган.
– Хотите отвечать перед судом? Кстати, а разве клевета это не преступление? На что вы толкали бедного Краснова? Борис Робертович, будьте мужчиной, – дребезжал над ухом маркшейдера голос оборванца.
Борис Робертович молчал, тогда оборванец кивнул Дымову и Краснову, и они зловеще придвинулись к Плющу.
– Я подумаю, – испуганно проговорил Борис Робертович и, намереваясь уйти, встал.
– Не выламывайся, дружище, – подмигнул Краснов, панибратски ткнув его в плечо.
– Не пытайтесь дурачить или выдать нас, дела у вас не лучше наших, – угрожал оборванец.
Дела у Митяя шли действительно плохо. Поставка золота от постоянных клиентов из-за их провалов прекратилась, и «дантист» вопреки своему правилу сам отправился в дальнее турне.
Домой маркшейдер возвращался один и всю дорогу бежал, словно спасаясь от погони, страх подавил рассудок. Не впервые впутывался Плющ в разные махинации, но на этот раз его крепко зацепили.
История с покосом, с телкой, взятки Краснова, соучастие в воровстве золота… И вот надвигается опасность расплаты.
Проклиная тот день и час, когда он связался с завхозом, Борис Робертович решил, пока не поздно, удрать с Южного.
Наутро Степан Кравченко докладывал Виталию Петровичу и Рудакову:
– Встал я, когда еще черти в кулачки не били, и все с заявлениями вожусь, их двести сорок поступило в правление. Остается в артели всего семьдесят человек гидравлистов.
– Хорошо, – сказал Рудаков. – Гидравлики должны работать, на них план дан.
– Пихтачев тоже подал заявление. А вот как мне быть? – спросил Кравченко.
– О Пихтачеве я знаю. Как только поправится, вопрос о его работе решим особо. А ты, Степан Иванович, оставайся пока в артели председательствовать, а дальше видно будет.
– Без головы артель не оставишь, – добавил Виталий Петрович.
Степан Иванович, покручивая усы, молча сел на стул.
– Ночью говорил с трестом, – сообщил Степанов, – просил поторопиться с отгрузкой механизмов. Обещают по большой воде баржами сплавить все машины.
Кравченко счел нужным напомнить:
– Сплав – дело у нас трудное. Раньше мы не раз пытались весной баржи сплавлять и не успевали: паводок короткий.
– Этой весной воды будет много, снегу не занимать. Да, инженеры и монтажники выезжают, в нашем полку прибывает, – улыбнулся Степанов.
Кравченко встал и, теребя в руках шапку-ушанку, угрюмо сказал:
– И я подам заявление. Не хуже прочих.
– Нет, Степан Иванович, – строго возразил Виталий Петрович, – с тобой мы договорились, не будем повторяться.
Кравченко надел шапку и, махнув рукой, ответил:
– Ладно! Значит, у меня такая планида. Начинал первым, вместе с Турбиным и Дубравиным, и заканчивать буду последним…
Глава тридцать пятая
РАСПЛАТА
Строительство рудника велось теперь в три смены, и все больше и больше золотых огней загоралось по вечерам на Медвежьей горе. Слепящие прожекторы у штольни горного цеха, на площадках фабрики и гидростанции просматривали тайгу окрест, загоняя ее обитателей в глубь дремучего леса…
Из штольни показалась лошаденка. По узкоколейной дороге она везла три груженные рудой вагонетки и примостившегося на одной из них Дымова, он погонял лошадь длинным бичом. Подъехав к откосу, Дымов незаметно вставил толстую палку под колесо последней вагонетки, она опрокинулась.
– Стой, падла! – заорал он и принялся с остервенением хлестать лошадь.
Из штольни выбежала Быкова и, вырвав бич, закричала:
– Не лошадь, а тебя бичевать нужно.
– Она, падла, вагонетку опрокинула, а я подбирай, – бурчал Дымов, делая вид, что пытается подвинуть кузов вагонетки.
Быкова взяла его за рукав и, подняв кусок руды с видимым золотом, резко сказала:
– Лошадь твоя хорошо разбирается в золоте: опрокидывает вагонетки только с самой богатой рудой и потом прячет ее в разведочный шурф!
– Ты, Катерина Васильевна, того, заговариваешься…
– Хватит, Дымов, паясничать. Сдай лошадь и пойдем в контору.
– Не торопись на тот свет, Катерина Васильевна! – угрожающе начал Дымов, но, увидев подходившего к ним Егорова, замолчал.
– Прими, Вася, у него лошадь. Пошли, Дымов! – распорядилась она.
В кабинете Дымов держал себя развязно, все отрицал, ругался. Быкова позвонила по телефону Рудакову, Степанову, но их не было ни дома, ни на работе.
«Как поступить сейчас с Дымовым? Задержать?» – размышляла Катя, наблюдая за развалившимся на деревянном диване Дымовым. Неожиданно где-то сзади конторы раздался глухой взрыв. Катя беспокойно посмотрела в окно, но, ничего не увидев, позвонила в штольню. В штольне о взрыве ничего не знали, в эту смену отпалки они не вели, но взрыв слышали, обещали выяснить и позвонить ей. Дымов после взрыва стал держаться еще развязнее.
– Обмарать кого хошь можно, а надо, чтобы по правде, по справедливости! – кричал он.
– Не вывернешься. Сейчас принесут доказательства, – ответила девушка.
– Это какие такие доказательства? – Дымов прищурился и высморкался на пол.
– Ворованную из нашей штольни руду, ступку и ртуть.
– А при чем здесь я? Это еще доказать надо, что я крал. А вагонетки у всех опрокидываются, не у меня одного…
В комнату вошел Иван и молча с ненавистью посмотрел на Дымова. Тот понял и самодовольно ухмыльнулся.
– Ну что? – встревоженно спросила Катя.
Иван не сводил взгляда с Дымова.
– Склизкий ты, Прошка, как налим, сразу не схватишь тебя. – И, обращаясь к Быковой, ответил: – Шурф тот, Катерина Васильевна, взорвали, теперь не проникнуть туда.
«Значит, все же приходили туда преступники замести следы… А наши наблюдатели просмотрели», – подумала Катя и удивленно спросила:
– Кто же это мог сделать?
– Это, барышня, одна тайга зияет. Много тайн хранит она, новичку об этом завсегда помнить надо. Между прочим, у нас не Москва, милиционер к каждому шурфу не приставлен, – громко засмеялся Дымов. И насмешливо осведомился: – Можно идти?
Катя ничего не ответила, и Дымов, сорвавшись с дивана, выбежал из комнаты.
За углом здания Краснов, прохаживаясь с независимым видом, поджидал Дымова.
– Споймала Быкова меня, пора смываться, а то завтра будет поздно, – зашептал перетрусивший Дымов.
– Она тебя споймала, а ты упустил ее тогда на Миллионном. Ведь как было просто: кокнул ее, потом подрубил стойку и посадил кровлю, засыпал землей. Чисто, комар носа не подточит, – шипел Краснов, с презрением оглядывая Дымова.
– Да я целую смену охотился за ней, с такой девицей все бы сделал в свое удовольствие… – ухмыльнулся Дымов.
– Одни разговоры, обратно же с шурфом с этим… – Краснов помолчал и, сверля Прохора злыми глазками, добавил: – С Южного уходим, только тебе, Граф, как наказал перед отъездом твой сберун, придется в тайге попрятаться, его дождаться.
Дымов в ответ крепко выругался.
Пихтачев встал с постели, достал с полки поломанный деревянный гребень и расчесал лохматые волосы. Умылся под рукомойником и, хотя в комнате было хорошо натоплено, набросил на плечи ватник: его мутило и лихорадило. С трудом припоминал Павел Алексеевич события прошлого вечера. Пришел навестить его дядя Кузя и заставил выпить стакан разведенного спирта, а за ним другой и третий. Дядя Кузя пил с горя: поймать бандитов не удалось, шурф был взорван. Как утверждал дядя Кузя, это произошло в те часы, когда дежурил Яшка. Бандиты, дескать, знали, что дядя Кузя на работе, в другое время им от него, конечно, не уйти бы… Вспомнил измену Ксюши и заплакал от обиды.
Подвыпивший Пихтачев тоже плакал – от огорчения за друга и еще пуще оттого, что не сдержал данного врачу слова не пить до полного выздоровления.
Утром, как только Павел Алексеевич открыл глаза, бабка, у которой он жил на квартире, набросилась на него с попреками. Она заявила, что больше не будет его выхаживать. Пихтачев молчал и с горечью думал о том, что вот опять не удержался и занялся «профилактикой»… Как только он будет смотреть людям в глаза?
Бабка ушла к соседям, заботливо поставив на стол кринку с огуречным рассолом.
Пихтачев мучительно вспоминал что-то поразившее его ночью. Помнилось, за окном то загоралось, то гасло яркое зарево, как днем освещавшее часть стола с посудой и кусок пола с торчащими, как трубы, валенками. А может, все это приснилось?..
Вскоре зашел на минуту Рудаков. Справился о здоровье, но по его взгляду Пихтачев понял, что Сергею Ивановичу все известно о попойке.
От Рудакова узнал Павел Алексеевич, что у Краснова при сдаче дел обнаружена недостача овса, сена и разных материалов и его будут судить. Странно, что, после того как выяснилась недостача по одному складу, внезапно ночью загорелся другой. Причина пожара не установлена, наверное, поджог. Заинтересован в нем мог быть только бывший завхоз. Из штольни исчезает богатая золотом руда, кем-то взорван разведочный шурф, озабоченно передавал новости Сергей Иванович. Не желая вконец расстраивать больного, он умолчал о том, что околел пихтачевский Гнедко: кто-то всыпал в его кормушку вместе с овсом битое стекло и мелкие сапожные гвозди.
Когда Сергей Иванович ушел, Пихтачев взял дрожащими руками кринку, жадно хлебнул солено-кислого, пахнущего укропом рассола.
«Что творится-то у нас, а я валяюсь!» – с досадой подумал он.
Лечение шло медленно, и он решил, вспомнив наставление ветеринара, прибегнуть к его средствам. Достал из закутка старый железный таз, нагреб в него из русской печки кочергой горячих, красноватых углей и поставил на них сальную чугунную сковородку. Запахло подгорающим жиром. Потом взял из-под кровати бутылку спирта, вылил ее на горячую сковородку. Осторожно, чтобы не расплескать драгоценное снадобье, поставил на сковородку ноги и зажмурился. Теплота спирта поднималась по ногам, ломила кости, вгоняла в пот. Ему стало лучше.
Хлопнула дверь в сенях, кто-то вытирал о скобу грязь с сапог.
«Бабка ворчать пожаловала. Надоела, съехать с квартиры надо», – подумал Пихтачев и отошел к окну, отдернул вышитую красными цветами занавеску. Было пасмурно, подступали сумерки, на покрытом снегом болоте качалась от ветра прошлогодняя, в рост человека жухлая трава с темными махровыми головками. На телефонных проводах, нахохлившись, сидели белогрудые сороки, а на голых ветках березы галдели, раскачиваясь, смоляные галки. «Весну чувствуют. Скоро и наши гидравлики заработают…» От этой мысли настроение улучшилось.
В чисто выбеленную горницу вошел Краснов. Сняв шапку, он стал торопливо креститься на угол, где вместо икон висели под стеклом семейные фотографии хозяйки. Припухшие злые глазки его блудливо скользнули по накрытому скатертью столу.
– Наше почтение, Павел Алексеевич! Принимай гостя. Как отдыхаешь? – заискивающе спросил он, снимая с себя старый овчинный полушубок.
– Спишь, спишь и отдохнуть некогда, – нехотя ответил Пихтачев, не повернувшись от окна.
Он смотрел, как ветер, подняв парусом сорочий хвост, силился сбросить птицу с конька крыши соседнего дома, но она, покачиваясь, цепко держалась на месте.
– Срамоты посмотреть хошь? – спросил Краснов и потащил Пихтачева к противоположному окну, выходившему в соседский двор.
Там, у старой, топившейся по-черному баньки, стояла толпа приисковых ребятишек и чего-то ждала. Вскоре открылась дверь предбанника, а вслед за паром из нее пулей вылетела голая краснотелая Ксюша и, плюхнувшись в сугроб, стала в нем вертеться, осыпая снегом любопытных ребятишек.
– Видал кино? – завхоз с возмущением плюнул. – Чем болеешь-то? – спросил он и, вынув из кармана ватных брюк бутылку водки, водрузил ее на стол.
Пихтачев ответил не сразу, он думал о лихости Ксюши и втайне даже позавидовал ей.
– Не знаю. Старость, видать, подходит. Раньше я и не чувствовал, где у меня сердце или печень, а теперь помаленьку начинаю знакомиться со своим нутром, – задумчиво говорил Пихтачев больше сам с собой, чем с гостем. Теперь его заинтересовала стая ворон, клюющих на дороге конский помет.
Принужденно кашлянув в кулак, Краснов тихонько сказал:
– Ну дела пошли на прииске! Глаза бы мои не глядели. Конец нашему брату приходит.
– Кому это конец? – повернувшись от окна, спросил Пихтачев.
– Старателю, приисковой вольнице, значит.
– А! – Пихтачев вновь задумался.
Только сегодня в разговоре с Рудаковым он сам жалел артель, а сейчас нужно будет спорить о ней с Красновым.
– Веками отцы и деды наши вольной птицей по тайге летали, – завел старую песню завхоз. – И все враз нарушилось.
– Кто нарушил? Народ. А народ – хозяин. Значит, так надо. Пора старателю находить свое настоящее место в жизни.
– Твое место, Павел Алексеевич, тоже там, на хозяйских, работах? Раньше я другие песни слышал, а теперь и ты с чужого голоса запел, – ехидно бросил Краснов.
– Выходит, голоса у нас с тобой всегда разные были, только плохо прислушивался я. Зачем с водкой пожаловал? – увидев на столе бутылку, резко спросил Пихтачев.
Краснов подмигнул:
– Попроведать друга зашел, испить за его здоровье.
– Водку убери. И без нее на душе погано. Будто я вчера целый мир ограбил, – поеживаясь, буркнул Павел Алексеевич и, подойдя к столу, вновь жадно приложился к кринке, облив рубаху рассолом.
– Скажешь тоже, целый мир ограбил. Это бы здорово! – захихикал завхоз.
– Вижу, ты не отказался бы. А пока на артельном добре практикуешься?
– Эх, Павел Алексеевич, и ты поверил наговорам? Сняли с завхозов, так теперь любой на меня несет, прискребаются. Ты теперь тоже не председатель…. – Краснов не закончил фразы и громко вздохнул.
Павел Алексеевич замолчал, внезапно почувствовав жалость и к себе, и к попавшему в беду завхозу.
Краснов уловил перемену в его настроении и продолжал тихим, вкрадчивым голосом:
– Вот и я решил насчет своего места в жизни подумать. Поеду присмотреть себе работенку. Напиши мне справочку от артели, пока еще печать у тебя. А я уж тебе на память на зубок подарю, – лепетал он.
– Подлюга ты! – выпалил Павел Алексеевич, поняв, зачем пожаловал гость, и замахнулся на завхоза кулаком. – Где взял золото? В штольне наворовал?
– Господь с тобой, что ты подумал-то обо мне! – испуганно забормотал Краснов и, поняв, что проболтался, упал на колени. – Не губи меня, Алексеич, не губи!.. Ведь я к тебе, как к отцу родному… как к отцу родному… – скороговоркой шептал он, закрыв лицо ладонями.
– Говори, откуда у тебя золото? Говори, подлец! – наступал на него взбешенный Пихтачев.
– Скупал у старателей… Скупал на кровные денежки. Только ты силком не наскакивай и лучше помолчи о том, Алексеич… Для твоей пользы советую, – вставая с колен уже угрожающе шипел Краснов, воровато посматривая на дверь.
– Идем к Рудакову! Одевайся! – закричал Пихтачев и, сняв с печи теплые, подшитые толстым войлоком пимы, подошел к стене, на которой висела берданка.
Но снять ружье ему не удалось, что-то тяжелое обрушилось на его голову, и Павел Алексеевич потерял сознание.








