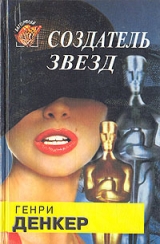
Текст книги "Вкус запретного плода"
Автор книги: Генри Денкер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Несомненно, он может позвонить Ли Манделлу, почти ничем не рискуя. Он протянул руку к стоявшему возле бассейна телефону и набрал номер Крествью 6-2551. Попросил гостиничную телефонистку соединить его с коттеджем. Джеф представился. Юрист захотел поскорее встретиться с ним. Они договорились позавтракать в коттедже Манделла.
Утром Манделл поприветствовал Джефа. Юрист был в рубашке с расстегнутым воротником; он курил трубку. Манделл на удивление сильно сжал руку Джефа, предложил ему сесть в кресло, протянул меню: «Заказывайте!» Джеф выбрал кофе, тост и апельсиновый сок. Когда Манделл поднял телефонную трубку, чтобы заказать еду, Джеф обнаружил, что крупный человек ест мало. Для себя Манделл попросил только кофе – правда, в большом количестве.
Положив трубку, Манделл сказал:
– Люди едят слишком много! В мире полно голодающих, однако переедание убивает больше американцев, чем что-либо другое. Это не задевает ваше чувство справедливости?
Джеф молча улыбнулся. Манделл посмотрел на актера, собрался возмутиться, но потом смягчился и сказал:
– Это была маленькая хитрость. Я хотел проверить, не произнесете ли вы либеральную тираду о несправедливости мира.
Не дожидаясь реакции Джефа, Манделл продолжил:
– Очаровательный у вас тут штат. Вы занимаете первое место в Америке по производству вина, лимонов и авокадо. Намного опережаете другие штаты! Также вы – главные поставщики другого товара – shmucks! Учтите, я не осуждаю всех shmucks. Я жалею их. Жалею всех жертв.
Наверно, дело в моем еврейском происхождении. Американцы англо-саксонского происхождения в подобных случаях употребляют слово prick, то есть хер. Что это такое? Подлый, злой, агрессивный человек. Сравните это с еврейским словом shmuck. Буквально оно означает тот же мужской орган. Что такое shmuck? Глупый, простодушный человек, вечная жертва. Возможно, наша долгая печальная история заставляет нас прежде всего думать о жертвах.
В нашем деле присутствуют люди, относящиеся к обоим типам. Prick – это неисправимые коммунисты. Они присутствуют здесь в небольшом количестве. Но что касается shmucks – таких тут множество. И я должен защитить этих людей от последствий их глупости. И вы должны помочь мне. Поэтому очень важно, чтобы мы полностью понимали друг друга. Потому что вы и я… – подавшись вперед, он посмотрел в глаза Джефу, – от нас двоих зависит судьба этого города, всей киноиндустрии.
Он протянул вперед свои толстые руки с короткими пальцами, на которых сохранились следы многочисленных травм.
Внезапно Манделл застеснялся их; он поднял правую руку и показал два давно сломанных пальца – большой и средний.
– Блокировал удар с рук. Я был полузащитником в нью-йоркской команде. А вы?
– Я играл в нападении, – ответил Джеф, гадая, знал об этом Манделл заранее или случайно попал в цель.
– «Айова-стейт»? – спросил юрист, подтверждая, что ему кое-что известно о Джефе и он только прикидывается неосведомленным.
– Нет. «Южная Айова».
– А затем?
– Стал спортивным комментатором на матчах между колледжами. Потом переключился на соревнования по бейсболу в Лиге Трех Штатов. В конце концов заинтересовался кинематографом, решил испытать судьбу здесь.
– И стали звездой, – Манделл кивнул; Джеф воспринял это как знак восхищения. – Может быть, если бы я не пошел в юридический колледж, то стал бы вторым Эдвардом Дж. Робинсоном.
Манделл засмеялся. В дверь постучали. Он встал, чтобы впустить официанта с их завтраком.
Отпив кофе, Манделл внезапно спросил:
– Вы знаете, почему здесь такое множество людей позволяет себе быть shmucks?
Джеф помедлил с ответом, и Манделл сказал:
– У вас хотя бы есть версия?
– Думаю, дело в деньгах, – произнес наконец Джеф. – Здесь они делаются в большем количестве, чем где-либо в мире. Причем людьми, которые никогда всерьез не рассчитывали на это. Людьми, не считающими, что они заслуживают богатства. Это порождает чувство вины. Они хотят поделиться, помочь другим. Испытывают чувство ответственности за менее удачливых.
– Вы тоже это чувствуете?
– Думаю, да, – произнес наконец Джеф.
– Вы не знаете это точно? Только «думаете»? – чуть более резким тоном спросил Манделл.
– Да, я это ощущаю.
– Хорошо.
Внезапно Манделл пустился в объяснения.
– Послушайте, Джефферсон, давайте проясним ситуацию. Я не хочу, чтобы вы обязательно давали показания. Вы нужны мне в качестве символа – порядочного, симпатичного американского символа. Вы слышали о вине соучастия? Мне нужна невинность соучастия. Ваша невинность.
Однако мое решение о даче вами показаний – не самый важный фактор. Возможно, сейчас, пока вы сидите рядом со мной, комиссия выписывает вам повестку. Поэтому я должен подготовить вас так, словно я собираюсь использовать вас в качестве свидетеля. Ясно?
Джеф кивнул менее уверенно – теперь он понял, что комиссия может взять дело из рук Манделла в свои собственные.
– Я подчеркну следующее: если вам придется давать показания, не произносите такие слова, как «думаю», «полагаю», «возможно». Вы знаете или вы не знаете. Ни то, ни другое не является преступлением. Если вы говорите уверенно, твердо.
Манделл начал ходить; Джеф забыл о своем тосте и кофе. Он внимательно следил за юристом, хотя Манделл не замечал, что на него смотрят.
– Человек, который «думает», «полагает», выглядит так, будто он что-то утаивает. Любой конгрессмен, мечтающий увидеть свою фамилию в газетной «шапке», будет с удовольствием засыпать каверзными вопросами непрофессионального свидетеля. Он представит вашу неуверенность за желание уйти от ответа. Бросит тень на остальные ваши показания, подловив вас на одном неудачном слове.
Манделл повернулся к Джефу.
– И вообще, какой вопрос я вам задал? Есть ли у вас какая-нибудь теория? Иметь теорию о чем-либо – не преступление. Не иметь ее – тоже. Если она у вас есть – скажите «да»! Если нет – скажите «нет». Это не может стать поводом для обвинений!
Манделл принялся раскуривать трубку; держа в руках горящую спичку, он сказал:
– Если, конечно, вы действительно безупречны. В противном случае скажите мне об этом сейчас!
Джеф на мгновение задумался о том, стоит ли упоминать любовные связи, которые он имел за последние два года. Пока он размышлял, Манделл спросил:
– О чем вы думаете?
– Когда вы говорите «что-то», что это означает?
Улыбнувшись, Манделл ответил:
– Думаю, вас не будут спрашивать, занимались ли вы любовью на этой неделе. Или на прошлой. Или в прошлом месяце. Хотя кто-то из этих похотливых южных баптистов способен задать такой вопрос для газетного заголовка.
– А если я буду давать показания и они на самом деле меня спросят?
– Я хочу, чтобы вы возмутились! Сочли это оскорблением вас, вашей жены и всего добропорядочного голливудского общества. Это – распространенная клевета, постоянно обрушивающаяся на обитателей Голливуда. Согласно расхожему мнению все они сексуально распущены и аморальны.
– Вы хотите, чтобы я произнес все это? – спросил Джеф.
– Нет, все это я скажу за вас. Вы только изобразите возмущение и обиду. Остальные члены комиссии должны испытать стыд за своего товарища, задавшего такой вопрос.
– А когда вы закончите, что тогда?
– Прежде чем я скажу это, я постараюсь узнать, не прелюбодействовал ли какой-нибудь член комиссии с молодой звездочкой.
– То есть вы собираетесь…
Манделл быстро рассерженно произнес:
– Нет, не собираюсь! Но если студии принимают их здесь так же, как меня, предлагают им любые «услуги», то, несомненно, конгрессмены испытывают определенные соблазны. Один из них или даже все могут оказаться в постели хорошенькой крошки. Если такое случится, я хочу узнать об этом событии. Но ни секундой ранее. У меня есть моя этика. Я использую все законные возможности, но никого не подставляю с помощью провокации. Есть еще вопросы?
Джеф покачал головой, восхищаясь коренастым человеком, смотревшим на него своими проницательными глазами. Помолчав, Манделл приступил к наиболее деликатной части своего объяснения.
– Теперь я хочу, чтобы говорили вы.
– О чем? – спросил Джеф.
– О себе. О ваших мыслях, убеждениях. Каковы ваши политические, социальные взгляды? Вас не станут о них спрашивать, но если вы способны дать хорошие ответы, возможно, окажется полезным проявить инициативу.
– Думаете, стоит сказать, что я – демократ?
– Для наших целей лучше бы подошел республиканец. Вы сторонник нового курса Рузвельта – Трумэна?
– Да.
– Почему?
– Вы сказали, что мне не будут задавать такие вопросы.
– Сейчас вас спрашиваю я!
– Это не имеет никакого отношения к…
– Я бы хотел знать! – настойчиво произнес Манделл.
– Хорошо, – сказал Джеф и заколебался, прежде чем начать. – Я родом из маленького города, расположенного на северо-востоке Айовы. Я учился на втором курсе колледжа, когда Депрессия ударила по фермерскому штату. Банки изымали заложенную недвижимость, затем они сами начали закрываться; люди оставались без наличных, они не могли купить муку и печь хлеб. Конечно, деньги на обучение кончились, и мне пришлось вернуться домой автостопом.
Я добрался до дома в хмурый, пасмурный день. Дул сильный ветер. Я вылез из грузовика, подбросившего меня, и зашагал к дому. Я увидел отца, сидевшего на тракторе возле сарая. Он сидел неподвижно, как статуя. Его глаза были открыты, но он ничего не видел. Он казался самым подавленным человеком на свете. Выглядел так, словно его час пробил, но он не знает, как умереть.
Он ничего не произнес. Я – тоже. Я приближался к дому. Я не помнил его таким выцветшим. Я поднялся на крыльцо. Услышал голос матери: «Джеф?» Она всегда узнавала меня по скрипу досок. Я вошел внутрь. Она сидела в холодной темной кухне. На плите ничего не варилось, и это показалось мне странным.
«Ты видел его?» – спросила она меня.
Я кивнул. «Он совсем упал духом. Узнав, что мы не получим кредита под посев кукурузы, он сломался. Я сказала: «Давай воспользуемся нашими последними сбережениями». Но он отказался. Сказал, что они пойдут на твою учебу. Его сын не будет темным фермером. Он станет образованным человеком, способным конкурировать с кооперативами. Он не захотел взять деньги, скопленные на твое обучение, и купить на них зерно для посева».
Она покачала головой.
И мне пришлось сказать, – продолжил Джеф: – «Мама, я вернулся домой, потому что не получил этих денег». Она повернулась, посмотрела мне в лицо и сказала:
«Ну конечно. Банк закрылся. Люди говорят, что он никогда больше не откроется».
«А деньги? – спросил я. – Две тысячи долларов?»
«Тысяча четыреста. Они пропали. Услышав об этом, он отправился в поле, затем сел на старый трактор. Он все время молчит. А я… я просто жду. Сама не знаю чего. Но я жду. Теперь, когда ты здесь, я знаю, что мы сделаем. Мы пойдем в банк! Заберем наши деньги!»
«Как, мама?» – спросил я.
«Мы просто заберем их оттуда!» – сказала она.
Мама поднялась, и мне показалось, что она стала на фут выше ростом. Она взяла меня за руку, как в детстве, когда она ходила со мной по воскресеньям в церковь. Мы покинули холодный серый дом.
Мы прошли мимо отца, но он не заметил нас. Дойдя до сарая, мы сели в старый «форд» модели «А». Вырулив на дорогу, я увидел, что горючее заканчивается. Мы поехали в сторону города. Стрелка дрожала возле нуля. Я остановился на окраине города возле бензоколонки мистера Паркера.
Паркер стоял между двумя насосами. Меня удивило то, что он не улыбался. Он словно стоял на страже, не радуясь клиентам. Я сказал: «Здравствуйте, мистер Паркер». Он хмуро буркнул в ответ: «Здравствуй». «Наполните бак», – попросил я. Он посмотрел на меня, потом на маму, затем снова на меня и спросил: «Деньги есть?» Я повернулся к маме, но она ничего не сказала. Ее губы были поджаты, глубокие складки у краев рта напоминали высохшие жарким летом ручейки. Я сунул руку в карман, нашел там девятнадцать центов и протянул их Паркеру. Паркер накачал ровно галлон бензина и ни грамма более. Когда я снова завел мотор, он подошел ко мне и сказал: «Компания требует с меня наличные за каждую каплю». Он даже не выразил огорчения по поводу того, что вынужден так обращаться со своими старыми друзьями. Но мы это знали.
Мы въехали в город. Я по-прежнему понятия не имел, что намерена предпринять мама. Главная улица была забита людьми. Они стояли группами по пять-шесть человек. Мужчины докуривали «бычки», женщины присматривали за детьми, следили за тем, чтобы они не дрались и не плакали, словно на похоронах.
Я никогда еще не видел такого хмурого, серого неба. Я начал мерзнуть – близился вечер. Повернувшись к маме, я спросил:
«Что мы будем делать?»
«Едем к банку!»
«Что это нам даст?»
«Поезжай к банку!»
Я подъехал к банку. Там собралась большая толпа. Я остановил автомобиль, и мы вышли. Протиснулись к окну банка, чтобы заглянуть внутрь. Там находились люди. Я узнал шерифа, мэра Кристенсена, доктора Брейнара. В банке было темно. Разглядеть что-либо еще мне не удалось.
Мама обратилась к людям, стоявшим возле нее: Сколько еще мы будем стоять здесь и ждать? Если он не хочет дать нам кредит на посев, это одно дело! Но здесь лежат наши личные деньги. Давайте возьмем их!»
Никто не сдвинулся с места. Мама сказала:
«Когда речь идет о моих деньгах, я не намерена оставаться безмолвной, как вы. Я потребую мои кровные!»
Ее голос звучал пронзительно. Я чувствовал, что она вот-вот закричит или заплачет.
Старый Бриджер, владелец скобяной лавки, сказал:
«Ты разве не слыхала? Он сунул себе в рот револьвер и нажал на спуск».
«Кто?» – спросила она.
«Генри. Генри Торн. Когда он не смог открыть банк…»
Мать ахнула. Потом заплакала. Я не знаю, кого она оплакивала – Генри Торна или всех нас, ждавших в холоде. Я взял ее за руку и повел к машине. Мы без единого слова доехали до дома.
Добравшись до фермы, я свернул с асфальтированной дороги. Уже стемнело, и я едва мог разглядеть трактор. Но я понял, что папа там уже не сидит. Мать тоже это поняла. Я заметил, что ее тело окаменело. У нас обоих мелькнула одна мысль. Я остановил машину возле трактора и закричал: «Папа! Папа!» Ответа не было. Я выскочил из «форда» и побежал к сараю. Не знаю точно, почему именно к сараю – наверно, я догадался, что если бы он решился сделать что-то, то это произошло бы там, а не в чистом доме.
Крича: «Папа! Папа!», я домчался до сарая. Там я обнаружил его. Не знаю, что он делал до того, как я закричал, но когда я оказался там, папа бросал сено в денники двух рабочих лошадей. У меня отлегло от сердца. Я повернулся, чтобы уйти, и вдруг увидел стоящую в углу охотничью двустволку. Я невольно перевел взгляд с ружья на отца. Он заметил это, но лишь подкинул еще сена в денник. Потом поставил вилы в угол сарая, взял ружье и сказал: «Я хотел настрелять нам фазанов на ужин».
Он направился к выходу, заряжая ружье. Я никогда не спрашивал его, какие намерения были у него тогда. Возможно, мы вернулись вовремя и помешали ему сделать что-то с собой. С того дня он походил на человека, перенесшего серьезную длительную болезнь. Он поправился. Но так и не стал прежним.
Перед его смертью дела улучшились. Банк снова открылся. Люди начали постепенно получать назад свои деньги. Уверенность возвращалась. Правительство стало проявлять интерес к фермерам. Папа снова поднялся на ноги. Он никогда не был богатым, но поднялся выше прежнего уровня. И это было хорошо, потому что он прожил недолго. Нельзя умирать неудачником. Человек должен умирать, поднимаясь вверх, а не катясь вниз.
Когда Джеф закончил, Манделл помолчал. Он услышал больше, чем рассчитывал. И Джеф сказал больше, чем собирался.
– Я никогда прежде не рассказывал это кому-либо, – как бы извиняясь, сказал актер, и Манделл понял, что история Джефа поведала о нем самом так же много, как и о его отце.
– Ваша мать еще жива?
– Нет. Она умерла четыре года назад.
Манделл задумался на мгновение, потом внезапно спросил:
– И поэтому вы стали демократом? Сторонником нового курса?
– Да, поэтому.
Манделл зажег спичку, поднес ее к трубке. Глядя поверх пламени, спросил:
– Значит, вы можете понять, почему некоторые люди становятся коммунистами?
– Я же не стал им, – отозвался Джеф.
– А если бы кто-то нашел к вам правильный подход в нужное время?
– Не знаю. Неужели так важно, что я думаю?
– Я хочу, чтобы вы осознали одну вещь, Джефферсон. У каждого человека есть свои раны. Свои шрамы. И он выбирает себе лекарство. Нельзя осуждать его, если это лекарство отличается от моего или вашего, – с сочувствием произнес Манделл.
– Что, по-вашему, выявится на этих слушаниях? – спросил Джеф.
– Ничего, – ответил Манделл и быстро добавил: – Ничего, если я добьюсь успеха.
– А это в ваших силах?
– Существует конституция. И Пятая поправка, позволяющая человеку не свидетельствовать против себя самого. Этого достаточно для работы. Конечно, я не могу сказать, как поступит общество с теми, кто не пожелает говорить. Но я – юрист, а не специалист по связям с общественностью. Джефферсон, я буду надеяться на вас. На то, что вы согласитесь сделать это.
Манделл протянул актеру руку. Они обменялись рукопожатиями. Джеф покинул коттедж и зашагал по бетонной дорожке мимо тамарисков с толстыми стволами и высоких стройных пальм. Манделл тем временем поднял трубку и попросил телефонистку соединить его с Доктором Ирвином Коуном.
Вскоре Манделл услышал голос Доктора.
– Коун? Это Манделл. Я только что побеседовал с вашим клиентом Джефферсоном. Он подойдет нам. Если только я могу рассчитывать на него.
– Вы можете рассчитывать на него.
– Я должен знать кое-что. Он много пьет?
– Нет. Он поддерживает хорошую физическую форму.
– Погуливает?
– Человек сделан не из дерева, – произнес Доктор старую еврейскую шутку.
– Я имею в виду опасные связи. С замужними женщинами. Или с очень юными девушками. Или… с мальчиками. Я не судья. Но я должен знать.
– Только женщины. Достигшие совершеннолетия.
– Хорошо. Потому что во всех остальных аспектах он нам подходит. Славный американский парень с фермы в Айове. Симпатичный. С хорошим языком. Любая мать захотела бы иметь такого сына. Но самое лучшее в нем – это то, что он безликий. Красивый, но безликий. Он – никто, поэтому может быть кем угодно.
– Разве это плохо для актера, который всю жизнь играет других людей? – спросил Доктор.
– Я не сказал, что это плохо. Это хорошо. Да, он может быть кем угодно. Для нас он станет мистером США.
– Слава Богу, от светлых волос есть хоть какая-то польза.
– Что вы имеете в виду?
– Для исполнения главной роли светлые волосы – недостаток. Они плохо смотрятся на экране. С голубыми глазами дело обстоит еще хуже. Они кажутся блеклыми. Среди крупнейших звезд почти нет блондинов. В юности – возможно! Но настоящие большие звезды, такие, как Богарт, Гейбл, Пауэлл, Гилберт, обязательно должны быть темными!
– Поэтому он не поднялся на самую вершину?
– Думаю, да, – печально произнес Доктор.
– Интересно, – сказал Манделл. – Как бы восприняли это наблюдение негры? Для моих целей голубоглазый блондин – это то, что нужно.
– Отлично! – Доктор положил трубку.
5
Ли Манделл оказался прав в одном отношении. Киноиндустрия встала на уши, принимая и развлекая комиссию конгресса. Складывалось впечатление, что расследование – это честь, а не угроза, заставлявшая многих обитателей Беверли-Хиллз не спать по ночам, обдумывая ответы на возможные вопросы, ломать голову над тем, следует ли являться на слушания.
К первому дню заседаний Манделл успел отлично подготовиться. Он знал силу своей позиции. И ее слабости. Знал, кто из вызванных звезд, сценаристов и режиссеров является коммунистом, а кто – нет. Кто был им в прошлом. Кое-кому он посоветовал воспользоваться конституционным правом молчать.
Опасность использования конституционных прав заключалась в том, что общественность и непосредственные участники слушаний всегда считали лиц, ссылавшихся на них, бесспорно виновными. Такого же мнения придерживались боссы киностудий, платившие от двух до пяти тысяч долларов в неделю сценаристам, режиссерам и актерам, собиравшимся скомпрометировать всю индустрию и ее продукцию своим отказом от дачи показаний.
Недовольство достигло таких масштабов, что пришлось созвать особое совещание, на котором Ли Манделл и Ирвин Коун попытались успокоить администрацию. Один из руководителей «Фокса» выразил общее настроение: «Подозрения принесут нам больший вред, нежели правда. В конце концов, в самом худшем случае выяснится, что двадцать, тридцать, сорок человек являются коммунистами. Хорошо! Пусть это станет известно всем! Мы избавимся от этих негодяев и покажем миру, что киноиндустрия снова чиста. Это лучше, чем позволить всей стране думать, что мы преднамеренно укрываем коммунистов!»
Эта сильная логика почти убедила всех собравшихся. Накануне первого слушания Ли Манделл мог потерять контроль над ситуацией; его тщательно подготовленный план оказался на грани срыва. В его практике уже случалось, что перед судом эмоции клиента порождали подобный кризис.
К счастью для Манделла, тут присутствовал Доктор. Коун поднялся со стула, и этот простой поступок заставил всех притихнуть. Манделл с облегчением мысленно улыбнулся, отметив власть Доктора.
– Хорошо! Хорошо, господа! – начал Коун. – Давайте обсудим, можем ли мы сказать им правду. Устроим публичное покаяние сейчас, здесь! Я готов выступить первым!
Три года тому назад ко мне пришел один из моих известнейших клиентов. Порядочный, умный киноактер, знакомый вам всем. Я понял, что у него неприятности. Более серьезные, чем получение повестки. Он не мог говорить со мной в офисе. Мы поехали в долину. Там я попросил моего шофера выйти из машины.
Мой клиент сообщил мне правду, которую вы жаждете услышать. Однажды в годы войны он устроил у себя дома благотворительный прием, где собирались пожертвования для России. Есть ли в этой комнате люди, не оказывавшие финансовую помощь России? Или Испании? Я взял этого человека за плечо и сказал: «Возьмите себя в руки. Скажите правду. Вам нечего бояться. Дрожать. Плакать». Да, господа, он плакал. И отнюдь не по-актерски. Это были слезы напуганного человека, испытывавшего страх за свою карьеру.
Но мне не удалось успокоить его. Он повторял: «Вы не понимаете, вы не понимаете…» Я позволил ему плакать, пока он не смог заговорить. Он сообщил нечто интересное. На тот прием в его доме явился без приглашения, с другим гостем, русский генерал в форме.
– Ну и что? – спросил человек из «Уорнер». – Во время войны такое случалось. И все относились к этому нормально!
– Ну и что? – повторил Доктор. – Через пять лет, когда началось следствие по делу Розенбергов, выдавших русским секреты создания атомной бомбы, газеты сообщили, что именно этот русский генерал вывез бумаги в Россию!
Доктор выдержал паузу, чтобы его слова получше проникли в сознание людей. Затем он продолжил:
– Господа, я считаю, что мы можем нанести себе значительный вред, последовав совету нашего талантливого юриста. Хотя лично я никогда бы не осудил невинного человека за поступок, вредный для общества, но совершенный без умысла, по легкомыслию.
Руководители студий немного поворчали, но в конце концов один из них высказался в пользу того, чтобы общую стратегию определял Манделл.
Когда Манделл и Коун остались одни, юрист повернулся к Доктору.
– Это действительно правда?
Доктор кивнул.
– Кто?
– Не могу сказать вам. У меня тоже есть своя этика. Поверьте мне, мой клиент – самый порядочный человек на земле.
Манделл не стал развивать эту тему. Он заговорил о тактике.
– Следует ли мне выставить Джефферсона? Я не могу принять решение.
Маленький человек засмеялся.
– Я – Доктор, а не юрист, но если вам нужен мой совет – совет человека, знающего этот город и его обитателей, – я рекомендую вам поберечь Джефферсона. Вы не знаете, что нас ждет. Оставьте Джефа на десерт. Иногда после неважного обеда человек помнит только десерт, если он оказался хорошим.
Манделл кивнул. Если Джеф будет давать показания, то он сделает это последним.
В основном слушания шли согласно ожиданиям Манделла. Кое-кто из конгрессменов постоянно задавал вопросы, позволявшие получать минимум информации, но обеспечивающие хорошие заголовки. Лысый, полный председатель Колби, новоанглийский пуританин, обильно цитировал Библию – особенно при допросе свидетелей, дававших показания неохотно. Он подчеркивал, что раскаяние приносит пользу душе.
– Облегчите свою душу, сын мой, – повторял он. – Вы почувствуете себя лучше. Вы обнаружите, что эта страна умеет прощать.
Казалось, он был готов взять свидетеля за руку, вместе с ним упасть на колени и запеть псалом. Но Колби воздерживался от этого.
Все это время Манделл сохранял спокойствие. По его совету Джеф держался точно так же. Всякий раз, когда актер испытывал желание прокомментировать ход слушаний, перегнувшись к Манделлу через его помощника, он одергивал себя – даже в те напряженные минуты, когда первый сценарист отказывался давать показания. Этот человек, пренебрегая советом Манделла, вступал в пререкания с членами комиссии, рисковал своим конституционным правом молчать. Тем не менее Манделл, его помощник и Джеф казались невозмутимыми.
Но самое серьезное сражение Манделл выдержал, когда встал вопрос о внесении в зал заседаний телекамер. Лицемерно скрывая личные мотивы за «правом людей на информацию», Колби и его коллеги решили организовать телевизионную трансляцию слушаний. Телекомпании и местные станции поддерживали их, подкрепляя свои требования ссылками на «свободу прессы». Однако все понимали, что такие открытые слушания с участием кинознаменитостей – наилучший способ почти без затрат собрать большую телеаудиторию и поднять рейтинг.
Что касается Колби и его коллег, то какой конгрессмен отказался бы появляться ежедневно перед всей страной в образе борца с врагами нации?
Манделл проявил упорство, не давая своего согласия. Никаких телекамер, никакого публичного зрелища! Или свидетелей не будет. Он был готов обратиться в Верховный суд.
В течение нескольких дней Манделл одерживал верх. Однако после того, как первый не пожелавший сотрудничать с комиссией сценарист сослался на Пятую поправку и конгрессмены осознали в полной мере, что упрямое молчание предоставляет им возможность публично проявить свой патриотизм, их желание «засветиться» на телеэкране значительно усилилось.
Манделл оставался бесстрастным как на людях, так и в частных беседах. На публике он ревностно отстаивал свою позицию: телекамеры, осветительные приборы, операторы будут отвлекать внимание людей, и свидетели лишатся права на справедливую оценку показаний.
На самом деле тактика Манделла преследовала практические цели. Пока между юристом и Колби шли яростные дебаты, вызывали самых несговорчивых, упрямых свидетелей. Они появлялись в отсутствие телекамер, отказывались говорить. Члены комиссии обрушивали на них длинные тирады, лишь маленькая часть которых попадала в газеты.
Если бы Манделлу удалось затянуть спор до вызова последнего «отказника», он бы одержал серьезную победу. Никто не понимал это лучше председателя Колби.
Когда восьмой сценарист сослался на поправку, борьба по телевизионному вопросу внезапно приняла новый, неожиданный оборот. Манделл и Джеф узнали об этом, покидая зал заседаний. Гинзбург, юрист из «Метро», ждал их у дверей. Оттеснив преследовавших Манделла репортеров, Гинзбург отвел его в сторону.
– Что случилось? – спросил Манделл.
– Негодяй обратился в суд! – сказал Гинзбург.
– Колби обратился в суд? Зачем?
– Чтобы получить разрешение на допуск в зал телеоператоров с камерами и осветителей. «Общественность имеет право на информацию, касающуюся безопасности страны».
– Теперь он покажет «отказников» по общенациональному телевидению!
Гинзбург кивнул.
– По-моему, это решение незаконно. Можно подать апелляцию, – сказал Манделл.
– Пока вы сделаете это или получите отсрочку, ущерб уже будет нанесен. Он погубит киноиндустрию. Они поступят с нами, как Кефовер – с мафией. Любой человек, появившийся на телеэкране, является в глазах людей преступником. Когда этот лицемер перестанет читать проповеди и салютовать флагу, мы все окажемся русскими шпионами. Публика может быть очень непостоянной. Она забудет все, что мы сделали для страны во время войны и национальных бедствий…
Но Манделл не слушал собеседника с того момента, как Гинзбург заговорил об обращении в Верховный суд. Он думал. Внезапно Манделл перебил Гинзбурга:
– Мне нужно два, возможно, три дня.
– Зачем?
– Я хочу за три дня пропустить всех свидетелей, желающих воспользоваться их конституционными правами. Сделать это до того, как в зале заседаний появятся телекамеры. Устройте это для меня!
– Каким образом? – спросил Гинзбург.
– У вас больше опыта в таких делах, чем у меня. Дайте мне три дня! – приказал Манделл.
6
Когда председатель комиссии по расследованию антиамериканской деятельности вошел вечером в ресторан «Романов», куда его пригласил Роберт Килцер – советник, представитель и главный цензор всей киноиндустрии, он понял, что в этом зале, заполненном знаменитыми людьми, сам является знаменитостью.
Невысокий, коренастый мистер Колби приблизился к столу; Килцер встал и протянул руку; на его лице появилась умная, добрая улыбка, которая сама по себе оправдывала половину его огромного оклада. Вторую половину он оправдывал в моменты, подобные этому, когда ему приходилось завоевывать расположение государственных чиновников и добиваться от них помощи киноиндустрии. Килцер работал в аппарате Рузвельта и Трумэна и обладал превосходными связями. Килцер вмешивался, когда правительство собиралось повысить налоги на прибыль индустрии развлечений. Когда назревала угроза скандала, или он уже происходил, как в деле Ингрид Бергман, в обязанности Килцера – «царя киномира» – входило умиротворение публики и государства. Килцер был идеальным свидетелем на слушаниях, посвященных работе киноиндустрии. Он умел весьма убедительно прочитать приготовленное заявление, уйти от ответа на каверзный вопрос с помощью потока уклончивых фраз.
Сегодня Килцер отрабатывал свой оклад – сто пятьдесят тысяч в год, – развлекая председателя комиссии. Килцер знал это. Более того, Колби также знал это.
Председатель задал тон обеду, произнеся в самом его начале:
– Килцер, я знаю, почему вы позвонили мне. Тем не менее я рад возможности пообедать с вами. Если только мы сразу покончим с вопросом о телевидении и не будем обсуждать его в течение остальной части вечера.
Это было откровенное заявление, которое мог сделать принципиальный человек. Оно соответствовало тому впечатлению, которое всегда производил Колби.
Килцер улыбнулся, как бы подтверждая, что Колби прочитал его мысли.








