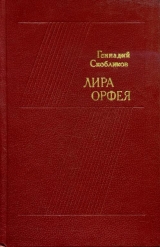
Текст книги "Лира Орфея"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Лира Орфея
В романе автор продолжает исследование характера нашего современника, начатое им в повестях «Варвара Петровна» и «Наша старая хата».
Эта книга – о трудном счастье любви, о сложностях и муках становления художника.
Нежданное в его нынешнюю бессонницу и такое хорошее, такое приятное ему сновидение: его голова покоилась на твоих коленях, и ты гладила его волосы и тихо пела...
И было ему там, во сне, в этот, говорят, краткий миг – и из тех давних-давних горьких и сладостных его детских снов, когда, бывало, опять и опять снилась живою их умершая мать и он плакал от жалостливости и счастья, сам после, проснувшись, бессильный вспомнить – о т ч е г о; и в то же время было там, в этом сне, – все из всей его нынешней жизни, и ты снилась ему – какую он и помнит тебя все эти годы, и еще как-то там получалось, что была ты одновременно вроде теперь и жена его и его же мать, и вот все вот это, такое невозможное в реальности, было там, во сне, как раз естественным и даже более – единственно возможным, и ему (считай сорокалетнему человеку) было опять так по-младенчески и обидно и жалостливо, и так невыразимо хорошо...
Да, он и сейчас еще помнит, он и еще и еще вспоминает, это было такое единое: и давнишнее-давнишнее детское, и нынешнее взрослое его. И вот и выходит, думалось ему теперь, одному в темноте этой ночи, что никуда от себя нам не деться, что все свое мы действительно носим с собой, в глубинах себя, и только, может быть, именно в снах – в их сложных запутанных образах – наши глубинные боли так явно и ясно и открываются нам...
А ты – там, во сне – все гладила и перебирала его волосы, гладила и перебирала, и пела, пела без слов – и для него и для себя тоже, и он все-все понимал в твоей песне, все-все. И он лежал, головой на твоих коленях, и сам не замечая того, плакал.
Знала бы ты, как же было ему хорошо!..
К тому же вы были где-то одни, может, даже вообще одни на всей земле и во всем мироздании, над вами... будто з в у ч а л о какое-то особенно синее небо, вокруг была степь и высокие спелые травы, и ветер мягко катил и катил мимо вас бесконечные светлые волны.
И, наверное, это и было все то, чего всю жизнь или, может, всю вечность молча и просила его душа, и теперь он, как малый ребенок, только вот этого, должно, и хотел бы: лежать и лежать на твоих материнских коленях и слышать и слышать твое материнское пение...
Да, он помнит, вы точно были где-то в степи, а, может, и не в степи, а у него дома, на родине, в его курской деревне, где-то в лесу на поляне, средь высокого разнотравья, ты сидела, а он лежал на спине, положив голову тебе на колени, и вас овевал легкий и мягкий ветер, и над вами было то самое – еще из его давних снов – будто з в у ч а в ш е е вам лазурное синее небо...
И хотя он и не видел твоего лица, это была ты, твое лицо, и глаза тоже, он знает, были твои, и твои руки, и голос... И ему и оставалось лишь сожалеть, что все вот это, такое очевидное и такое естественное тут, во сне, и о чем сам он, оказывается, знал всю свою жизнь, никто из вас не знал и не ведал раньше... и он из-за этого так долго и много и голодал рядом с вами по вашей любви к нему.
Да, и долго и много – всегда – голодал рядом с вами по вашей любви к нему...
И именно потому, что голод тот еще и теперь не прошел, даже в этом счастливом сне, он и боялся – обязательно не забыть бы потом сказать тебе, напомнить, предупредить, чтоб ты больше н е у х о д и л а, никогда вообще, потому что... Ну, потому, что э т о г о п о т о м у ж е н и к о г д а н е в е р н у т ь. Неужели и сама ты не знаешь, как одиноко и обидно всегда ему, одному, когда ты опять и опять оставляешь его и уходишь, зачем-то уходишь к другим...
А ты все гладила и перебирала его волосы, гладила и перебирала и все ниже и ниже склонялась над ним, все ниже и ниже...
И опять ему было так, что ты и есть его мать и что сам он – все тот же ребенок... и что это ж и есть все то самое, чего он никак не мог уловить в себе раньше, а теперь вот он все видит и все понимает, и вот об этом-то, что ты его мать, но только ты не знаешь этого, он же и хочет давно тебе р а с с к а з а т ь. Всю свою жизнь, все время – только вот это и хочет тебе рассказать...
Такое простое, такое ему самому очевидное... и все время, всю жизнь – такое же непосильное, чтоб рассказать и тебе...
Да, и еще раз по кругу, по новому трудному кругу, чтоб, может, наконец изжить навсегда эту давнюю-давнюю боль.
1
...Да только вот где оно есть, начало этого самого круга, опять и опять возвращается он к одному и тому же; где и чем действительно начинается ваша история, он не может понять. И в каком времени, в какой географической точке, и в чем именно начало его личной вины? И как суметь ему, в самом деле, все свое о тебе наконец и тебе «р а с с к а з а т ь»?.. И не во сне – наяву рассказать...
Самое естественное, наверное, вернуться бы ему лет на двадцать назад и начать с вашего благословенного Крыма, с их воинского городка на окраине твоего города и вашей улицы и вашего дома в минутах ходьбы от части, куда он, с октября по июль, на третьем году своей службы и приходил к тебе в увольнения, бывало, и по два, и по три раза в неделю, и вы или сидели в твоей маленькой комнатке, или бродили часами по малоосвещенным окраинным улицам, а после, если не ссорились, подолгу стояли в вашем темном дворе, прислонившись к дощатому забору, и ему всегда так хотелось не уходить бы от тебя никуда...
Сколько раз ему так вот и видится – сесть и начать все с вашего Крыма я памятного ему твоего города, с их воинского городка и вашей фабрики рядом с ними, через пустырь, метров за девяносто от части, и как однажды осенью, в октябре, он, каким он и был тогда – «стеснительный сержантик», пришел к вам в цех и принес пригласительные билеты на вечер дружбы в их части, и как вы пришли к ним в клуб вечером на следующий день, и как ты и еще одна из вашего цеха, ваша красавица Томка, разыграли его на танцах – и что из всего из этого и получилось потом...
Он бы, наверное, и начал теперь с той вашей крымской осени и самого вашего знакомства, и такое начало было бы, скорее всего, и самым естественным для него и самым легким. Если бы...
Если бы не было в нем одновременно и этого вот другого, тоже и простого и очевидного, и что он знает в себе, кажется, всю свою жизнь: что истинное начало всей вашей истории – оно где-то далеко-далеко еще до самой вашей встречи и вот оттуда-то, издалека, ему и надо б ее начинать.
И память опять и опять возвращает его в их убогую курскую деревню и к тому самому зачуханному мальчишке, каким он и помнит себя. И все, чем он жил тогда, особенно – в потаенном своем, неведомом и не доступном другим, все, конечно, имело и самое непосредственное отношение к Тебе.
Да только вот – как об этом ему сейчас т е б е рассказать? Все-все-все тебе рассказать. Разве он не пытался уже...
И тогда (и опять в какой раз) он хотел бы начать, может, с самого простого и непосредственного, уже из нынче, из нынешней своей жизни, хотя бы с такой вот очередной своей ночи. Начать – и повести свой разговор для тебя – как будет он сам собой получаться, лишь бы только в конце концов «рассказать тебе все».
Рассказать, высказаться тебе – и с этим, может, действительно дать отпущение и этой вот своей скрытой боли (о чем ты, естественно, никогда и не догадывалась сама), и своей неизжитой вине. И уж потом, или опять же – с этим, освободив себя от навязчивой памяти своей, постараться разделаться до конца и с нынешней своей хворью. Ведь не сло́ва же ради повторяет им почти каждый день их неумолимый в своей методике Доктор: «От чего заболели, тем и лечись...»
Лежит, один в своей комнате, на жестком своем диване, не спит. Но это, правда, уже не та мучительная бессонница. Доктор – их ироничный, и часто безжалостный к ним, «слабакам», Доктор – на первый раз, как он выразился, решил п о ж а л е т ь, его, выписал ему свою особую микстуру, «из красного шкафа», и он теперь время от времени и спасается ею. Микстура Доктора и напряжение снимает, и действует как снотворное. Но главное, и в этом тоже за короткий срок уже помог ему Доктор, что он не боится больше своей бессонницы, по крайней мере, привыкает не бояться ее, разумно сосуществовать, «сожительствовать» (говоря словами Доктора) с нею. И если сон не приходит, он и не старается мучительно во что бы то ни стало уснуть. Расслабит все мышцы тела (чему, в первую очередь, и учит их на своих сеансах Доктор) и «уплывает» куда-нибудь, думает о чем-нибудь своем. Да, так оно у него и получилось, так вот и получилось, что к своим сорока годам он нежданно-негаданно нажил себе такую отвратительную хворь – давление, неврозы, боли в сердце, бессонница, моментами пугающее ощущение страха... Хотя, конечно, как он теперь это видит, какое там «нежданно-негаданно»! Ведь столько лет чувствовал, как подбирается она постепенно, как все заметнее прорастает она в нем, да только ни сам ничего в таких делах не понимал, ни те врачи-терапевты, к кому он время от времени обращался, дальше своего привычного не заглядывали. Вот и продолжал он, всем дурацким образом своего поведения, и дальше выращивать эту хворь. Пока, как смеется их едкий Доктор, «уже и всерьез не шарахнуло...»
В Курске, после того страшного приступа спазмов, что настиг его в деревне у сестры, едва выкарабкался: после трех с половиной недель больницы ехать домой к семье на Урал пришлось с сопровождающим. Тут тоже – из одной больницы в другую. И фактически никакого улучшения, в любую минуту может прихватить. Надоело, да и стыдно в его-то годы вызывать «скорую».
И еще эта нынешняя бессонница – нажил в последней больнице. Никогда в жизни не думал, до чего – до каких страхов перед нею – может она довести. Главное же, врачи – были ведь и хорошие, опытные и терапевты и невропатологи, – так и не сказали ничего определенного. Они вроде и чувствуют, что он не совсем и х больной, но и не говорят этого, сомневаются или не знают толком, что в таком случае сказать, и продолжают назначать ему привычное им медикаментозное лечение да всякие там электрофорезы и души, от которых ему еще хуже.
И постепенно он сам понял, к а к о е ему нужно лечение и к а к о й ему нужен врач.
И он стал искать его. По слухам, через знакомых, через случайные разговоры. Но все равно все ближе и ближе к тому, что искал. Потому что он обязательно должен был быть где-то, такой вот Доктор. Его просто не могло не быть, раз есть такие больные...
И вот, похоже, нашел. Фактически, одного-единственного – занимающегося практическим делом – психотерапевта на весь миллионный город. Да и того – при одной заводской поликлинике, подальше от главных лечебных центров.
Но он, Доктор, видно, крепкий мужик. Говорят, лет восемь работал по своей методике почти подпольно, полулегально, под видом невропатолога, – и не дал, не позволил затоптать себя, заставил и считаться с собой, и признать себя. Для этого же, чтоб уметь защитить себя и свои права, дополнительно юридический факультет закончил. И вот – добился-таки своего, вышел наконец из «подполья», инстанции официальную ставку психотерапевта для него дали, и кабинет в заводской поликлинике дали, и сестру-лаборантку дали, занимается ими в смежной с Доктором комнате. И репутацию тоже, надо сказать, создал себе: на недели вперед на прием к нему очередь.
Его-то, этого Доктора, он и отыскал в конце концов. И сумел попасть к нему на прием. И Доктор, после их долгой, более часа, беседы, сказал, что берет его к себе, включит его в одну из своих групп – ежедневно ходить к нему на сеансы.
В общем, как это говорится в йоге: если ученик готов, гуру[1] 1
Учитель.
[Закрыть] приходит, – нашелся и для него свой доктор. И он уже сколько вот времени каждый день, кроме субботы и воскресенья, ходит к нему. И теперь просто не представляет, что жил до сих пор, не зная ни самого Доктора, ни тех – недоступных пересказу – состояний, что испытывают они у него на сеансах. Да у них там и у всех ощущение, что только теперь и открываются глаза на себя. И на всех окружающих тоже. И привыкают «любоваться» собой не такими, какими мы сами себе хотели бы нравиться, а какими на самом деле мы есть.
Собственно, контакт с Доктором получился у них с той первой их встречи, с первого разговора, а то, конечно, не попасть бы ему сразу вот так на сеансы: слишком много нуждающихся. Но так уж тогда получилось, что чем ни дольше длилась у них беседа, тем лучше и чувствовали и понимали они один другого. Жена ожидала его в коридоре (тогда он не рисковал еще ходить один далеко), а он сидел больше часа у Доктора и с полной доверительностью отвечал на все его, большей частью непривычные, вопросы. И с той встречи он и поверил в этого, с виду и неприветливого и жесткого, едкого на слова, довольно-таки «нестандартного» Доктора. Поверил уже потому, что э т о г о Доктора интересовало прежде всего самое главное в нем – чем он живет, человек, и о чем другие врачи (не в обиду им будет сказано) никогда и не додумывались интересоваться или просто не считают нужным для себя.
Но и Доктор, кажется, тоже тогда же, с первого их разговора, похоже, поверил в него, что не будет он, Доктор (как и это случается), тратить зря на него и силы, и время. Но это, конечно, как оно еще все получится, как оно будет там все впереди.
А помимо тех устных бесед, Доктор как обязательное повелел каждому из них написать историю своей болезни – собственную историю своего заболевания. С самого начала и как можно подробнее, не скрывая ничего. Написать, кто как сумеет и у кого сколько получится.
И он тоже написал свою историю и отдал Доктору – полтора десятка страниц. Кажется, все про болезнь написал, и с полной откровенностью, как и велено было. Даже о своей навязчивой памяти о тебе...
Но, конечно, не думает он, что беглая эта его записка много расскажет Доктору. Как он теперь начинает понимать, наблюдая и других пациентов у Доктора, чаще всего «основную» свою болезнь каждый из нас «выбирает себе сам» или «выращивает ее в себе». Вот и попробуй тут сумей расскажи, как и когда «выбираются» нами и как вызревают в нас наши болезни: как совершается в нас шаг за шагом наше насилие над собой. Ведь для этого надо бы воссоздать всю свою жизнь...
(...А, собственно, разве не то же самое и он все пытается поймать в своих воображаемых «разговорах» с тобой? Разве не ту же самую «историю болезни» или хотя бы какую существенную часть ее хотел бы он теперь написать? Но только и добивался вот до сих пор, что и еще и еще раз возвращался в один и тот же тупик. Опять и опять замыкал на себе самом цепь. Теперь, прозревая у Доктора, он все большей больше начинает понимать это.)
...Да, вот такие у него тут дела, такие дела, товарищ гражданка Лида. Такие дела... И если честно, то пока не совсем веселые. Даже вовсе пока невеселые. Угораздило его, что и говорить. Да и как угораздило, попробуй вот вылези еще!..
Но тут ему, как говорится, и поделом. В конце концов, за все надо платить. И за дурацкий этот характер свой, и за сделанное и за несделанное тоже. И он и никогда не увиливал, это-то правда, и теперь тоже не собирается: задолжал, так, значит, будь добр и плати.
Но он и верит, что рано или поздно он все-таки выйдет из тупика. И теперь уже, кажется, не без помощи этих сеансов у Доктора. Что-то существенное, главное открывается в них из сеанса в сеанс. Открывается... о чем, наверное, и сам Доктор не может подозревать...
Да, вот такие у него тут дела. Такие дела...
А ты там живешь себе – и ничего этого не знаешь о нем, ничего-ничего. Точно так же, как и он ничего о тебе.
Живем – и не знаем...
* * * *
– ...Так, с е л и, с е л и, – говорит Доктор, – с е л и. Довольно болтать, начнем заниматься. Колени расставлены, корпус в свободном положении, голова опущена. И расслабились...
И все, кончилось их ежедневное свободное собеседование, когда они по очереди докладывают Доктору о самочувствии и отчитываются перед ним за прожитые сутки. Теперь – святая святых их лечения – сеанс, и тут уж Доктор не дозволит ничего, не относящегося к делу. Да и они сами каждый раз уже с нетерпением дожидаются этой команды – и с особым, только им понятным предощущением предстоящего трудного удовольствия готовятся к началу сеанса: ослабляют обувь и одежду, усаживаются поудобнее, чтоб не мешать друг другу, и принимают нужную позу. Мужчины и женщины, пожилые и не очень, есть и совсем юные. Учителя, инженерно-технические работники, бывший военный летчик, библиотекарь, тренер, журналистка, официантка... Сидят, двенадцать-тринадцать человек, в маленьком тесном кабинете, на стульях у стен, ноги к середине, почти не оставляя места Доктору – ходить во время сеанса.
А он – в куцем белом халате, обманчиво щуплый, но зато с впечатляющей крупной красивой головой, украшенной поседевшей густой шевелюрой (хотя ему, Доктору, тоже всего лишь под сорок), и с ухоженной черной бородой, с умными, сильными и глубоко упрятанными глазами – переставляет по какой-то надобности, а скорее, лишь бы скоротать время, какие там есть предметы на своем столе и ждет-ожидает, когда же они все усядутся наконец.
– Так, так, – жестко, с нарочито подчеркнутым хозяйским правом говорить с ними именно так, начинает обходить их Доктор. – Так... Плечи напряжены, расслабьте плечи. Расслабьте, расслабьте, вот так. И находите положение, чтоб было полнейшее равновесие тела.
– Так...
– А вы! Еще, еще назад. И спину! Расслабьте спину, опустите плечи. Опускайте, опускайте. Еще... И расслабьтесь. ...Хоть тут расслабьтесь, а то всю жизнь в напряжении. Жизнь проживут, а свободно держать себя не научатся – все оглядываются, все виноваты перед кем-то. Почувствуйте себя хоть тут людьми!
– Руки! Опять сжаты и кулаки! Разожмите, расслабьте пальцы. Ваши руки – зеркало вашего нервного состояния, вот и контролируйте себя.
– И еще больше расслабились...
Сидят, опустив головы, корпус в свободном равновесии, колени расставлены, руки лежат на бедрах. Глаза пока открыты, но никто ничего не видит – н е д о л ж е н видеть: взгляд обращен вовнутрь, «в самого себя».
Доктор ходит – проверяет, как они сидят, позволяет себе небрежно задеть кого случится: не в его натуре и манере слишком церемониться с ними. Потом останавливается перед настенным зеркалом, где рядом навешаны одна на другую нужные для их занятий таблицы.
И стоит там, молчит. Минуту? две? три? И что он: углубился в таблицу, в схему «маятника эмоций» – от «ада» к «раю»? Или – перед зеркалом, разглядывает себя, выдергивает из подкрашенной черной своей бороды седые волосы? – попробуй кто из них осмелиться поднять голову и посмотреть. В крепких руках держит их Доктор, в крепких. Жесткий, а то и откровенно грубый с ними. И они все до одного тут побаиваются своего Доктора. Боятся; но и любят, и верят в него...
...И все-таки долго любуется он там в зеркале на себя, что-то долго. Забыл он там, что ли, о них?..
– Каждый занят только собой! – обрывает эти их праздные мысли Доктор. – Только самим собой. Только расслабление. Еще больше расслабились. И ничто постороннее для вас не существует сейчас...
Еще какое-то время стоит Доктор перед зеркалом, в полном молчании; и теперь идет в свой угол, за свой стол.
Щелчок: включил магнитофон. Весь сеанс проходит на фоне музыки, специально подобранной Доктором спокойной, умиротворяющей музыки, и каждый из них уже ждет ее. С музыкой легче отключиться от всего постороннего, внешнего – и сосредоточиться только на самом себе, на тщательном выполнении тех команд, что будет давать им Доктор.
И вот начало.
И маленький их кабинет заполнили – и сразу как бы раздвинули – тихие, привычные уже им, звуки органа.
Последующие десять-пятнадцать минут трудно описать так, чтоб читатели хоть приближенно почувствовали то состояние, что испытывают натренированные пациенты во время расслабления на этих вот сеансах у Доктора, – это надо испытать.
Поза «кучера дрожек», уже описанная выше: сидя на стуле, колени расставлены, корпус в свободном равновесии, голова опущена, руки лежат на бедрах. Глаза сначала открыты – «взгляд обращен в себя»; потом закрыты. Полное расслабление тела. И – внимание дыханию, «дыхательное удовольствие». Постепенно дыхание становится замедленным, и все более углубленным, равномерным. Сердце входит в сосредоточенный, спокойный ритм.
По командам Доктора – еще большее расслабление мышц головы, мышц лица, шеи, рук – вообще всех основных мышц тела. И мысленный массаж их: тщательный мысленный массаж – до иллюзии реального физического массажа, до реального ощущения тепла в «массируемых» частях тела.
И с этим – все большее и большее приятное ощущение расслабленности всего тела, все большее «неощущение» себя, иллюзия наступающей невесомости: будто так вот, сидя, постепенно всплываешь и как бы таешь в некой приятной среде.
И – музыка. Тихая, спокойная, успокаивающая. И ты, расслабленный и невесомый, постепенно как бы сливаешься с нею и где-то летишь, летишь...
И на фоне музыки время от времени – голос Доктора, теперь уже совсем другой голос: ровный, мягкий, глубокий. Теперь Доктор и сам тоже все глубже и глубже уходит в стихию сеанса, проникается их состоянием и ощущением, и его слова и его голос – словно теплые волны для них; и так легко, так естественно переключают их его тихие команды с одного состояния на другое.
Нет, это не гипноз, они не спят.
Но все равно: это особое, ни с чем не сравнимое состояние так называемого т е л е с н о г о с н а, когда тело действительно как бы спит – отдыхает в полнейшем, своем расслаблении, а сознание – бодрствует и то «уплывает» куда-то вместе со своенравным полетом мысли, то опять «спохватывается», возвращается назад в этот кабинет и усердно занимается тем, чем и положено им заниматься у этого Доктора.
...О, ну как же, ну как же! ну конечно же, конечно же! он представляет.
Еще бы, он хорошо представляет и твое недоумение, и скрывавшую бы это недоумение невольную улыбку твою, если бы ты увидела сейчас, ч е м он занимается тут. Каждый день, каждое утро, с 9 до половины 12-го. Кроме субботы и воскресенья...
Но ты там, понятно, живешь своей жизнью и ничего не знаешь о нем. И не знаешь, естественно, что и тут, на этих вот сеансах, ты все два часа с ним, – все два часа, каждую минуту, каждый миг, всегда. Так уж это получается тут у него...
И этим ты постоянно мешаешь ему, мешаешь. Мешаешь потому, что он все время – все время – «уплывает» невольно к тебе. Все время мысленно «уплывает» к тебе, мысленно разговаривает с тобой, когда – ты же понимаешь – надо сосредоточиться и заниматься совершенно другим. Это еще хорошо, что Доктор не знает, ка́к управляет он тут собой, а то получил бы он от него. Это еще хорошо, что Доктор не знает.
– С закрытыми глазами п о ш л и в н о ч ь, – вводит новую команду Доктор. – Вызвали зрительное ощущение темноты, ощущение густой темной ночи.
– Только ночь. Только густая, темная, мягкая черная ночь...
Вот такая команда. И хотя они заранее знают о ней и внутренне как-то готовятся, все равно она застает их как бы врасплох. То есть, у них не получается, у него, по крайней мере, не получается, чтобы сразу вот так переключить сознание с предыдущего упражнения и зримо представить себе, у в и д е т ь эту черную ночь.
Не получается это никогда сразу...
И сначала приходится с усилием концентрировать внимание на представлении черного, с усилием вызывать в воображении это черное, эту густую черную ночь. Чтоб только потом, постепенно, после чего-то неясного, после слепой серой мути, чего-то мутного темного наконец-то проявился и очистился настоящий ч е р н ы й ф о н.
– Ночь, ночь... Густая, темная ночь...
– Представили себе ее – эту густую, темную, мягкую черную ночь. Вы одни, и перед вами – только ночь, только темная, черная, мягкая ч е р н а я ночь.
– Представили ее...
Голос Доктора – мягкий сейчас, бархатно-мягкий, бархатно-темный, черный. И говорит он – словно и сам, вместе с ними, уходит все дальше и дальше в эту густую, темную, мягкую черную ночь.
– Только ночь. Только мягкая черная ночь.
– Представили себе ее – мягкую, черную, непроницаемую.
– Близко рассматривайте ее, трогайте ее, касайтесь ее... Ощущайте ее, густую и мягкую, погружайте в нее свои руки – их не видно совсем... Кутайтесь в нее, как в мягкое черное покрывало; входите в нее...
– Только ночь... Только густая, темная, мягкая черная ночь...
Доктор то ходит по тесному их кабинету, то остановится и долго молча стоит. А они – каждый, кто как умеет, у кого как получается, – еще и еще вызывают зрительное ощущение густой темной ночи, вспоминают и стараются удержать в воображении бывшую когда-то им в действительности густую черную ночь.
– Только ночь.
– Только мягкая, черная, теплая ю ж н а я ночь...
Вот такая команда...
И ты, конечно, сама понимаешь, что он-то тут больше других старается представить эту вашу ч е р н у ю ю ж н у ю ночь, вспомнить их, ваши к р ы м с к и е н о ч и. Что всеми мыслями своими, всей неизлечимой памятью своей он давно уже там, в вашем Крыму. Да и где ж ему быть еще, где ему быть?..
Где ему быть еще, если его (через все, через всю его нынешнюю жизнь) постоянная навязчивая мысль – о тебе, постоянная навязчивая память – с тобой, постоянная навязчивая вина – ты. Где ж ему еще быть?..
...И все равно, все равно; все равно он осматривается, ищет что-то глазами, пытается сориентироваться – где́ он. Ни на одном сеансе он не может представить какую-то «ночь вообще» и не знает, умеет ли кто. Лично ему всегда надо увидеть какую-то конкретную ночь, в каком-то конкретном месте, где подобная ночь ему в действительности была. Только всегда надо – «зацепиться» за что-то, за какой-то знакомый ориентир.
Темный фон, густая темная ночь. (Белым днем, утром, на четвертом этаже заводской поликлиники, на Урале, в кабинете у Доктора, сидя на стуле, голова на груди, закрытые глаза, расслабленное тело, музыка...)
Но – все равно; все равно – где он сейчас, где? В Симферополе, в Севастополе, в Ялте? ...Или, похоже, в Коктебеле, в Планерском? В свой последний приезд к вам на юг, ночью один на пустом черном пляже?..
Да, кажется, в Коктебеле, за турбазой «Приморье», в Планерском. Ночью – на пустом пляже. Почти каждый вечер поздно уходил сюда на берег, только не на сам пляж, а левее по берегу, в сторону Мертвой бухты; садился там над обрывом, слушал, как накатываются на берег тихие волны залива, и думал о своем. ...И не знал, даже не подозревал, что в эти же самые дни ты была совсем рядом: в Судаке, с мужем, в санатории Министерства обороны. «Видно, не судьба...» – как напишешь ты ему позже об этом.
(Он бы и мог знать, что ты рядом, да вот не знал: н е с к а з а л и ему. И ждал, ждал конца своего отпуска, когда кончится срок путевки, чтоб лететь в тот древний русский город, где теперь жили вы. А ты была – совсем-совсем рядом. Вот тебе и «судьба»...)
Темная, черная ночь...
Тут, на сеансе, для них она должна быть – только спокойная, только успокаивающая. Уйти в ее темноту, раствориться в ней, слиться с нею, напиться ее покоем – вот их задача. И никакого «ухода», никакого блуждания мыслей.
А у него – почти никогда не получается, чтоб только ночь и покой. Не получается, не умеет отключаться он от тебя. Он не бездарный ученик, многому уже научился у Доктора, кое-что он умеет; но вот этого вот – отключиться в «ночи» от тебя – не умеет он, не получается. Каждое утро, «уходя в ночь», он обязательно в вашем Крыму, обязательно вот сейчас на берегу того самого залива. Там, слева, периодически минут через десять включался мощный прожектор и его белый луч скользил по заливу вплоть до бухты и подножия горы, и вот теперь он тут всегда старается сначала вызвать в воображении этот яркий белый луч, шарящий влево-вправо по ночному заливу, чтоб потом мгновенно погасить его и в контрасте с ним – б е л ы м – четче ощутить сплошную ч е р н у ю н о ч ь. (Все прочие другие огни залива тут на сеансе только бы мешали ему – и он старается их в своем воображении не вызывать.)
...Представь себе эту его ночь.
Вашу темную, черную южную ночь. С теплом от прокаленной за день земли и прохладной сентябрьскою свежестью с моря; со смешанными запахами соленой воды, выжженных трав и горькой созревшей полыни...
В Коктебеле, в этой Волошинской Киммерии, у подножия Биюк-Янышара, недалеко от тебя...
...Или это уже – Керченский полуостров, мыс Чауда? Безводный и каменистый, безжизненный мыс Чауда. И прекрасный пустующий пляж. И он один ночью на этом пляже, один на один с морем, с южной ночью. В первый раз он у моря – и не может он справиться с ним. Не может он наслушаться и постичь извечный шум его волн, не может он чего-то в нем уловить и понять. И чувств своих, что так стиснуты в нем, тоже не может высвободить, выразить их...
Это было еще тогда, в самом начале, он еще не знаком был с тобой, еще не встретились вы. Но все равно, все равно...
Один, как и всегда в этой «ночи», один. И сплошная, непроницаемая, густая черная тьма...
– Только ночь... – мягко напоминает им Доктор. – Только мягкая, теплая, черная южная ночь. Вызывайте ее в своем воображении, сливайтесь с нею, проникайтесь ее величественным покоем...
...А он посидел еще в сплошной черноте на мысе Чауда – и вот уже нет его там, на вашем юге, нет его там, в вашем Крыму. Своенравной комбинацией клеток головного мозга он уже унесен оттуда, переброшен куда-то еще, в какую-то иную ночь. И вот – опять мечется тут его «зрение», ищет в этой новой ночи какие-то знакомые ориентиры, чтоб увидеть и узнать – где ж он теперь.
Где ж?
А глаза (там, в ночи) – открыты, руки – вперед, и он, в сплошной о с е н н е й н о ч н о й ч е р н о т е, шаг за шагом, почти что на ощупь, осторожно идет и идет... в самую глубь этой ночи на целине, в самую глубь...
...И с каждым шагом надо быть осторожней. Где-то совсем близко должны стоять плуги, культиваторы, сцепки с боронами. Полевой стан их бригады.
Быстро оглядывается назад – и точно: чуть позади, справа, в черноте ночи, маленький огонек: светит окно их «бригадирского» вагончика... И там, он знает, сидит сейчас, на чемодане, согнувшись над своей нижней полкой (еще одна его память) – Петро Галушко и, зажав в черной трехпалой клешне своей карандаш, пишет – все никак не найдет нужных слов – письмо своей Марине в далекое Гуляйполе...
Как задолжал он и этому своему Галушко, комбайнеру и трактористу их бывшей Второй тракторно-полеводческой бригады, как задолжал! И как долго не может вернуть он свой долг! Не может он, почему-то не может – написать об этом самом Галушко отдельно от тебя, от всех вас; почему-то не может, слились вы в нем все в одно и не разделяетесь. А он, Петро, как и все, – ничего он об этом не знает и, конечно же, думает, наверное, там у себя, что он уже совсем забыл о нем – их бывший помбригадира, совсем забыл...








